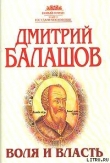Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– Что, нравится? – строго спросил Александр.
– А то-о! – опять без малой самоотчетности отвечал Пысой.
– Вот когда слова эти будут повергать тебя в стыд и неприятие, тогда и в обитель приходи, а до той поры будешь взбрыкивать, аки меск.
– Так ведь – Биб-ли-я же, писание священное! – огорчился Пысой.
– И то тебе надо постигнуть, что писание бо много, но не все божественная суть. Надо обрести правые списки, по возможному согласные разуму и истине.
– А зачем же ты переложил с греческого не то с арабского на общепонятный язык, если это не правый список? – нашелся Пысой, и Александр стал втолковывать ему, что нравственная чистота отнюдь не во внешних действиях выражается. Потом достал новый свиток пергамента, зачел из него:
– «Целомудрие же и чистота не внешне точию житие, но и сокровенный сердца человек егда чистотствует от скверных помысл». Так не я говорю, но великий учитель наш преподобный Сергий из Радонежа.
– Значит, я человек и в миру непригодный, раз Живана меня отвергла, и для постнической жизни не гожусь, видно, в тени я родился… – Пысой приуныл, так что Андрею жалко его стало, он вступился:
– Но, Александр, преподобный Сергий призывает большую терпимость изъявлять по отношению к тем, кто не хочет или не может следовать нашим жизненным правилам. Сказано им: «Ты, человече Божий, таковым не приобщайся, не подобает же на таковых и речьми наскакати, ни понощати, ни укороти, но Богови оставлять сия». – И, уж обращаясь к Пысою одному, добавил: – Более всего бояться надо, чтобы в душу к нам не закрались печаль и уныние, человек должен всякую скорбь отметать умною молитвою и чтением, упразднять ее сообращением с духовными людьми и беседами.
– Знаем мы с братом Андреем по себе, – сказал Александр, – что самое страшное, когда печаль и скорбь переходят в уныние, люта эта страсть и тягостна. Когда волны уныния поднимаются в нашей душе, теряет человек в это время надежду когда-либо избавиться от них.
– Пойдешь, Пысой, ко мне в помощники, будешь камешки для красок растирать, кисти мыть, доски… Хотя нет, досок не касайся покуда.
Пысой радостно согласился, и игумен одобрил:
– Станешь приобщаться к иноческому бытию, заниматься мысленным деланием, сердечным хранением, ибо высшая цель нашего существования на грешной земле – молитва. Но не простая, а умственная, внутренняя. Если молишься только устами, а не душой, то лишь воздуху молишься: Бог внемлет уму, только внутренним усилием можно достигнуть Бога. – Александр говорил еще о том, что внутренняя молитва служит не только средством для очищения нашего сердца и страстей, но является высшей целью иноческого самоусовершенствования.
Пысой не мог проникнуться сразу всеми обрушившимися на его неискушенный ум мысленными деланиями, не все вопросы практической морали, высказанные Александром и Андреем, были понятны ему. Слушал он с прилежанием, внимал благоговейно, а в душе билось радостной птичкой: «Андрей берет меня к себе, чего же лучше!»
6
Многие, и Феофан в их числе, удивлялись, что взялся Андрей великокняжескую повалушу расписывать, в придворные художники определился. Андрей, не вдаваясь в подробности, говорил просто:
– Любезен мне издавна великий князь Василий.
Он правду говорил, однако же не всю. А в чем заключалась полная правда, первым и сразу же понял Феофан.
– Предивная хитрость, пречудная красота! – восхищались и свои люди, и иноземные, жившие в посольском подворье Кремля.
– Как красоте нэ быть, когда Андреа руку приложил, – сказал бездумно Феофан, а потом позорче присмотрелся, посерьезнел и так вывел – Тонкостное и предерзновенное письмо, ровно бы дымом писано.
И пока лишь один Андрей понимал истинную цену этих слов, все в похвале великого Грека тонкостность письма находили главным, а значение дерзновенности не улавливали.
Горница, да повалуша, да меж ними сени – это обычная форма русского жилья, кому бы оно ни принадлежало – великому ли князю да боярину или крестьянину да ремесленнику. Обыкновенная русская крестьянская изба, срубленная в великокняжеском дворце для государева житья, сколь бы богато ни была расписана и изузорена, дорогими тканями убрана, оставалась все-таки избою по своему устройству, с теми же передними и кутными углами, лавками, коником, с той же мерою в полтрети сажени. Она и название общенародное сохраняла – изба. Но, конечно, была у великого князя изба многожильная: над одной – вторая, затем третья, а уж самая последняя – горница.
И резное дело, как и роспись, в великокняжеских хоромах по рисунку и исполнению отмечены были тем же нравственным началом, что и при обряжении простой крестьянской избы. Само собой, конечно, мастера тут выказывали больше затейливости и замысла, потщательнее да почище исполняли работы, однако характер художества оставался неизменным. И подобно подлинникам – раз. навсегда заданным образцам для письма церковных фресок и икон, так же и украшение избы делалось по ознаменникам – рисункам, которые рабски переводились с искони принятых, заученных и освященных веками примеров. Не могло быть и речи о проявлении какой-либо смелости и самостоятельности, да это казалось и ненужным: все в жизни велось по старине да по пошлине, сегодня так, как вчера, завтра – как сегодня.
И вот Андрей Рублев дерзнул сбросить цепи, которые с угнетающей силой сковывали воображение изографов и вынуждали их с младенческой наивностью изображать заморских львов, грифонов, райских птиц, сходство которых с натурой можно было подтвердить только предыдущими образцами, но не самими рисунками. Даже и человека самого изображали так, словно никогда его не видели, а если видели, то вовсе не умели рисовать.
Феофану достаточно было взглянуть хотя бы на травы, нарисованные Андреем, хотя бы на то же спелое яблоко боровинку, чтобы понять: тут нет ни повторений, ни заученных образцов, ни скудности и сухости, ни раболепства – тут творчество! Но даже Феофан не знал, что подвигнуло Рублева на этот шаг – расписать повалушу по-своему.
Малые дети из семьи великого князя – пятилетняя Анна, на два года старше ее Петр и самый младший из всех, недавно говорить научившийся Константин – бегали вдоль стен повалуши, радостно тыкали пальчиками в рисунки, спорили, какой из них лучше. Самый старший из княжат Андрей (ему уже десятый год шел) был вершителем, он отвечал на детские вопросы о том, кому отдавать предпочтение – пестрой ли черно-белой сороке со ступенчатым хвостом или сиреневой строгой вороне, тополю, липе или березе, простодушному цветочку ромашки или боярыне-розе, лошади скачущей или же мирно пасущейся на изумрудном лугу.
Андрею доставляло радость наблюдать за детьми. И вдвойне было радостно ему знать, что Феофан Грек умеет, оказывается, чужие святыни уважать: не то лишь хорошо, что он рисунки похвалил (хотя и это одно уже дорогого стоит!), а то, что пощадил – таки нательный крестик из лазурита, сказал, что сделал голубую краску из смешения разных трав – вайды, василька, черники да сон-травы.
Не только Феофан, все сплошь люди вокруг до того славные! Сколь отрадный разговор с великим князем состоялся нынче…
На дворе смерклось под вечер как-то внезапно, как всегда это бывает в феврале – кривые дорожки. Сначала крупные снежинки стали редко носиться в воздухе, словно бы не падали с неба, а толклись, играючи, на одном месте вниз – вверх, направо – налево, снова вверх – вниз… И становилось их все больше и больше, все гуще и непрогляднее становился свет за окном, пока вдруг, в одно мгновение ока, запуржило, уж не играючи и не шутя: решительно, свирепо завыл ветер, а плясавшие снежинки так зачастили, что превратились в сплошное неистовое месиво.
– Дьявол играет! – сказал великий князь и предложил Андрею остаться ночевать нынче в Кремле.
Андрей, уже вздевавший на руки тулупчик, заколебался, а Василий стал уговаривать – соблазнял тем, что очень весело будет вечером в потешной хоромине, что и в шахматы можно будет позабавиться при ярких свечах, а вдобавок сказал таинственно:
– Если останешься, я тебе свою тайну о Каине и Авеле поведаю.
– Вот если поведаешь, – хитро улыбнулся Андрей, – если это действительно тайна, то останусь.
– Да, поведаю то, чего не ведает никто! – Василий Дмитриевич имел сердце доброе и общительное, а нынче он был в особо хорошем благорасположении: добрые ведомости принесли ему гонцы и из Нижнего Новгорода, и из Новгорода Великого, и из Орды.
Они прошли вдвоем в отдельную палату, располагавшуюся в подклети терема и называвшуюся потешной хороминой: здесь в казенках, поставцах и скрынях хранились струменты: бубны, сурны, дойры, волынки, гусли с металлическими или жильными струнами и молоточками, обтянутыми сукном. Палата рассчитана была на многолюдство, потому преизрядно тут было скамей – простых на четырех ногах и с проножками, а также с переметом, у которых решетчатые спинки переметывались на вертлюгах; были скамьи малые передаточные и большие спальные с взголовашками на одном конце.
– Садись! – предложил великий князь, и Андрей вознамерился сесть на столец – обрубок толстого дерева, однако Василий не допустил этого: сам сел в кресло с ручными помочами и подручками, а Андрею указал на такое же почти, но только еще более удобное – с подножной приступкой внизу, весело пояснил: – Гостю – красное место!
– Благодарствую… Так за что же Каин Авеля убил?
– За то, что тот отказался иконы писать! – В игривом настроении был государь.
Андрей ответил в масть:
– Значит, из нас двоих Каин – это ты?
Василий оценил шутку, улыбнулся, а тут же и посерьезнел, сказал, близко глядя в лицо изографу:
– Знаешь… Я все думал, думал… О том думал разговоре с тобой… Ты тогда удивлялся: почему земледелец Каин убил скотовода Авеля, а не наоборот, что степняки – хищники, а оратаи домовиты… И как же понять это разумение, как уразуметь понимание? А вот как: справедливые и праведные люди, оседлые и возделывающие землю, взращивающие хлеб насущный, и должны взять верх, должны победить, это и предопределено самыми первыми детьми Адама и Евы в назидание всем поколениям до скончания века, до Страшного Суда.
Андрей был изумлен. Как много сам он об этом думал, сколь много с братией говорил: никто из иноков и высокоумных книжников в монастыре не умел так внятно ответить.
– Ты прочитал об этом в книге или своим умом понял?
– Разве же есть об этом в какой-нибудь книге? – огорчился Василий.
– Нет, я не встречал. Значит, своим умом?
– Да, своим… умом, – Василий смутился, краска прилила к лицу и даже видна была сквозь пушистые светлые волосы коротких усов и бородки.
И это растрогало Андрея: государь, великий князь всея Руси, а умеет еще смущаться, краснеть. Но больше всего, конечно, удивляло, ошеломило даже, что вот он все думал, выходит, не зря думал! Какое это счастье для Руси, что государь ее и молод, и думать умеет!
– Да, да, княже, хорошо… И потому, значит, Каин был самым первым человеком, родившимся на земле, чтобы все крепко-накрепко знали: первый человек – это земледелец, он соль земли… Но, однако, почему же таким дерзновенным изображен Авель у Феофана Грека?
– Все потому же, – И на этот вопрос, как ни странно, имел ответ великий князь. – Степняки-скотоводы ведь очень сильные, гордые и выносливые люди. Возьми тех же татар. Нешто Русь терпела бы их столько, будь они слабыми да робкими?
Когда зашла речь о татарах, Василий видимо опечалился, сказал, что вот опять ему надо в постылую Орду ехать, опять Тохтамышу кланяться – тому самому Тохтамышу, которому не может быть прощения за жестокое его разорение Москвы.
Андрей ведь тоже был очевидцем страшного несчастья: такое, говорит, можно вынести только один раз в жизни.
Вспомнили, что оба они очень хорошо знали перебелыцика рукописей Олексия, которому татары отрубили обе руки и который умирал потом долго и трудно.
– Мало успел сделать Олексий, а зело талантлив был, я любил смотреть, как он пишет да буквицы рисует, – сказал Андрей. – Помню, Псалтирь он отцу Сергию поднес на Благовещение, дивная книжица.
– Он и для меня по заказу отца моего тоже Псалтирь переписал. Она чудом не сгорела, в скрыне была, а татарам, грабившим терем, видно, не показалась чем-то, полоснули ее саблей, угол один отрубили. Вот, смотри.
– Нет, то была не такая.
– Лучше, хуже? – ревниво спросил Василий.
– Просто наинак сделана… Там строго, а тут, смотри-ка, потешно, знал, в чьи руки попадет Псалтирь: ты ведь, чать, дите еще был?
– Постриг и посажение на коня уже прошел, с отцом на рать ходил!.. Десятое лето мне шло.
Василий и Андрей склонились над раскрытой Псалтирью, рассматривали забавные рисунки и громко смеялись. Они похожи стали на расшалившихся, забывшихся в игрище детей, и премного были бы удивлены званные нынче на вечер в потешную хоромину иностранные посланники, если бы пришли чуть раньше и застали бы их – государя и монастырского чернеца, столь до самозабвения увлеченных рассматриванием картинок.
– Смотри-ка, букву «р» сделал как человека с поднятой банной шайкой в руке.
– Ага, а чтобы уж никто из малых детей не усомнился, что все верно нарисовано, приписал. «Обливается водой».
– Как-то чудно он обливается – в одежде, смотри, в белой подпоясанной рубахе до колен и в синих штанах…
– Да, маленько недодумал Олексий, царство ему небесное!
– А букву «м» как здорова придумал изобразить! – восхитился Андрей, рассматривая рисунок: два рыбака тянут сеть, левая мачта буквы – один рыбак с клячей в руках, средняя часть – сеть с рыбами, правая мачта – другой рыболов. Видно, сам большую радость от работы испытывал художник, мало и тут ему показалось рисунка, добавил от себя: «Потяни, корвин сын», – говорит один рыбак, а второй в ответ ему: «Сам еси таков».
– Помню, боярин Кошка сильно бранил Олексия за то, что он отсебятину вносит, когда текст перебеливает.
– Хорошо, что отсебятина, – весело возразил Андрей. – Без нее разве бы стали мы с тобой так радоваться. Смотри: букву «в» как придумал делать, эх и глуздырь был этот Олексий! Я бы не додумался… А хорошо раньше было в Москве зимой: бывало, идешь, а на улицах костры разложены, можно руки озябшие погреть, посидеть у огня, вот как этот человек, Олексием нарисованный.
Василий посмотрел на рисунок, на котором длиннобородый человек присел на корточки и протянул руки к небольшому ярко-красному костру, прочел отсебятину – «Мороз, руки греет», ответил со вздохом сожаления:
– Больно страшно погорели мы, как вспомнят люди о том пожаре, всякая охота руки греть пропадает – не самолично один я костры раскладывать запретил на улицах… Каменный город надо строить. Храмы все будем ставить на века, вот только где каменных здателей да изографов хороших найти…
Феофан нарасхват – и дядя Владимир Андреевич его манит в Боровск да Серпухов, и Юрик свой Звенигород отстраивает. Надеялся я зело крепко тут на одного своего изографа первостатейного, а он подводит…
– Кто такой?
– Да рядом со мной сидит.
Посмеялись, Андрей посерьезнел, после долгого молчания сдержанно пообещал:
– Вот съезжу, образуюсь, как Феофан выразился, тогда, может, наставит Господь, вразумит.
– Надо подсобить ему.
– Кому?
– Господу.
Андрей с укоризной посмотрел на великого князя, однако не сумел сдержать опять веселого смеха. Но это уж и последнее их легкомыслие было: начали собираться званые гости.
7
В хоромине заметно развиднелось, хотя свечей еще не зажигали. Василий и Андрей одновременно посмотрели в окно – пурга кончилась. Об одном подумали оба, встретившись взглядами, и молча объяснились: Андрей вскинул в изломе красивые свои соболиные брови – де, не судьба, значит, оставаться мне, на что великий князь негодующе погрозил перстом.
Если честно признаться себе, то Андрею и не хотелось уходить, влекло его остаться в потешной палате да послушать великокняжеских бахарей и домрачеев. Он умел радоваться и самым малым радостям, видел их там даже, где другие люди равнодушными оставались или даже впадали в уныние. Ну, не радость ли найти в лесу хороший гриб, а затем вдруг да и заблудиться, поплутать среди деревьев до темноты!.. Или с Пысоем, либо с Александром в городки сыграть, да еще и обставить фигуры на две!.. А сколь великое удовольствие рыбку в Яузе или в Красном пруду поудить – сорог оранжевооких, окуней с багровыми еловцами!.. Много, слишком много радости кругом, несказанно хорош Божий мир! Ночью выйдешь на монастырский двор, запрокинешь голову – там ковшик большой: зимой донцем вверх, будто проливает воду, чтобы не замерзла, летом – черпает будто. А вокруг тебя – люди, птицы, деревья, травы, все хочется видеть, впитать в душу и самого себя почувствовать в беспредельности этого прекрасного мира Божьего. И начинаешь чувствовать некое связующее тебя с бесконечностью начало, которое отвлекает душу решительно от всех житейских и земных забот – занимают они не больше, чем резной воротний столб у входа в монастырь; и начинаешь вдруг прозревать то, что долго и трудно искал и что сейчас словно бы само далось, – не это ли состояние называют люди счастьем?
В великокняжеском дворце жили старики, имевшие по сто лет от роду, а один старик, у которого уж и единого зуба во рту не осталось, был столь старым, что и сам не помнил, сколько лет ему – знал только, что давно уж второй век живет. Называли их все уважительно верховными богомольцами. Можно было бы именовать их и просто придворными сказителями, кабы не были они все слишком уважаемыми за благочестивую жизнь и ветхость дней. Называли их еще и верховными нищими, было на Руси нищенство не пороком, но доблестью.[56]56
Нищенствовать, просить милостыню – значило воспевать о милостыне, а не просто побираться. И это касалось не только придворных (верховных) нищих, но и бродячих, бездомных, которые, когда просили милостыню, тоже непременно пели, притом пели исключительно духовные стихи.
[Закрыть] Жили они все подле великокняжеских палат в особых помещениях дворца и на полном содержании и попечении государя.
В длинные зимние вечера Василий Дмитриевич, как до него Дмитрий Донской, а еще раньше того Симеон Гордый, Иван Калита, призывал верховных богомольцев в потешную хоромину, где в присутствии великокняжеского семейства и особо званных гостей они рассказывали о старине.
Менялись государи, умирали и приходили им на смену новые богомольцы верховные, но все они свято хранили свидетельства о событиях и делах минувших, о дальних странствиях и походах, свершавшихся не только на их памяти, но известных им по рассказам почивших в бозе предшественников.
А кроме них были еще слепцы домрачеи, которые распевали былины под домры, и бахари, говорившие песни и сказки, гудочники, певцы и плясцы. Все они были одеты в пожалованные великим князем дорогальные, для скитания по дорогам, кафтаны и рясы из недорогих, киндячных и смирных тканей, хотя на иных были одежды и из крашеных материй, кумачных или зеленых.
Андрей с любопытством наблюдал, как заполняется хоромина взрослыми и детьми, людьми знакомыми и незнаемыми, в одеждах привычных и чудных заморских.
Пришла и Евдокия Дмитриевна, великая княгиня непраздная – в окружении малых сыновей и дочерей. Как и подобает матерой вдове, сидящей на вдовьем столе – на отчинном владении своего мужа, она была, по нравам своего времени, активным деятелем государственной жизни, вместе с великим князем Василием заседала в советах с боярами, принимала послов. А Софья Витовтовна, хотя именовалась великой княгиней тоже, от общества отстранена была, являясь членом не светского, но лишь домашнего мира. Но в потешную хоромину они приходили вместе, как равные. И сейчас вошли они дружной парой, сели в кресла по обе стороны от Василия. Софья была уж чреватой, чего не мог сокрыть и покров – общепринятая на Руси целомудренная женская одежда, в коей не допускалось ни единой складки, могущей греховно обрисовать хотя бы и перси, без опоясья, коим можно обнаружить стройный лиф, с длинной постанью, дабы укрыть до пят белы ножки. Андрей вспомнил слова Феофана, восхищавшегося чистой, святой Русью, где все пристойно и целомудренно, чуть приметно улыбнулся этому воспоминанию, но Софья Витовтовна неверно, дурно поняла его улыбку и, чтобы отвлечь от себя внимание, повернулась к домрачеям и гудочникам, повелела капризно:
– Живее расскучайте нас!
А те только и ждали этих слов, сразу же стали играть небывальщину:
Сказать ли вам старину стародавнюю,
Саму небывалую:
«На синем море Мужики орут-пашут,
А по чистому полю корабли бежат,
Поросеночек в гнездо свивается,
Курочка во хлеве супоростилась»,—
задорно, с вызовом начал один домрачей, а второй стал урезонивать его:
Еще где же это видано,
Еще где же это слыхано,
Чтобы курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
Чтобы в середу-то мясопуст,
А в четверг уж разговеньице.
И все пошло своим чередом, весело и складно. В хоромине стало как днем: расторопные, неслышные слуги зажгли все свечи в паникадилах, висевших на в о з ж а х из красного бархата, в шандалах, укрепленных в простенках между окнами.
Домрачеи-певцы с гудебными сосудами начали исполнять толково, со вкусом песнопения и сказания не только о героях благочестивого подвижничества, но и о личностях действительной русской истории, о Борисе и Глебе, об Андрее Боголюбском…
Андрей слушал не без удовольствия, однако с сожалением отмечал про себя, что, подобно изографам, не отступающим ни на йоту, ни на самую малейшую черточку от прорисей, подобно монастырским летописцам, излагающим гольную правду без отсебятины, сухо и чопорно, по образцам, заданным еще Нестором, и домрачеи стоят совершенно в стороне от каких-либо своих личных воображений, умствований и устремлений – играют все по законам Бояна… Но только если изографы стеснены своими византийскими наставниками, если летописцы руководствуются исключительно любовью и пристрастным вниманием к памяти о делах минувших, о людях живших, то сказочникам, бахарям, домрачеям не заказано же переделать узнанное и услышанное на свой лад, сказать и спеть живым народным словом, подобно тому, как делают это бродячие нищие на торжищах, площадях, мостах, у городских ворот: раз возможно это в людных, перекрестных местах, почему же не делать этого в благочестивых домах? Ведь как небывальщину спели, чтобы великую княгиню расскучать, можно же складной народной речью поведать и былины со сказаниями о всем, что достойно памяти потомства.
И только-то посокрушался так Андрей, как бахари Богдашка да Любим Ивановы, вдруг как-то враз построжав лицами и посерьезнев, повели речь о делах совсем давних, но живо всем памятных:
– Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями? Игорь полки заворачивает: жаль бо ему мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другыи, третьяго дни к полудню падоша стязи Игоревы. Ту ся брата разлучиста на брезе быстрой Каялы; ту кровавого вина недоста, ту пир докончаша храбрии Русичи, сваты попоиша, и сами полегоша на землю Рускую…
Все в хоромине притихли, внимая слову о мятежной судьбе Игоря. И, точно уловив настроение слушателей, братья-бахари сыграли другую песнь о братьях-князьях. Опять вспомнили Каялу и недоброе небесное предзнаменование, но другим, счастливым уж, было тут воинское братство.
– Что шумит и что гремит рано пред зорями? – опять тяжкие сомнения перед битвой, опять желание угадать свою судьбу. Вопрошал это Богдашка торопливо, словно бы задыхаясь от волнения.
Любим успокаивающе поведал, что это брат великого князя Дмитрия Ивановича «полки пребирает и ведет к великому Дону».
А затем братья согласно и торжествующе скандировали:
Тогда князь великий Дмитрий Иванович
И брат его князь Владимир Андреевич
Полки поганых вспять поворотили
И нача их, бусорманов,
Бити и сечи горазно без милости
И князи их, падоша с коней, загремели
И трупми татарскими поля насеяша,
И кровию их реки потекли
Туто поганые разлучашася розно.
У Андрея запершило в горле, когда слушал он песню о жаворонке – красных дней утехе, и многие в хоромине не сдержали слез умиления, а больше всех, кажется, был растроган Василий Дмитриевич.
– Ай да Любим, ай да Богдашка! Ай да мои Ивановы! – восклицал он и тут же повелел Бяконтову вознаградить обоих бахарей за высокую меру утехи – выдать им по полному наряду одежды, включая богатые сапоги, ферязь кафтан, штаны и шапку с колпаком.
Когда пришел час опочив держать, Андрей отправился в то помещение, где жили бахари, провел ночь на такой же, как у них, постели: кожаный тюфяк, набитый оленьей шерстью, подушка из гусиного пера и пуха, киндячное стеганое одеяло и для дополнительного тепла к утру, когда повыстудится дворец, одевальная овчинная шуба.
8
В один из весенних дней Василий позвал Андрея с собой в Спасский монастырь, где под присмотром Кошки переписывалось для великого князя Евангелие, которое Андрей хотел разрисовать по-своему. Еще и тайную одну мысль держал при этом Василий: хотел показать художнику заветную келью и похвастать своей кузней, поелику Андрей не только в живописи и зодчестве мастером слыл, но и в ювелирном рукомесле.
В монастыре боярин Кошка с большим бережением выложил перед великим князем и Андреем пергаментные листы с текстом божественных откровений. Листы еще не были сшиты в книгу, на каждом было оставлено место для рисования буквиц и заставочек. И деревянные, обтянутые зеленым сафьяном крышки для книги были готовы, но вот оклад для нее – серебряную кузнь – Василий решил изготовить собственноручно, хотя и не без помощи Кошки. Сейчас он хотел показать Андрею начаток работы, но тут вбежал запыхавшийся Бяконтов:
– Княже, святитель вернулся!
Новость была долгожданная: Киприан уехал в Великий Новгород еще две седмицы назад по делам неотложным и трудным, никаких вестей о нем до сего дня не было, а гонцы доносили лишь о смутах и беспорядках, о неповиновении граждан вольного города да еще о каких-то еретиках, каких-то стригольниках.
– И что же он? – нетерпеливо спросил Василий.
– Скорбен и возмущен, – отвечал со скрытой издевкой Бяконтов.
– Почто так думаешь?
– Ликом скромен, но зрак выдает. – В голосе Данилы прослушивалось злорадство, но Василий Дмитриевич принял это спокойно, зная, что боярин его давно и стойко недолюбливает Киприана.
– Где он?
– В сей же час ниспоследует сюда, – только-то и успел сказать Бяконтов, а митрополит уже появился в арочном проеме, скорыми шагами направился к Василию, громко, похоже даже нарочито громко, стукая костяным посохом о каменные плиты пола.
По привычке, перенятой от отца, Василий сделал вид, что приложился к деснице владыки, а Киприан в ответ тоже лишь видимость одну выказал, будто поцеловал великою князя в темя.
– Ну, каково там, в Великом? – спросил Василий, предощущая вести недобрые.
– Каково, спрашиваешь?.. Всяко там и авако. Все там есть, опричь порядка.
Василий выжидательно молчал. Своенравные новгородцы еще при жизни Дмитрия Ивановича вздумали поставить условия великому князю, чтобы он не звал их к суду в низовые города, под которыми разумели они прежде всего Москву. Следом за тем захотели они приобрести то же право и в отношении к суду церковному. Решение свое они приняли всенародно: посадник и тысяцкий созвали вече, где все укрепились крестным целованием – не ходить в Москву на суд к митрополиту, а судиться у своих владык по закону греческому. Вече и крестоцелование закрепили в утвержденной грамоте. Киприан и отправился в Новгород, чтобы навести порядок. Но, видно, не сумел, повторил еще раз.
– Да, опричь порядка… Стал я остепенять новгородцев, а они одними устами отвечали: «Целовали мы крест заодин грамоты пописали и попечатали и души свои запечатали». Думал я, что говорят они сие не по злобе, а не подумавши, увещевал: «Целование крестное с вас снимаю, у грамот печати порву, а вас благословляю и прощаю, только мне суд дайте, как было при прежних митрополитах». Две седмицы всяко оттрясал я их. чтобы вразумить, но без всякого преуспеяния. Не сладила моя сила, твоя, великий князь, сила нужна, не позволь, сын, отложиться новгородцам от суда митрополичьего.
Василий опять промолчал, думал. Он слишком хорошо понимал, что начатое митрополитом надобно довершить любыми средствами, ибо если новгородцы будут зависеть от владыки, живущего в Москве, то можно будет попытаться заставить Нов-город в целом зависеть от Москвы. Да, это необходимо надобно сделать, но как?
Киприан ответил на молчаливый вопрос великого князя.
– Вели взять с граждан Великого черный бор, и притом чтобы все пошлины княжеские немедля уплатили. Не захотят добром, пошли рать! – И продолжал с еще большим напором: – И ушкуйники ихние – холопы, рабы худые, обремененные долгами, в шайки опять собираются и разбойничают по Волге. Обещались в прошлое лето выдавать тех, кто на Волгу пойдет, а ныне все они опять собрались в насады и ушкуи, намерены опять пройти Вяткою и Камой, пограбить Жукотин, Казань, а потом выплыть на Волгу, задерживать наших гостей. А ты все благопокорно сносишь, но есть же, великий князь, мера терпения? – В последних словах Киприана улавливался уже и некий вызов. Василию подумалось впервые, что не столько судьбой дел государственных озабочен митрополит, сколько тем, чтобы взять верх над государем; тут же вспомнилось мимолетно, что и на отца вот так же все пытался давить Киприан. Так что же, не сумел тогда, так теперь нешто хочет на сыне своего обидчика отыграться? Словно бы спрашивая ответа, взглянул мельком на Андрея, и показалось, что в глазах того упрек был. «Неужто поддашься ты, великий князь, пригнетениям его?» И Киприан словно бы прочитал мысли Василия, переключился внезапно на иные горести. – Батюшка твой столько обид мне кровных учинил, и ты вот молчишь наидосадливейше… Если бы не незлобие мое, воистину голубиное, то я бы…
– Постой, святитель! – резко оборвал Василий и краем глаза подметил, как ворохнулся у стены Андрей. – Надо допрежь с Новгородом Нижним разобраться, потом уж о Великом будем думать.
– Ведомо, ведомо мне, что помыслы высокие тебя влекут, зане… – опять сварливо начал Киприан, но Василий снова жестко его упредил:
– Вот съезжу в Орду, это сейчас наипервейшее!
А Киприан из упрямства ли, заблуждаясь ли, а может, напротив, из каких-то тайных побуждений свое гнул:
– Нет, допрежь ты должен пресечь потворство свое и мироволение свое в Великом, зане…
– А ведомо ли тебе, святитель, что не ушкуйники, а царевич Бектут взял Вятку, перебил и попленил ее жителей?
– Нет, неведомо… – В крупных карих глазах Киприана впервые мелькнуло беспокойство, но тут же, правда, и исчезло. Киприан продолжал с прежней степенностью: – Неведомо, нет, но эка важность – какой-то царевич…
– Не какой-то, а Тохтамышем посланный.
– Что же из того? Тохтамыш не может просто ничего тебе учинить большего, чтобы хоть как-то в повиновении Русь держать, да нет – чтобы хоть видимость одну этого повиновения иметь. Переведаешься с ним – сам поймешь, что так это.
Василий ничего не ответил – не потому, что нечего было сказать, но не хотел открывать всего: из последнего тайного сообщения Тебриза узнал он, что к внутренним ордынским смятениям присоединилась уже почти явная борьба Тохтамыша с Тимуром.