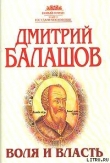Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
– Беспременно съешь без остатка…
Он провел Василия из пекарни в свою келью, достал из настенного шкафчика очень старый, обесцветившийся уже, ставший пепельно-серым колобок хлеба. С бочка он был надкусан, Сергий пояснил.
– Два на десять лет тому назад, когда провожал я с Дмитрием Ивановичем на рать с Мамаем верных своих иноков, то испек им по такому же вот валенцу. Ослябя съел свой хлеб, а Пересвет надкусил только… А тебя, я чаю, трудная дорога ждет?
Как и в прошлую встречу, Сергий снова удивил большой своей осведомленностью во всех делах, в том числе и порубежных. Ведомо было ему, что Витовт в тайном сговоре с Тохтамышем состоит, что немцы в устье Невы вошли и все села и волости по обе стороны реки за три версты до города Орешка захватили, что новгородцы своеволие заявляют, от Москвы отложиться хотят, что ордынскому хану не устоять против Железного Хромого.
– Киприан говорит, будто нынче одна только Византия нам друг и союзник, – осторожно вставил Василий.
– Византия никогда не была с нами прямодушной, – возразил Сергий. – Коварство и жестокость константинопольских царей всегда дорого давались Руси. А нынче они сами себя в лукавстве обошли: по укоренелой привычке заботясь о себе только, использовали против славян османских турок, вскормили их на свою голову. Теперь с католиками готовы соединиться против турок… Напрасно это – ждать помощи от Палеологов.
– Так что ж, отче, кто же друг нам, кто поможет?
– Друзей у Руси было и будет много, однако помочь никто не поможет… Русичам надо рассчитывать только на себя, все поступки соразмерять только со своими силами…
Неприютно почувствовал себя после этих слов Василий, тут-то он и вспомнил одинокого, выбившегося из сил гуся, но вместе и жажду действовать, решаться на что-то он испытал, сказал пылко:
– Я, отче, сложу крестное целование новгородцам.
– Прежде Борису Константиновичу сложи.
– Дядя он мой родной…
– Тому нет спасения, кто в самом себе врага носит. Когда получишь ярлык на Нижний, укрепишься со стороны степи, в другую сторону сможешь оборотиться.
– Но ведь Железный Хромой…
– Ему еще надобно время, чтобы на Волге воцариться. Ты допрежь успеешь в мыт войти. В Орду ведь не сам по себе надумал ехать, ханом зван?
– Да, позвал меня Тохтамыш… как друга и гостя…
– Видишь вот – не по нужде и не по чужому велению едешь. Не клянчить, как Борис Константинович, даже и не просить и не покупать будешь ты ярлык, а просто – получишь… Ну, не совсем уж просто – не мне об этом тебе говорить, – однако же без унижения. Большое дело, а ты заладил – гусь! Когда отправляться-то думаешь?
– Перед Ильей за четыре дня[69]69
Ильин день – 20 июля, стало быть Василий Дмитриевич собрался ехать 16-го.
[Закрыть].
– Как пойдешь, Волгой?
– Нет, поперек поля.
– Значит, вернешься после Покрова. Прощевай! Да хранит тебя Господь в любви своей! – Игумен осенил великого князя крестным знамением, и Василий, приложившись к сухой и хранившей еще запах ржаного хлеба руке старца, не смог сдержать слез: предчувствовал, что истинно прощание это, что дни Сергия и верно – изочтены.
6
О кончине первоигумена Руси узнал он, когда был в Кафе[70]70
Кафа – город в Крыму, ныне Феодосия.
[Закрыть]. Андрея Рублева скорбная весть застигла в Афоне, куда уехал он вместе с Пысоем и епископом Герасимом после того, как расстались они с великим князем и его боярами в Суроже[71]71
Сурож – город в Крыму, ныне Судак.
[Закрыть]. Совместный путь русских путешественников проходил сначала по суше из Москвы до Укека[72]72
Укек – третий по величине город Золотой Орды, ныне южная окраина города Саратова, путь сюда из Москвы проходил по малозаселенным и бездорожным землям – через леса и степи а потому был долгим, кружным.
[Закрыть], оттуда к Дону, а затем водой до Азова вниз по реке и через Керченский пролив. Из Сурожа дальнейшую дорогу хорошо знал Герасим через Черное море до Синопа, затем вдоль берега Малой Азии, мимо Амастрии и Пандораклии в Константинополь, где вблизи гавани Золотого Рога располагалась русская колония. На берегу гавани находилось и генуэзское Поселение Галата, где также временами проживали русские.
Именно в Галате был похоронен митрополит Митяй. О судьбе его во всех мыслимых подробностях донес Василию Тебриз – первый из тайных доброхотов, встретивших великого князя на пути его в Орду.
Он ждал уже в Наручади[73]73
Наручадь – золотоордынский город, построенный на месте более древнего мордовского поселения, ныне город Наровчат Пензенской области.
[Закрыть], первом улусном центре Орды на пути русских. Поселение было крупным и, судя по большому кладбищу с мавзолеями, древним. В окружении глинобитных и каменных домов на пыльной и замусоренной разными нечистотами площади высилась мечеть, небогатая, построенная без роскоши, однако с медресе Хотя был в городе водопровод – вода текла из источника по желобам жители ходили, по татарскому обыкновению не мытыми со дня рождения, а оправлялись и по малой, и по большой нужде прямо на улицах и в переулках – как и в Сарае, здесь не было заходов.
Василию памятны были все порядки и обычаи ордынцев, и он, прежде чем справиться о чем-нибудь у стражников, развязывал калиту и доставал серебро. Загодя припас он монеты, чеканенные здесь, с надписью «Мохша», и эти подачки были татарам особенно желательны.
Тебриз с сожалением провожал взглядом деньги, словно бы они были его собственными. Наконец не вытерпел, сказал с обидой в голосе:
– И чего зря сорить серебро… Как будто я не могу все растолмачить.
– А ты жаден стал, Тебриз. Это плохо.
– А ты, великий князь, стал богат, – нашелся Тебриз, – и не знаю, хорошо ли это.
– Знай: это хорошо! А если тебе жаль сорящегося серебра, я его тебе сейчас отдам, как только растолмачишь, где сейчас находится хан Тохтамыш.
Тебриз поник головой:
– Этого не ведаю.
– Ну вот, видишь, как получается: серебро опять попадет в чужие руки.
– Нет, княже, не попадет: никто не знает, где Тохтамыш – за Волгой ли на Яике, в Сарае ли, а может, в степи или в Таврике[74]74
Таврика – Крымский полуостров, где устраивалась иногда зимняя ставка хана Золотой Орды.
[Закрыть]. Пойдем до следующего улуса, там, может, сведаем.
Но и в следующем на пути в Сарай ордынском селении Еткаре[75]75
Еткара – древнее поселение на реке Иткара, притоке Медведицы, впадающей в Дон; ныне город Аткарск Саратовской области.
[Закрыть] узнать о месте нахождения хана они не смогли, об этом не знал даже и сам начальник улуса Иткар.
– А что, Тебриз, не знаешь ли – речку назвали в честь золотоордынского улусника или ему такое прозвание в честь речки дали?
– Не знаю, княже.
– А может, река Иткар текла задолго до того, как Иткар-татарин народился?
– Не знаю, княже.
– А когда же узнаем мы, где Тохтамыш?
– Это знаю, в Сарае-Берке.
– Нет, и этого ты не знаешь… Проведаем точно, как прибудем в Укек.
Василий говорил столь уверенно потому, что заранее условился встретиться в Укеке со своим боярином Иваном Кошкиным. Отец Ивана, Федор Андреевич Кошка, по ветхости дней своих постепенно отходил от государевых дел, хотя по-прежнему почитался старейшиной, в сыне видел он свою замену, загодя готовил его к службе великому князю. Иван уехал из Москвы неделей раньше и налегке, без обоза. По расчетам Василия, он должен был уже побывать в Сарае, все разведать и вернуться на правый берег Волги для встречи Василия.
Когда от Еткары свернули в утреннюю сторону, ровная степь перешла в поросшие густым лесом горы, где дорога была малоезженой, узкой и опасной. Подседлали коней, оставив в кибитках лишь челядь, приставленную к великокняжескому добру. Даже Андрей с Пысоем, подоткнув монашеские рясы, поехали верхом, хотя держались в стременах не столь уверенно, как остальные. И не в том дело, что не имели они должного навыка, а в том, что не готовы были к этому и не имели нужной одежды: отправлялись оба в путешествие в будничных русских штанах, которые шились без разрезов, с узлом, позволявшим сделать штаны, по надобности, шире или уже, но не рассчитанные на верхоконное восседание.
Максим, который находился близ великого князя неотлучно и который отличался велеречивостью и склонностью при случае снасмешничать, спросил Тебриза с видом полного простодушия:
– Знаешь ли ты, как наружная лузга ореха-лещины называется?
Тебриз оказался в неведении.
– А чем штаны от портков отличаются?
И об этом Тебризу неизвестно было.
– Значит, ничего ты не знаешь вовсе.
Василий решил поддержать своего оплошайшего лазутчика, сказал примиряюще:
– О том, что если орех в зеленых штанах, то, значит, он не поспел еще, степняку и знать необязательно… А вот как по степи этой Митяй ехал, Тебриз, наверное, проведал.
Тебриз не торопился с ответом. Знал себе цену, имел что сказать.
– Только одну правду надо, гольную правду, – предостерег Василий.
Тебриз отозвался на это:
– Ты же знаешь, княже, что в Орде правда тонет, когда всплывает серебро.
– Боишься продешевить?
Тебриз резко взял на себя ременный повод, его лошадь, сухая и цыбастая, враз подравнялась с лошадью Максима, но Тебриз тут же и осадил ее, держась почтительно за спиной великого князя.
Василий повернул голову, увидел рядом с собой загорелое лицо, в который раз удивился тому, что у черноволосого смуглого азиата такие светлые, цвета знойного степного неба глаза, умные и наглые. А Тебриз отметил про себя, что у великого князя глаза синие и холодные, под их взглядом он сразу подобрался внутренне и отбросил мысль о каком-либо своем притворстве или плутовстве. Ему довелось служить разным повелителям, и он научился безошибочно читать их взгляды. У хана Тохтамыша глаза хитренькие, смотрящие искоса, мол, меня не надуешь, а я вот могу, но – нет, это лишь самооборона, попытка спрятать свою опаску и страх оказаться обманутым самому. У нижегородского князя Бориса Константиновича глаза светятся чистой голубизной, доверием, он не боится быть обманутым и сам только и думает, как бы надуть любого, хоть простофилю-славянина, хоть чванливого и самоуверенного кипчака. И Тохтамышу, и Борису нижегородскому, когда выражали они сомнение или колебание, Тебриз клятвенно говорил: «Ложь в донесении – все равно что крысиный помет в кумысе». Хотел и сейчас защититься проверенным заклинанием, но сказал совсем иное:
– Да, государь, я тогда предал тебя…
Василий довольно улыбнулся, так что глаза его чуть сузились в прищуре. А у Тебриза, напротив, всегда по степняцкой привычке прищуренные глаза сейчас широко раскрылись, от них разбежались к вискам белые пучочки морщин. И уж вовсе неожиданное признание сделал Тебриз, для самого себя даже неожиданное:
– Я многих предавал, но сознаюсь и каюсь первый раз.
Василий молча отвернулся, довольная улыбка осталась на его лице: он поверил в искренность ордынского переветника.
Тебриз искательно подкашивал взгляд на великого князя, но не смел подать коня вперед. Видел лишь сбоку лицо Василия, подумал, что он что-то насвистывает про себя. Губы под мягкими белыми усами сложены трубочкой и изредка вздрагивают. И вспомнил, как впервые увидел Василия в Сарае почти десять лет тому назад: двенадцатилетний отрок, худенький и бледный, сидел на глиняном обрыве, смотрел неотрывно в волжскую даль и насвистывал нежную и грустную песенку, вспоминая, очевидно, дом, мать и отца, Москву, зеленую Русь. Думал Тебриз, что сердце его не способно испытывать жалость, однако же тогда вот пожалел русского княжича, хотел помочь ему бежать. И помогал, и едва не довел дело до конца, однако в последний момент сгубила жадность: подумал, что Тохтамыш щедро наградит за возвращение беглеца, и не ошибся, но с тех пор нет-нет да и начинает глодать сердце запоздалое раскаяние.
А Василий, раскачиваясь в седле, действительно насвистывал песенку, притом ту же самую, что и тогда в Сарае. Думал не о Тебризе, о совсем стороннем и ненужном. Думал: верить ли, будто все в мире известно, все земли исхожены, все загадки разгаданы? Если так, то отчего же по утрам солнце встает каждый раз по-новому? Оно, может быть, и верно каждый день новое? Облака вон плывут – и они ведь не одни и те же, нигде даже и двух похожих не увидишь? Откуда, куда и зачем плывут они? Попутным ли ветром гонит их, и они летят, не зная куда, или же идут они, как весенние гуси, по изведанным и проторенным воздушным путям?
Нет, не о Тебризе он думал, однако же неожиданно обернулся к нему, спросил в упор:
– Хочешь грехи свои замолить?
– Нет. Человеку до двенадцати лет Аллах записывает грехи на текучей воде, отроку прегрешения заносятся в пергамент из степного песка, а людям мужалым их проступки высекаются на камне.
– И много же гранита Аллах на тебя извел?
– Предостаточно, однако, не стесать и до Страшного Суда. Но один грех стесан, верь мне, Василий Дмитриевич!
Перед подъемом на Алтынную гору, за которой лежал на берегу Волги город Укек, решили сделать короткий привал. Василий велел откупорить бочонок с малиновым медом.
– Смотри-ка, Тебриз, как устроена жизнь: и мудрому человеку нужен друг, и сильному человеку нужна поддержка…
Тебриз не мог скрыть ликующей улыбки: великий князь московский ради него откупорил бочку с медом! И словно бы не стоялый мед, а сладкая отрава была в ковше, который Тебриз пригубливал с боязливым благоговением. Нет, даже и не яд – терпкую кровь пил он каплю за каплей, настал его звездный час!
7
Предлинное донесение для великого князя московского подготовил Тебриз, столь предлинное, что не изложить его не только на коне сидя верхом, но и на привале за откупоренным бочонком. И Василий понял это, не стал допытываться, хотя снедало его любопытство, отложил главный разговор на потом. Он предчувствовал, что за разговором этим может последовать некое конечное проявление дел давно минувших, но могущих иметь значение и для дня сегодняшнего.
Тебриз был всегда падок на деньги, но сейчас в алкоте своей стал он даже и потешен. Когда подъезжали к Укекской заставе, Максим обронил, надо думать, не без умысла:
– Опять придется серебро сорить…
Сколь алчен был Тебриз, столь же осторожен и догадлив, так отозвался:
– Что, боярин, хочешь бросить кость между двух собак?
– И себя севлягой нарицаешь?
– Хоть псом, хоть севлягой, хоть гавкой нарицай, только мосла не лишай, – отговорился Тебриз от Максима, а великому князю уж серьезно сказал: – Попробую сберечь твое серебро. – И он послал вперед свою чалую лошадь, подрысил к двум стражникам.
Один из них был старый и почти безбородый. И второй был безбород, но по молодости своих лет. Оба узкоглазы, с одинаковыми кривыми ногами – отец с сыном, можно думать.
Тебриз объяснил что-то старику, но тот, равнодушный и невозмутимый, как верблюд, только повел из стороны в сторону тяжелой плетью. Тебриз обернулся к молодому, но тот вовсе глух был, пощелкивал плетью по голенищу разноцветного своего сапога – задники зеленые, переда красные, голенища черные.
Потеряв терпение, Тебриз сорвался уж на крик, стал браниться на русском, татарском, арабском языках, даже и польское словцо подпустил под конец: «Пся крев!» – и сконфуженно обернулся к Максиму, вспомнив, видно, его севлягу. Он, конечно, не хуже Василия знал порядки в Орде, но надеялся на свою ловкость, так оправдался:
– Меня-то бы пропустили, а видят богатых русских… Да-а, придется бросить мосол.
В прошлую поездку в Сарай Василий видел Укек со стороны Волги. Помнится, тогда не двое, много стражников обступило их. Деньги раздавали, по выражению Кошки, «сюду и сюду», а «поминков» и даров не сосчитать, не упомнить, кому сколько дадено, но и то едва ли всех утолили: помнится, кто-то еще вдогон угрозы выкрикивал. Сейчас проще – двое всего, их нетрудно удоволить. Василий и собирался это сделать, как увидел, что из придорожной кибитки вылез с уздечкой в руке еще один ордынец. Посмотрел на приехавших, прищурившись. И так-то глаза узкие, а стали щелочками – поди разгляди через них, что у него на уме. Безошибочно определил, кто из приехавших главный, и пошел к Василию, позванивая на ходу серебряными украшениями уздечки.
Василий подал ему кожаный мешочек с монетами. Ордынец с достоинством принял подачку, взвесил ее на руке, потом развязал ремешок и заглянул вовнутрь – все так же не спеша, с достоинством. Достал одну из монет – попался серебряный дирхем. На одной стороне арабская надпись: «Тохтан справедливый. Чеканит в городе Укеке», на другой, оборотной стороне: «Почитание Богу и его посланнику». Очень доволен был охранник, вскинул голову, и стало видно, что и у него бороденка жалкая – растет пучками, словно кто-то проредил ее, выдергивая клочья в шахматном порядке.
– Спасыба! – И он ощерил мелкие желтые зубы, улыбнулся столь довольно, что глазенки его вовсе скрылись в прищурье.
Узнавал Василий Орду во всем.
Тот же зной.
Тот же бесконечный, унылый и всепроникающий крик муллы:
– Алла-алла-алла…
Те же рвы с нечистотами, зловоние.
На торговой площади белая мечеть с изразцовым минаретом, а золотой полумесяц на ее золотом шпиле еле проблескивает в облаках пыли, никогда не оседающей из-за того, что верхоконные снуют непрестанно, тянутся арбы, запряженные волами, верблюдами, ослами.
Ивана Кошкина нашли у Пулада, даруги московского[76]76
Даруга московский – так в Орде называли крупных чиновников, ведавших сношениями с русскими княжествами.
[Закрыть]. Узнали, что хан ждет великого князя московского в Солхате[77]77
Солхат – зимняя ставка хана в Крыму, ныне город Старый Крым, близ Феодосии.
[Закрыть].
Василий знал и помнил Пулада еще с детских лет – был тот при московском дворе сначала толмачом, потом ему доверили отвозить хану собранную дань, а при Тохтамыше стал он даругой, знатным вельможей. В Укек он приехал с Иваном по приказанию хана, встречал Василия не просто уважительно, но с лаской и искательностью, и это было хорошим признаком. Но вот про Ивана Кошкина даруга сказал со скорбью в голосе и с осуждением:
– Боярин твой прыток и горяч, знать, в кипятке крещен. Помню батюшку его Федора Андреевича. Не зря сам Кобылин прозван Кошкой – коготки свои умел в рукавичках держать, а сын Кошкин не знает своего лукошка, предерзостен.
«А мне такой как раз и нужен, – весело подумал Василий, настроение которого сразу поднялось после встречи с Иваном и даругой, – прошли времена, когда главным для русских в Орде было умение кстати молвить и вовремя смолчать».
Даруга был опытен и проницателен, угадал тайные мысли великого князя.
– В прежние времена нашли бы вы его уже не таким: тулово было бы отдельно, голова – отдельно.
«Вот и любо, что минуло, нам теперь важно не допустить возврата прежних времен», – опять с внутренним торжеством и с крепнущей верой в успех своей поездки подумал Василий, но для виду напустил на себя строгость и велел Ивану отправляться в Москву, чем даруга был очень доволен.
Чтобы путь по степи у Василия и его свиты был беспрепятственным, Тохтамыш переслал с даругой большую пайцзу.
Золотая пластинка с краткой, но выразительной надписью от имени самого хана Золотой Орды с этой минуты надежно охраняла Василия и его спутников, но, однако же, не освобождала от поборов, жадность нукеров и рядовых охранников пересиливала страх перед господином, и Тебризу пришлось не раз еще огорчиться тому, что деньги русских уходят мимо его рук. После сшибки с охранниками на заставе он был все время беспокоен и сердит. Ничего не говорил, не жаловался, только, монотонно раскачиваясь в седле, напевал вполголоса вспомнившиеся ему, очевидно не случайно, строчки из «Сокровенного сказания» монголов:
Небо звездное, бывало, поворачивалося —
Вот какая распря шла всенародная
На постель тут не ложилися,
Все добычей поживлялися,
Мать широкая земля содрогалася —
Вот такая распря шла всеязычная.
Укек покинули в тот же день, а для отдыха расположились на берегу Волги, поставив на высоком ровном взлобке шатры и походную полотняную церковь.
8
Поступая два года, назад на службу к великому князю московскому и получив от него поручение тайно дознаться до причин и обстоятельств смерти в Царыраде сначала Митяя, а спустя десять лет Пимина, Тебриз действовал обстоятельно – скрытно и неторопливо: ему слишком очевидно было, что загадочность смертей двух митрополитов связана с большой межгосударственной политикой, а когда увидел, что мало кому известные и скрывающие истинные намерения действия предпринимались не только русскими князьями и епископами, но правителями Орды и высшим духовенством Византии, понял, что задание, за которое он взялся охотно и бездумно, не только трудноисполнимо, но и небезопасно для собственной жизни. Но, как говорят монголы, боишься – не делай, делаешь – не бойся!
Как опытный лазутчик, побывавший на службе у двух ханов, он прежде всего позаботился о том, чтобы быть готовым в любой день хоть что-то, хоть о самой малости, да доложить Василию, если тот вдруг потребует от него отчета. Однако, дав поручение и обещав быть в Орде скоро, Василий задержался с приездом, прислал сначала своего брата. Юрий Дмитриевич вел в Сарае дела от имени великого князя, но Тебриз даже и на глаза его не захотел попадать: хоть и длинно стремя, а до земли не достанет, хоть и князь тоже младший брат, однако братом старшим не станет.
Побывал за это время Тебриз и в Константинополе, и в Таврике, и в Самарканде, но напасть на верный след не мог. Однако не отчаивался, знал про себя: начал – надо кончать, ищешь – надо найти. И нашел!.. Счастливый случай помог. Да ведь и всякое дело до случая, все случайность…
А сталось вот как.
В Таврику, страну щедрую и благодатную во всякое время, а ранней весной особенно желанную, он тогда приехал в облике дервиша. Никто не удивлялся появлению турецкого чернеца, ибо была эта земля, с трех сторон окруженная водой, сущим Вавилоном. Каких только разностранцев тут не встретишь! Высокие нормандцы, с голубыми глазами и белесыми ресницами, и темные, как южная ночь, эфиопы, смуглые арабы и трудно отличимые от них грузины, баски, евреи, индусы, итальянцы, греки. Появление мусульманского монаха ничьего внимания не могло привлечь – Тебриз смело шел через толпу, громко возглашая стихи Корана и расточая Пророчества, которые мало на кого производили впечатление, хотя и были жуткими да еще и освященными волею самого Аллаха. Пестрый и много повидавший на свете народ собирался в генуэзских приморских крепостях Солдайе и Кафе, в татарской столице Солхате, расположенной в двадцати поприщах от моря.
Татаро-монголы, захватив Таврию, не знали, что делать с ней. Выжженная солнцем древняя земля напоминала пришельцам их восточные страны пустынностью своих степей, не будь они заслонены причудливым нагромождением гор, за которым распахивались пугающие степняков бескрайние просторы воды. Дети моря – генуэзцы, приняв завоевателей за исконных хозяев полуострова, стали торговать у них пустующее побережье. Ордынцы охотно пошли на это: зачем им, степнякам, бесполезное и непонятное море, через которое ни конь не проскочит, ни стрела не пролетит? Как была оформлена купчая, доподлинно не известно. Так договорились: генуэзцы положат на шкуру вола золото и возьмут земли столько, сколько уложится под шкурой. Алчные татаро-монголы уверены были, что с большой выгодой для себя заключают сделку. Но генуэзцы разрезали шкуру на тонкие ленты и отмерили ими огромную часть побережья.
Так ли все в точности произошло, Тебриз не знал, но одно для него было бесспорным: скрытны, пролазчивы и коварны азиаты, однако европейцы в своей хитрости и тоньше, и искуснее. В этом убедился он и когда задание великого князя московского выполнял.
Не стоило ему больших усилий прознать истину о пребывании Митяя и Пимина в Сарае. Неверно осведомленные москвитяне считали, что Мамай задержал у себя посланника и друга великого князя Дмитрия Ивановича как гостя, а затем «отпустил его с миром и тихостью, еще и проводить его повелел». Так-то оно так – и с миром, и с тихостью, и проводить повелел, да только все это было лишь напоказ, а в тайные помыслы хана входило избавиться от Митяя и добиться поставления в митрополиты Дионисия Суздальского. Орда заигрывала с нижегородцами уже в те далекие годы, и об этом нынешнему правителю Руси Василию Дмитриевичу будет небесполезно узнать. Это первое, что имел уже на крайний случай Тебриз для доклада. Второе, что толмачом и проводником Мамай приставил к Митяю не абы кого, а отпетого головника, на чьей совести несчетно много тайных смертей. И можно бы почесть все выясненным, кабы сел этот головник вместе с русскими в Кафе на корабль да поплыл бы в Константинополь. Нет, он сразу же покинул Митяя, который принял смерть в море уже в его отсутствие.
Образовалась ниточка, и поиск другого ее конца стал уж казаться Тебризу столь же бессмысленным, как прядение нитей из сыпучего песка. Удалось узнать, что в Константинополе в тот год, как умер Дмитрий Донской, на одном патриаршем пергаменте были по поводу смерти Митяя начертаны по-гречески такие слова: «Суд Божий следовал за ним по пятам». Это и в Москве ведомо было: «Все епископы, просвитеры и священники молили Бога, чтобы не был Митяй пастухом и митрополитом на Руси», а первоигумен Сергий еще до отъезда великокняжеского ставленника предрек: «Однако не видать Митяю Царьграда». Выходило, что смерть Митяя-Михаила была одинаково желательна и для хана Орды, и для русского духовенства, и для византийских правителей. Но чей именно головник его задушил или «морской водой уморил»? И наверное, был там не один убийца, а с сообщниками, потому что все дальнейшее сокрылось под некоей мистической завесой: будто бы море так сильно сразу взбунтовалось, что корабль, на борту которого был покойник, не смог идти в Царьград, хотя другие суда в это время «плавали мимо его семо и авамо», пришлось тело Митяя перегрузить в барку и на этой малой посудине-барке отвезти для погребения в Галату, где жили итальянские купцы. И это кому выгодно было: не в Царьграде на левом, греческом, берегу бухты Золотой Рог похоронить, а на латинском, правом? Кто столь искусно следы запутал и замел?
Вот тут-то случай Тебризу и подвернулся, хотя теперь, когда время прошло, не случаем уж ту нечаянную встречу он считал, а нароком.
В караван-сарае останавливаются на ночлег люди самые разноязыкие, но услышать здесь русскую речь можно было редко, потому что и купцы, и духовенство из Московии и других княжеств останавливаются в русской провинции, существующей в Солдайе с незапамятных времен, когда еще и город сам назывался по-русски Сурожем. Генуэзцы поставили на берегу моря каменную крепость, в год смерти Дмитрия Донского завершили строительство главной башни, прикрепив на ней геральдическую плиту, а русские рубленые избы с конями на крышах не тронули, они так и продолжали стоять рядом с угловой башней, где впадал в море ручеек пресной воды.
Русский, пришедший в караван-сарай и заинтересовавший Тебриза, выглядел очень усталым. За ним шагала в поводу еще более истомленная подседланная лошадь, передвигавшая ноги с видимым усилием, оводы кружили над ее потным крупом, а она даже и не отгоняла их хвостом. Тебриз заключил, что русский проделал путь трудный и столь поспешно, что загнал лошадь, а значит, могла быть тут какая-нибудь тайна или хотя бы некое полезное известие. Чутье не подвело его, а повод, чтобы сдружиться с неизвестным, нашел он без усилий:
– Благословен грядый во имя Господне, – произнес нараспев запомнившиеся ему слова литургии.
На пропыленном лице путника родилась счастливая улыбка, он отозвался охотно:
– Господи Боже наш, седяй на Херувимех… – Добавил с горчинкой – На Руси сейчас вербу святой водой окропляют.
Тебриз и тут нашелся, сказал в лад:
– Да, не растет на Руси нашей финиковая пальма, ветками которой народ иудейский встретил Иисуса Христа за пять дней до его крестной смерти.
Так и сдружились, решили совместно поесть вербной каши по случаю большого праздника – входа Господа в Иерусалим. В караван-сарае оставаться не захотели: громкий разноязыкий говор, духота из-за очагов и жаровен, где готовилась жирная еда – горело на сковородах масло, скворчало сало, пахло тушеной бараниной, жареной рыбой.
Оба знали, что в удолье возле селения Биюк-Ламбат растет ореховое дерево, посаженное еще древними греками. Дерево выросло таким большим, что однажды, говорят, под ним укрывалось от дождя сто всадников. Владели им шестнадцать хозяев селения, у каждого свои определенные ветки. Тебриз и его новый знакомец, назвавшийся Кириллом, решили пойти к дереву-великану и потрапезовать под его сенью.
Когда проходили по дорожке, усыпанной белорозовыми лепестками отцветавшего иудиного дерева, Кирилл обронил:
– Ровно снег… А в Рязани небось взаправдашний еще не стаял.
– Рязанец, значит?
– Приходилось бывать там, – ответил Кирилл с какой-то искривленной улыбкой.
«Простота», – подумал про него Тебриз.
Прошли через ручей по перекинутому кем-то бревну. Кирилл, перейдя, столкнул бревно набок, пояснил:
– Кому надо, поправит.
«Злой мужик», – отметил Тебриз.
Разложили на ряднине трапезу. Кирилл достал из седельной сумки бутыль из долбленой тыквы – с водой и запечатанную и оплетенную морской травой пустышку – с вином.
«Добряк все же», – прикидывал Тебриз.
Кирилл разлил густое красное вино по берестяным кружкам, разрисованным синими узорами. Первым и пить начал, вытянув тонкие, как у овцы, губы.
«Нет, неспроста бревно столкнул – не любит другим добра делать».
– А что это у тебя имя-то нехристианское – Тебриз? – спросил Кирилл, разламывая пополам крут козьего сыра.
– Одну лошадь спотыкой зовут, другую губаном, – уклонился Тебриз. Подумав, добавил: – Богатого человека по отчеству величают, убогого по прозвищу.
– A-а, – понял Кирилл, – у меня тоже было уличное прозвище. Деда за что-то Корью звали, отца – Кореем, а меня Кореевым сыном. Потому, знать, что мелки росточком были все в нашей семье, ровно моль или тля…
По мере того как опоражнивалась тыквенная пустышка, оба становились все разговорчивее, все словоохотливее.
– А что это ты лошадь-то так запалил, куда опаздывал? – закинул удочку Тебриз.
– Прослышал, великий князь московский едет сюда….
Тебриз сдержал нетерпение, словно бы мимоушей пропустил столь значительные слова и поинтересовался.
– А дальше куда думаешь править, не попутчиками ли будем?
– В Москву мне надобно.
– Чего ты там потерял?
– Чего? Да понимаешь, каждую ночь Русь во сне стал видеть. Поля, облака, рожь, коноплю, раменный лес, озера в пойме.
Тебриз помолчал для порядка, выдохнул с чувством:
– И за что это мы так любим эту землю!
– Ты – не знаю, а я, – здесь Кирилл сильно нажал голосом, с умыслом, нет ли, – люблю ее уже за то, что это – моя земля. Это земля моего отца моего деда… И – моих детей.
– Верно, мы любим отчину так, как любят родных людей, которых ведь не выбирают. – И Тебриз полез в свою кошницу – и у него оказалась припасенной тыква с хмельным питьем.
Кирилл, видно, изрядно устал в пути, сон сморил его. Задремал, привалясь к белому, гладкому и теплому валуну, и Тебриз, а когда очнулся, оцепенел от ужаса: прямо перед его глазами висел раздвоенный язык змеи! Сама же гадюка обвила кольцами руку Кирилла, которую тот во сне отбросил на плечо Тебризу.
Первым побуждением было ударить змею и вскочить с земли, но Тебриз вовремя одумался, вспомнив, что змеи сами не кусаются, если их не придавишь, не растревожишь, не преследуешь… Еще подумал с надеждой: не простой ли это полосатый уж? Стал, сильно скосив глаза, всматриваться: нет ли красновато-желтых пятнышек в форме мусульманского полумесяца на голове позади висков у этого гада ползучего? Не увидел – значит, змея! Подумал с запоздалым сожалением: «Надо было бы под деревом лечь… Мухи не выносят запах греческого ореха, и гады бы не полезли…»