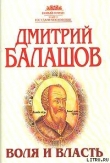Текст книги "Василий I. Книга вторая"
Автор книги: Борис Дедюхин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
Киприан снова неверно понял молчание великого князя, не преминул возвысить свой учительский перст.
– Тебе, великий князь, лишь двадцать лет минуло, а православию на Руси уже четыреста годин, учению Христа более тысячелетия, и не грех тебе поблагоговейнее советам церковного владыки внимать, по примеру царей византийских, твоих начальников… – Василий опять подметил некое беспокойное шевеление Андрея и тут же вспомнил, что в ведомостях, присланных Тебризом, есть слова, непосредственно Киприана касающиеся, и он перебил опять митрополита без намека на какое-либо благоговение перед ним:
– Погодь, святитель! В отсутствие твое получил я грамотку одну весьма огорчительную, но не стал разбирать без тебя, ждал, когда вернешься из Нового Города… Ну-ка, Данила, принеси нам тот пергамент.
Бяконтов с большой охотой помчался во дворец. Киприан, стараясь не утратить сановитости, обернулся к Андрею:
– Никак изограф наш… Слышал похвальные слова от Юрия Дмитриевича… Какие божества днесь пишешь?
На вопрос этот Андрей не мог бы ответить иначе как признанием в своем неожиданном для всех, его знавших, решении не писать больше икон и церковных фресок. Но Василию – странное дело! – очень не хотелось, чтобы Андрей откровенничал с митрополитом, и он вставил торопливо:
– Хочет понять Андрей, почему это Каин низринулся в бездну братоубийства, зачем история человеческого бытия на земле с братоубийства началась?
– Честна была смерть Авеля, а грех Каина – это семь грехов Адама: он позавидовал, не доверил брату, хитрость употребил, к убийству прибегнул, первую кровь на земле пролил, брата родного жизни лишил и солгал Богу. И какое же зло причинил Авелю Каин? Ему против воли ускорил вход в царство, а себя подверг бесчисленным бедствиям.
Андрей слушал с почтительным вниманием, однако же то ли какая-то тень недоверия скользнула по лицу его, то ли какое нетерпеливое движение непроизвольно сделал он, но Киприан насторожился, спросил с опаской:
– Не веруешь нешто?
– Верую, верую, – поспешно заверил монах, – однако просто излишне объясняешь ты. Да, Бог подверг Каина семеричному наказанию, но для чего? Чтобы кто-либо из будущих людей не сказал: я убил человека и ничего не боюсь более. Кровь его умершего вопиет более, чем голос живущего.
Киприан многозначительно насупился, со столь же многим значением изрек:
– Тайна сия велика есть… Пока ты еще внизу – в земном, не исследуй горнего, то есть небесного. Сам Господь положил тьму покровом своих тайн, и нужен некий великий свет Всесвятого Духа для постижения этих сокровенных тайн.
– А что, святитель, могут Андрею приоткрыться сокровенные тайны, когда святые места он посетит – Афон, Царьград, Палестину… Я беру его с собой до Сарая или до Таврии, а там уж он один поедет.
– Образовываться поедет? – по-феофановски выразился Киприан, опять царапнув Андрея, который снова подумал: «Разве же я не ношу образ Господа в сердце моем?» – Святое дело, святое дело, многопохвальное. – Киприан был рад перемене направления разговора, многословно заговорил: – Только латинскому безобразию не подчинись. Говорил мне епископ псковский, а ему епископ варшавский сообщил, что мерзопакостные дела творят римские и флорентийские художники.
Киприан явно неспокойно чувствовал себя из-за того «пергамента», за которым с такой видимой охотой помчался Бяконтов. Но способность владеть собой, усмирять чувства и скрывать мысли давно стала привычкой митрополита.
Киприан сел в одно из принесенных послушниками кресел, это же сделал Василий. Андрей остался стоять возле стены.
– В тот самый год, когда явилась на Русь страшная язва – «черная смерть»[57]57
«Черная смерть» – моровая язва была на Руси в 1353 году.
[Закрыть], была выставлена в Риме на всеобщее обозрение плащаница, на которой отпечаталось тело и лицо Христа, а также большие и малые раны, которые Христос получил при казни бичом, иглами тернового венца, гвоздями, копьем. Христиане обозревали эти страсти Господни, свято верили им, и что же…
Смуглые пальцы поспешно перебирали кипарисовые четки.
– О-о, эти латиняне, хуже агарян они! Французский епископ Пьер д’Арси признал, что плащаницу эту подделал некий безымянный художник, и днесь, всего год тому назад, обратился к папе Клименту Седьмому с просьбой запретить богохульный показ льняного полотна. И что же?..
Словно почувствовав, что за ним внимательно наблюдают приглядчивые глаза художника и великого князя, Киприан спрятал руку с четками под пушистую свою бороду.
– Папа римский год думал с сонмом своих кардиналов и епископов и порешил: выставлять плащаницу можно, но при этом разъяснять, что это не настоящая ткань, не та, в которую Иосиф Аримафейский завернул тело Господа нашего Иисуса Христа, а всего лишь его подделка…
– А вот и Данила, скор на ногу! – встал с кресла Василий. Это же и Киприан сделал, тревожно переводя взгляд с великого князя на Данилу.
9
Не напрасно Киприан встревожился: пергамент зело уязвил и сокрушил сердце его. И для ума его, изворотливого и цепкого, пища не весьма благодарная обнаружилась.
Попервоначалу вынужден был он занять политику выжидательную, как единственно пока возможную во вдруг сложившемся, довольно-таки срамном для него положении. А в последовавших за сим препирательствах с великим князем появился даже и оттенок некоторой непристойности. Под конец все же Киприан, как уверял потом с обидой и досадой Бяконтов, сам себя в злохитрости превзошел и повернул прение в такое русло, что великий князь вполне даже и на его сторону встал.
В пергаменте содержалось сообщение пролазчивого Тебриза о заемной кабальной грамоте митрополита Киприана и ростовского архиепископа Федора. Конечно, Киприан не мог о ней забыть, однако же не думал, что она столь позоряще его обнаружится.
– Ты все, помнится, упрекал Пимина за то, что он в Царьграде воспользовался чистыми харатиями, которые отец мой дал Митяю, а сам?
– Что, княже? – притворился не понимающим вопроса Киприан, хотя сам преотлично понял, откуда подул ветер.
– Писал грамоту Николаву Диорминефтту, ближнему нотаре державного царя византийского?
– Еже писах – писах… – отговорился, волыня, Киприан.
– Да ведь заем-то не мал: «тысяча рублев старых новгородских»?
– Случилось прискорбие сие, когда я в нетях был.
– Был – да, но днесь-то? Обязался ведь ты уплатить «чисто, а не товаром через купцов, проводя их с торговлею через землю Русскую».
«И это прознали!» – ужаснулся про себя Киприан, а вслух сказал с показным возмущением:
– Не жалел Дмитрий Иванович серебра для возлюбленного своего Митяя и Пимину вспоможения большие оказывал, а я, ровно калика перехожий либо приживальщик…
– Э-э нет, святитель, – уличающе прервал Василий, – Митяй получил из рук отца чистые харатии, а Пимин вершил долги втае, за что – будь уверен! – спросится с него на Страшном Суде. А ты должен ответствовать допрежь явления антихристова.
В голосе великого князя прослушивалось плохо скрываемое торжество, Бяконтов только что в голос не смеялся. И во взгляде Андрея, кроме раздумчивости и приглядчивости, можно было бы различить и одобрение, так что Василий подивился про себя: приличествовало бы иноку сторону церковного владыки держать, а не светского лица. А Киприан слушал с видом сокрушенным, стоял пригорбившись, нервно сжимал одной рукой конец шелковой епитрахили, а второй вертел свой золотой наперсный крест – в сокровенном раздумье пребывал, на что-то решался. Воспрял-таки:
– Вот что, великий князь… Я тоже одну грамотку показать тебе хочу. – Он подозвал к себе одного из монастырских служек, велел ему принести с митрополичьего двора, который находился по соседству со Спасской обителью, походный его ларец.
Покуда исполнялось его приказание, Киприан объяснил, что грамотка та не кляуза какая-то, но документ, который митрополит подготовил давно, и если бы не неотложные дела, то давно же бы с великим князем согласовал, ибо речь идет о надобностях, слишком важных не только для митрополии, но также и для всей Руси в целом.
Принесенный ларец Киприан водрузил на липовый некрашеный стол, железным ключиком отложил замок и достал бумажный лист, пояснив поспешно, что бумага у него из последних его запасов, сделанных в Царьграде еще третьим летом.
– Господи веси, – начал было он, но запнулся в размышлении: прямо начать чтение своей уставной грамоты или сделать предваряющее рассуждение. Остановился на решении срединном: рассуждал, а иные слова для подтверждения из грамоты брал. – Как ведомо тебе, великий князь, на Руси святой нет законов общих и обязательных для христиан наших, их отношения с князьями, боярами, священнослужителями – с теми, кто землей володеет, соразмеряются одним лишь обычаем – стариной. Да только это не надежная узда… Хрестьяне Константиновского монастыря, что близ Владимира, били мне челом – жаловались на нового игумена, который заставлял их работать «не по пошлине», чего «при первом игумене не бывало».
– Так это же бунт? Неповиновение? – вырвалось у Василия.
И Андрей не остался безучастным – ворохнулся, однако сказать свое слово не насмелился.
– Истинно так, княже, – продолжал Киприан. – Понеже я повелел опросить старого игумена и бояр моих, живущих во Владимире, о хрестьянских повинностях, которые существовали раньше во владениях Константиновского монастыря, и вот предписал им: «Хотите же вен по моей грамоте, игумен сироты держи, а сироты игумена слушайте, а дело монастырское делайте; а хотя кто будет иный игумен по сем игумене, и тот ходит по сей моей грамотке».
– Отец Сергий и все ученики его нестяжание проповедуют и поборы с крестьян делать не дозволяют, – не удержался-таки Андрей.
Киприан возмущен был дерзостью богомаза, однако, зная, что он пользуется особым покровительством и даже дружбой великого князя, не выказал своих чувств, а лишь спросил:
– Но разве на Маковце в Троице не несут насельные хрестьяне оброку?.. И в Андроникове тоже?
– Лишь что у кого в руках, лишь мало подношение добровольное, без кабалы.
Киприан сделал вид, что последних слов не слышал, ухватился за «что у кого в руках», сказал, что именно такого порядка и он решил придерживаться. Однако по мере того как читал и растолковывал он свою уставную грамоту, все яснее становилось, что Андрей верно понял глубинную суть митрополичьего предписания. Святитель, как ни обременен он был многими церковными и политическими заботами, не пожалел сил и трудов, чтобы в грамоте своей обозначить полный перечень крестьянских повинностей.
Крестьяне, названные Киприаном в грамоте «большими людьми», под которыми разумелась более зажиточная часть населения, имевшая лошадей, должны были чинить церкви, воздвигать хоромы, огораживать монастырскую усадьбу частоколом, косить и свозить на двор сено, обрабатывать монастырскую пашню, ловить рыбу, работать в монастырском саду, бить бобров, а кроме того, являться к игумену на Пасху и в день Петра и Павла с приношениями, «что у кого в руках» (тут Киприан слегка наклонил высокую фиолетовую камилавку в сторону Андрея). Крестьяне победнее – «пешеходцы», то есть безлошадные – должны были молоть рожь, печь хлеб, молотить, молоть солод, варить пиво, прясть лен и чинить невод. Все крестьяне – и большие люди и пешеходцы – обязаны давать в монастырь на праздник «яловицу», которую можно было заменить тремя баранами (тут Киприан не удостоил уж кивком камилавки Андрея, хотя тот и неспокойно себя повел, стал переступать с ноги на ногу). В случае приезда игумена в село на «братщину» коням его должно давать по «зобне» овса.
– Праздников-то много, однако же, – обронил Василий.
– Вот потому я предписываю, чтобы не тощали кони монастырские, а от меры овса у крестьян не убудет в хозяйстве.
Из дальнейшего текста грамоты выяснилось, что натуральный оброк не ограничивался «зобной» овса на «братщине», оговаривалась обязательная поставка крестьянами ржи, пшеницы, ячменя, гороха, льна, печеного хлеба, мяса, масла, сыра, яиц, кур, овчины. Помимо оброка крестьянам Константино-Еленинского монастыря митрополит всея Руси повелевает выполнять разнообразные барщинные работы (здесь Андрей усугубил свое внимание): большие крестьяне должны взгоном, то есть сообща, пахать «жеребий игумена», сеять, жать и убирать урожай на этом участке, а кроме того, косить сено и возить его на монастырский двор.
– Я бы в такой обители и жить не стал, это уж не пустынь, а боярское хозяйство, – негромко, но внятно сказал Андрей стоявшему рядом с ним Бяконтову. Киприан мог бы мимо слуха упрек этот пропустить, сделать вид, что не понял смысла, но он преследовал цели, слишком далеко идущие, не хотел допускать и малого риска, ответил Андрею с видимым неудовольствием:
– Что ты шипишь, как сырое полено, не ведомо тебе разве, что нельзя в чужой монастырь со своим уставом лезть? – Ища поддержки у великого князя, вскинул взгляд на него, добавил совсем уж иным, искательным, голосом: – Разумею я сам, что невместно мне ухищряться такой суетой, не должны влечь меня пустяки.
– Вместно, святитель, вместно! – неожиданно и очень решительно одобрил его Василий. – Должно это тебя влечь, чти дальше.
Киприан принял эти слова как должное, прежним ровным и назидательным голосом излагал, что монастырские крестьяне обязаны выполнять работы и внутри стен, во дворе обители: «наряжать» – строить и чинить церковь, ставить хоромы, возводить тын, оплетать сады, прудить пруды, ходить на бобров, ловить рыбу неводом и «бить яз» весной и осенью. Особо позаботился Киприан о пешеходцах: повелел им владыка молоть рожь, печь хлеб, подготовлять солод, варить пиво, квасить квасы, прясть из розданного игуменом льна неводные сети, а также делать всякие мелкие «изделия».
Кончив чтение, Киприан заключил.
– Мыслю, государь, что надобно тебе так же точно поступить и с черными сотнями.
– Закрепостить то есть моих черносошных хрестьян? – понял Василий.
– Да. И тех еще, что сидят не на государственной, а на боярской земле, тоже бы… Чтобы заодно все было и неповадно чтобы было холопам в бега пускаться да челом государю бить, жалуясь, что якобы не по старине и не по пошлине с них берут оброк.
– Стало быть, святитель, ты для того уставную грамоту столь сугубую шлешь, чтобы имела твоя митрополия достаточную казну, дабы не только прежние долги выплатить, но и новые бесстрашно делать? – В словах Василия Дмитриевича не содержалось шутки, но произнесены они были столь веселым тоном, столь явственно было в них благорасположение, что Киприан как-то сразу подобрался внутренне, построжал ликом и, воззрившись на тябло, на котором стояли три иконы новгородского письма, истово перекрестился, произнес прочувствованно:
– Благодарю тебя, Господи, что ниспосылаешь ты на Русь государей и деятельных, и многомудрых, невзирая на юность их.
Василия ничуть не тронула эта грубая лесть, он, наверное, и не поверил в полную искренность высоких слов, и, наверное, тут же и забыл их, потому что совсем другими заботами был развлечен:
– Так как же со строптивыми новгородцами быть?
– Я, княже, пошлю им увещевательную грамоту, если не внемлют…
– Да, да, если не внемлют твоему гласу, пусть говорит с ними Владимир Андреевич, засиделся он со своей дружиной в Боровске. Вот только съезжу в Орду сперва.
– Помогай тебе Господь в начинании сем! – благословил великого князя московского Василия Дмитриевича бывший воспитанник терновского патриарха грека Евфимия, ставленник Византии, нещадно гонимый в свое время Дмитрием Донским, а днесь окончательно утвердивший себя на давно и страстно чаемом посту митрополита всея Руси, болгарин родом и русский по должности Киприан.
10
Когда Василий сказал одобрительно о грамоте Киприана, Андрей вполголоса, так что один только рядом с ним стоявший Бяконтов слышал, произнес:
– Все за счет крестьян, выходит дело?.. И монастырские наряжения, и митрополичьи долги?
Бяконтов ничем не обнаружил, что слышал недоумение изографа, а когда они потом вдвоем вышли из Спасского монастыря, сказал раздумчиво:
– Отдай Богово Богови, кесарево кесареви… Не так ли ответил Христос на вопрос о том, следует ли платить подать кесарю.
– О, да-да! Это согласно новому союзу с Богом ведь!.. Сколь сложно все, тайна тайн кругом.
– Как ни ряди, но Киприан зело все же радетелен да работящ, всюду успевает. Себя, знамо, не забывает, но и о великом князе печется. А про Василия Дмитриевича высокопарно, однако справедливо сказал: государь он Божьей милостью, знает, где что у него делается, вникает во все, а провести его и не думай.
– Да я ничего, он и мне люб, однако…
– Однако не хочет он что-то меня с собой в Орду брать… Я ведь в Сарае все доподлинно знаю, все помню, не зря там три года провел, да еще два раза ездил по посылке великого князя.
– Может, поэтому и не хочет: ведь не только ты все там знаешь, но и тебя очень даже хорошо знают и все помнят?
Бяконтов остолбенел:
– Эка, а мне и невдомек! – И оживился, и успокоился, и обрадовался: – Тогда ладно, а то я думал, что в немилость впал, а за что, не ведаю…
Они прошлись молча по берегу Москвы. Река уже вскрылась от зимнего покрова, отмытые серо-голубые и заснеженные серые крыги льда, сталкиваясь, прядая, громоздясь горой, неслись по течению с шумом и треском, с угрожающим и таинственным скрежетом, звоном, шорохом, журчанием.
Не сговариваясь, остановились на Боровицком мысу, с наслаждением наблюдая великую работу воды и ощущая сквозняковый холодок, исходивший от льдин.
– Слушай, Андрей, – дрогнувшим голосом обратился Бяконтов. – Когда бежали мы с Василием Дмитриевичем из ордынского плена, то похоронили в степи друга нашего и наставника, боярина и воеводу славного Дмитрия Михайловича Боброка. Я еще молод был, сгинули бы мы с Василием Дмитриевичем в проклятом Сарае, кабы не мудрость да осмотрительность Боброка. И сам побег он организовал. Да вот настигла его молния… Если не поеду я с вами, отыщи его могилу, я тебе пропишу, где она.
– Это какой же Боброк, тот, что на поле Куликовом засадным полком командовал?
– Он самый. Много он Руси услуг оказал, а мы и могилу его забыли.
– Молнией его, говоришь?
– Да, страшная вдруг гроза нас настигла.
– Так ведь нельзя же земле предавать того, кого Бог поразил? Сожечь надо быть…
– Эт-то – да, я тоже это сыздетства помнил, а там перепугались мы с Василием Дмитриевичем, помрак нашел, мы бегом-бегом выкопали яму мечами и меч же русский заместо креста воткнули. Если найдешь…
– Непременно, Данила, непременно… И может, это от язычества в нас предрассудок такой – не хоронить убитых молнией да самоубийц?
При последнем слове Бяконтов как-то странно дернулся и в большую нервность и в раздражение впал. Заговорил часто и разбросанно:
– Э-э, мои предки верили, а иные люди и сейчас верят, что, съев мясо соловья, не сможешь уснуть… Что если намажешь глаза слепого желчью орла, то слепой обретет орлиную зоркость. Что, съев воронье яйцо, старик вместо седин будет иметь волосы цвета вороньего крыла… Ну, это пусть, это ладно, но при чем тут соловей и ночной сон?.. А смерть – это ведь тоже сон… Самоубийцы, известно, весь век мучиться будут, молиться за них николи нельзя, но земле-то почему же не предать?
Андрей не все, что выпалил горячечно Бяконтов, смог уразуметь, было много чего-то неясного, даже, кажется, и не сообразного ни с чем.
Данила сам, видно, опамятовался:
– Нет, не то я говорю…
Помолчал, снова малосвязную речь повел:
– Ты монах, тебе, я знаю, нельзя исповедь у грешных людей принимать. Но если я желаю именно тебе – не митрополиту Киприану, не епископу Герасиму, не попу Анисиму, а именно тебе, то кто может не позволить? A-а, скажи, Андрей?..
– Не позволить никто не властен.
– Тогда прими мою исповедь, а-а?
– Покаяться, исповедаться можно первому встречному, но отпустить грехи простой смертный не может.
– А мне и не надо отпускать. Я грешником уйду в ту холодную страну забвения. – Тут Бяконтов снова опомнился, смолк и так надумал: – Я тебе исповедаюсь, но не сейчас. Ты ведь в Спасском монастыре будешь Евангелие разрисовывать? Ну вот, я к тебе и зайду. Завтра… Или послезавтра.
С тем и расстались.
11
Ни завтра, ни послезавтра Данила в Спасском монастыре не появился. А через несколько дней встретил его Андрей на этом же вот самом месте – на стрелке, которую образует при впадении в Москву речка Неглинная.
Бяконтов нечаянной встрече не был рад, вроде бы даже попытался в сторону отвернуть, но тут же передумал, махнул рукой – вроде того, что ладно уж, была не была!
Река очистилась ото льда совершенно, и уже яроводье стихло, первая талая вода, прозрачно-голубоватая и словно бы невесомая, как воздух, вышла из берегов, зашла в Васильев луг и в огороды, подтопила калду и прошлогодние стога сена.
Данила показал на молодой дубок и выговорил с непонятной злобой:
– Знал бы ты, Андрей, как хочется мне взять вострый топор да в один замах срубить это деревце! Не ссек его, когда он леторослью был, и двухлеткой еще можно было как бы невзначай срубить… А нынче он заматерел, долго его крушить надо.
Андрей чувствовал, что за словами Бяконтова кроется что-то слишком серьезное, однако попытался перевести разговор в шутку:
– У того, кто сокрушит его, будет такая же слава, какую имел грек, сжегший храм Дианы.
– Это Герострат-то из Эфеса? – бездумно спросил Бяконтов, да вдруг и осенился: – А ведь как верно ты угадал! Деревце это, что храм, только не Дианы, а – Янги Синеногой! Сейчас дубок словно храм после пожара, но уже, смотри, набил почки, вот-вот лист брызнет.
– Нет, не скоро еще, он поздно распускается, после других деревьев.
– Да, одновременно и лист распускает, и цветет.
– Когда лист его развернется в заячье ухо, уже пора и овес сеять, земля теплая.
Так говорили они, оба чувствуя, что лишь подступают к настоящему разговору.
– Слушай, как на духу признаюсь, – начал было без обиняков Данила, да и осекся, то ли забоявшись, то ли засомневавшись в чем-то.
– Ты ведь хотел это сделать вчера или позавчера? – попытался ободрить его Андрей.
Данила вскинул лохматую и рано поседевшую – серебро с чернью – голову, улыбнулся в усы, тоже тронутые белизной – правда, тоненько, словно бы беличьей кисточкой, – свел брови (эти по-прежнему черны, ни единой сединки).
– Позавчера наметил я себе большие заботы на день. Хотел по поручению Василия Дмитриевича встретиться с польским посланником Августом Краковяком и расспросить его кое о чем. Намечал дать острастку конюшенному боярину за то, что он лошадей не перековал до сей поры, по распутице иные подковы надо навесить. Еще хотел проследить, как плотники великокняжеские анбары рубят, потом съездить в Кучково, там маленькое дельцо есть… А уж после того к тебе надеялся заявиться. Твердо решил, даже обдумал такое: поговорю с Андреем, изумлюсь сам на себя.
– Из-ум-люсь, значит, из ума выйду?
– Эдак, эдак!.. Из-ум-люсь, думаю, да и приложусь вечерком к бочонку, который мне кафский купец в дар прислал. Вот сколько гребты я наметил, но утром что-то захандрил, захандрил и из всего намеченного одно только последнее и проделал – к бочонку приложился. Да так, что вчера уж голова трещала весь день, стыдно было на глаза тебе показаться. Однако днесь я чист, как ангел.
Многоречив и суетлив был Бяконтов, и, как потом узналось, неспроста. Начал он издалека:
– Помнишь, в потешной хоромине домрачей Богдашка песню играл про глаз, который «глянет, словно светлый день»?
– Много тогда песен игралось, упомнишь все рази?
– Ну-у, нет, ту песню раз услышишь – век она будет в твоей душе жить. Вот, слушай, – Данила покосился на скандально граявших грачей, которые делили старые гнезда и удобные сучки на прибрежных осокорях, решил, что они все же не помешают ему и вполголоса напел.
Белое лицо как бы белый снег,
Ягоды на щеках как бы маков цвет,
Черные брови как соболи,
Будто колесом брови проведены,
Ясные очи как бы у сокола.
Она ростом-то не высокая,
У ней кровь-то в лице словно белого зайца,
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки
Ходит она словно лебедушка,
Глазом глянет, словно светлый день.
Андрей, конечно, сразу вспомнил, что слышал эту песню в исполнении Богдашки. Бяконтов напевал голосом надтреснутым и не совсем верным, однако столь прочувствованно, словно бы свои собственные слова выговаривая, что Андрей искренне похвалил:
– Дивно как!
– Когда мы были в татарском плену, один вельможа, подосланный хромым Тимуром, тайно встретился с Василием Дмитриевичем и предложил ему жениться на одной из родственниц нового будущего повелителя степей. А Василий Дмитриевич (ему тогда четырнадцать лет было) отказался… Тот вельможа не разгневался и признал, что лучшие женщины – это русские: он, помнится, даже и сказал, какие цены в мире ходят на наложниц, сказал, что русские женщины из-за красоты и сложения продаются на рынках Европы и Азии в десять и больше раз дороже, чем татарки, черкешенки, вот, это правда! И думаешь, из-за чего наследный княжич московский отказался скрепить дружбу с Тимуром родством и получить свободу?
– Сам же сказал: русские женщины всех лучше в мире.
– Верно, но княжич одну-единственную имел в виду – Янгу Синеногую. Это ведь про нее Богдашкой песня сложена, у нее одной лицо снегоподобной белизны – «кровь в лице словно белого зайца».
Чем-то Данила стал похожим на Пысоя, Андрей почувствовал знакомую неловкость и жалость в сердце и, опасаясь, что сходство это может увеличиться еще больше, если и Бяконтов признается в своих страданиях от неразделенной любви, спросил торопливо:
– Что же заставило Василия Дмитриевича все-таки отказаться от русской женщины, на литвинке жениться?
– Мы с Василием Дмитриевичем постранствовали, словно иудеи со своим Моисеем (не сорок лет, правда, а всего три года), пока своей обетованной земли достигли, а в Литве было нам особенно лихо – пострашнее, чем в Сарае даже, опаснее, чем в кипчакской степи и в Подолии во время побега. И не обручись тогда княжич с Софьей Витовтовной, то, как знать, говорили ли бы мы сейчас с тобой на берегу этой всегда ведь такой смиренной – а сейчас, смотри-ка, как разбуянилась! – реки Москвы.
Андрей смотрел на непривычно и устрашающе широкую реку, на яростную круговерть мутной и замусоренной воды.
– Ну, да ведь Софья-то христианка все-таки. Вместо «Pater noster» да «Ave Maria» стала молиться: «Отче наш…» да «Богородица, дево…», – продолжал Данила. – Княгиня она прирожденная… Красива, глупа, не ревнива.
Последние слова он произнес словно бы с досадой, удивив этим Андрея.
– Но я бы, кажется, согласился скорее в нетях быть, в Трокае замурованным до последнего смертного часа, чем Янгу предать… Такая девка, может быть, одна только и есть во всей Москве, во всей Руси даже, а может, и во всем свете она одна такая…
Андрей стоял, опустив глаза долу, чувствуя, как весенний ветер шевелит волосы и полы ряски. Ему ли, монаху, такие признания выслушивать!.. У него ли по таким делам совет искать… Да что они, Данила с Пысоем! Жестока, видно, прелесть женская, коли такую неустойчивость и даже буйство в душах производит! Что же сказать-то ему? Взгляд у Данилы больной да сумрачный. Знать, жжется она, любовь, сковородка дьявольская.
– А за что ты на дубок-то осерчал?
Не чаял Андрей, что в самое больное место угодит. Бяконтов покривился, как от боли, даже как бы и рассердился сначала, но вспомнил, что сам же ведь и начал с этого дубка.
– Янга любит его, кажется, больше всего на свете, то и дело сидит здесь вот и… плачет. Они с Василием Дмитриевичем детьми были малыми, закопали желудь и что-то там загадали, что-то тайное, их двоих на всем свете связывающее.
…Мир приваживал Андрея, расставлял ему сети блистающие, как тенета в серебряной утренней росе. Соблазны, роковые, неизведанные, влекущие сердце тайной своею, туга человеческая, печаль неизбывная – ей же несть утешения! – топила сердце его в сострадании. Страсти плоти бунтующей и детская чистая святость являлись ему в миру обручь друг с другом и вопияли о понимании. А искушения дьявольские: вражда, месть, славолюбие? И им место Богом допущено в сосуде скудельном – человеке. Где ж согласие, благолепность, покой? Где слиянность с Богом и великими творениями его? Только веруя в слиянность эту, можно решиться приступить к художеству иконописному. Иначе зачем? И что тщиться воссоздавать в божественных ликах? Неужто у Феофана правда?.. Всюду раздоры: промежду народами и промежду соседями, посреди власть имущих и среди нищих, друг у друга пеню взыскующих. Набеги, грабежи, гибель слабых и безвинных – зачем промыслом святым посылаются? Кого наказывать надобно? Кто во грехе погряз? Ну, а непорочных почто, а, Господи? Допустишь годы тишины и покоя, без сражений и глада, без мора и пожаров – так человек сам себе беду ищет, внутри себя терзается, аки лев рыкающий, душа его самое себя пожирает. Любовь – радость и свет Господен, на избранных проливающийся. Но зачем в муку такую она превращается, что мир кругом чернеет и весь виноватым делается? Почему все перепутано, все перемешано в жизни, данной нам для восхваления и благодарения Господа? Как обрести понимание сущего и таинства произволения Твоего, Владыка живота нашего? Все – свет, Тобою посылаемый и каждою душою живущей обновляемый. И тени есть лишь оттого, что все объемлет собою свет. Научи, вразуми, Отче, как испить чашу судьбы, Тобой предопределенной, как быть достойным имени сына человеческого и раба Твоего, Господи?
Долго молчал монах после исповеди боярина, далеко, сам не замечая как далеко, убрел мыслями. Давно бился разум его над вопросами, которые не всегда и назвать-то осмелишься, и трепетала душа от собственной дерзости и сокрушенности.
Не сговариваясь, они развернулись возле дубка, молодого, но уже вышедшего из младенческого возраста, уже не корявого, но вытянувшегося и распрямившегося, и пошли по взгорку назад к Боровицким воротам Кремля.
– А срубить ты его не решаешься отчего – Янгу огорчить не хочешь или гнева великого князя боишься?
– «Янгу огорчить»?.. Знаешь, я ее порой столь вдруг ненавижу, что готов саму ее порешить, не то что ее деревце… И гнева Василия Дмитриевича я не боюсь, чего мне бояться… Нет, не боюсь. Я все думаю всяко, думаю: ведь желудь они закопали в то время, когда Дмитрий Иванович полки на Мамая увел, дубок этот, выходит, ровесник достославной победы нашей на Дону. Он в Тохтамышево разорение уцелел, от пожаров всех уберегся, а я возьму – и топором его, а-а?..
– Да, на него, я думаю, даже и Маматхозя не посягнет.
– Маматхозя?.. О нем я всю подноготную прознал. Юрий Дмитриевич, который недавно в Сарае побывал по повелению великого князя, тоже подтверждает все. Маматхозя этот лаком зело до женок. Когда, бывало, после победного похода, воины собирали добычу – все, что можно увезти с собой на верховой лошади, если нет заводной (всякие нужные железки, шкуры, ковры), Маматхозя же приторочивал к седлу непременно какую-нибудь юную полонянку. Немало женок у него побывало, а вот Янга занозой в его сердце вошла… Вот и боюсь я, как бы он дубок-то этот не порешил по дикости своей, хоть он и христианином стал, нет у меня веры ему. Я и думаю: уж лучше я, а еще бы лучше – сам великий князь своей рукой, ему-то Янга…