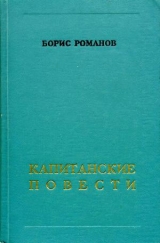
Текст книги "Капитанские повести"
Автор книги: Борис Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
12
На следующий день приступили с утра к ошкрябке главной палубы. Ее не красили толком с прошлого года, выползла наружу мельчайшая сыпь ржавчины, а прежняя зеленая краска незаметно сходила на нет. Палуба не то чтобы поржавела, а словно бы выцвела, как луг осенью. С раннего утра, пока ее не нагрело солнцем, она была росной и прохладной, и при желании можно было себе представить, что она прихвачена легким заморозком. Забортная вода уже имела постоянную температуру плюс двадцать пять, однако доктор запрещал ночной сон прямо на палубе, так она отсыревала. Доктор знал, как часто простужаются в тропиках по ночам на голом железе.
Бороться со ржавчиной начали по правому борту, чтобы успеть за два дня очистить его на ура, тут же загрунтовать и покрасить патентом. Боцман и Серго Авакян работали с пневматической шарошкой, следом за ними шел с визжащей вроде полотера стальной щеткой Толик Румянцев, а Володьке Мисикову с Графом досталась, как всегда, самая неблагодарная участь: ручными шкрябками и щетками они должны были выскребывать ржавчину по закоулкам, куда не было доступа малой механизации. Опять приходилось работать на четвереньках, на коленях да на корточках, опять нещадно потело набрякшее лицо и к полудню до обалдения припекало солнце.
Володька Мисиков от звонка до звонка качался вслед за щеткой, прикусив свои крошечные губки, надвинув каскетку на глаза и не удостаивая Графа ни единым словом. Граф робел и потому тоже молчал. В голове у него все последние дни уже не роились беспорядочные звуки и афоризмы, но звучало одно бесконечное «Болеро» Равеля. На карачках скребя рыжую ржавчину, Граф внимал мелодии верблюжьего каравана и ничего не мог поделать с собой. Взикали щетка, шкрябка и веник, иногда колокольцем звенел мусорный совок, звякало ведро, и, как шелест песка по барханам, только вдоль борта – шипение пены, сухое шипение пены. И даже тень Володьки Мисикова колебалась над ним плавно и зыбко, как тень груженного скарбом дромадера.
Перерыв мук и зеленый оазис покоя наступали тогда, когда по трансляции раздавалось: «Вниманию экипажа! В бассейн подается свежая вода». Это означало перерыв работ и массовое купание. Граф еле поспевал за Мисиковым, который бежал к четвертому трюму, мимоходом становился под шланг и затем рушился в бассейн в чем был. Граф же стеснялся своих прыщиков и своих грязных ног, но еще больше стеснялся купаться в робе, и потому долго оттирался под душем, забирался на трюм, обмакивал ступни в тазу с раствором хлорки и грустно медлил: в бассейне было уже не протолкнуться. Его дощато-брезентовые стенки трещали под напором буйства и веселья, взлетали за борт и на палубу фонтаны воды.
Граф попадал в бассейн в последнем эшелоне, вместе с Таней, поварихой и стармехом. Стармех Василий Иванович без женщин не купался, но, поныряв в тесном бассейне, подергав за ноги визжащую повариху, утопив пару раз улыбающуюся Таню, Василий Иванович молодел на десяток лет, вылезал, улыбаясь, располагался в сторонке и начинал с достоинством курить.
Граф при них жался в уголок, а если окунался, то закрывал глаза, боялся, потому что еще вчера обжегся, открыв глаза в воде: в голубом проплыли вдоль лица исходящие из алого купальника розовые с золотизной поварихины ноги, съежилось у Графа сердце, и он выскочил из бассейна, выхаркивая из легких воду и выжимая из глаз саднящую соль. Бывало, в Кременчуге он видывал и не такое, и даже целовался с двумя девушками до самозабвения, но тут, на десятом дне от порта, все оказалось не так.
Таня плавала неплохо, всем улыбалась, и было понятно, что ей хорошо в этом звенящем и плещущем мире, под солнцем, у мокрого брезента, на горячем железе под взглядами всего экипажа. Она быстро обводила себя ладонями, отряхивая капли, словно вылепляла саму себя из воздуха и воды, переступала по нагретой крышке трюма, сдергивала резиновую шапочку, трогала волосы и снова улыбалась всем. Тогда Мисиков вставал, со свистом сплевывал за борт и боком падал в бассейн. На том и конец перекуру.
Кто куда: одни в машину, другие – драить палубу, третьи – обед варить да белье стирать, некоторые – продолжить солнечные ванны, а иные – в каюты, поспать в холодке. Кому что по традиции и по распорядку дня…
– Володь, а Володь, ты чего же говорить не хочешь? Ты чего же?
– Да все того же, Граф, – только и ответа нашлось у Володьки.
И Граф от него отстал, тем паче, что опять надо было припасть к комингсу трюма да взяться за сварной шов на стыке с палубой. Кто изведал, тот знает; нет ничего хуже, чем пытаться очистить от ржавчины и сварочной окалины шов, если сделан он машинной сваркой да не зачищен с постройки – корявый, сморщенный, перевитой, как трос. Тут попотеешь, потычешь шкрябкой, щеткой так-сяк, а боцман все недоволен!
Солнце жарит беспросыпно, ни ветерка над океаном, а тут, у комингса, и вовсе не чувствуется никакой свежей струи, даже на полном ходу: воздух обтекает надстройку, гладит с боков ходовой мостик и взлетает вверх за корму вместе с мутным дизельным дымом. В этом дыме плавает, колышется, как чайка на волне, белый клотик кормовой мачты. И когда еще наступит акклиматизация!
Дизеля начали дымить, потому что изменился у них температурный режим, и надо бы делать перерегулировку, но стармех, погадав в штурманской рубке над атласом климатических данных, решил потерпеть еще денек, пока не подойдет нагрев воды к тропическому номиналу… а уж там можно будет и подрегулировать дизеля на все предстоящее в тропиках время.
Но Граф этого не знает. Он работает, опустив голову к палубе, к ржавчине, надоевшей, проклятой. Интересное дело: пот глаза заливает, во рту, как в парилке, сухо, а нос размок, хлюпать им приходится. Краем глаза видно, как время от времени почесывается Володька Мисиков. У Володьки штаны с рубахой посерели, пылью выступила на них соль, некоторые пылинки настолько большие, что блестят. Под солевым покрывалом вдвойне потеет Володька, соль его кусает, а не понял еще, что нельзя купаться в робе.
Жара! Железо скрежещет противно, зубы у Графа от этого скрежета свербят, а щетка в руках Серго иногда выдает такую ноту, словно это не щетка, а бормашина, и тогда не только зубы, но и колени судорогой сводит. Чтобы забыться, Граф ищет такт, ритм для щетки, и мало-помалу верблюжий караван снова пускается в путь по барханам, с визгом взлетает рыжая пыль из-под неторопливых копыт.
Через полчаса, сталкиваясь с Володькой Мисиковым, Граф не выдерживает:
– Володь, погоди, давай шкрябки сменим. У меня совсем ступилась.
– Пошли к наждаку, – согласился Володька.
И они перебрались на левый борт, где в закутке рядом со шкиперской оборудована у боцмана небольшая мастерская: тисочки, наждак, электродрель, точило.
Заверещал каменный диск, брызнули веером искры, и шкрябку выбило из рук Графа.
– Держи, дворянство! – прикрикнул Володька Мисиков. – Держать, что ли, не можешь?
– Погоди, Володя, ей-богу, руки устали. И палец, видишь, порезал.
– А! – Володька взялся сам, но и у него вышло не лучше: шкрябка ерзает по диску, шуму много, а толку – шиш, не затачивается каленая рессорная сталь.
– Погоди, Володь, сейчас рука отойдет, направим… Здорово тебе на судкоме вчера досталось?
– Все мое, другому в карман не переложишь… Как хотели, так и вклеили…
– Все за шторм?
– За все.
– А ты что же?
– Балбес ты, Граф!
– Я как друг, а ты…
– Ну все. Давай-ка шкрябку, пока нас как бездельников не засекли.
– Может, молотком эти зазубрины?
– Сказал!.. А черт их знает, может, и молотком…
Пока они пристраивались у тисков в надежде выправить зазубрины молотком, появился боцман.
– Так… Ну что тут у вас?
Граф протянул ему шкрябку.
– Кха! – сумрачно кашлянул Михаил Семенович. – Положи молоток на место.
Боцман медленно, как на инструктаже, снял с крючка и надвинул на глаза защитные очки, натянул рукавицы.
– Включи.
Засвистела сталь, слетающая с твердо прижатой к наждаку шкрябки, и, когда боцман перевернул ее, прямо на глазах протаяла по краю светлая полоска. Четыре раза повернул боцман шкрябку, посмотрел на свет и сунул в воду под точило.
– Крути.
Правил он ее, держа наискось, будто кухонный ножик.
– Хватит.
Стряхнув на верстак рукавицу, Михаил Семенович сбрил шкрябкой присохшую к пальцам краску, попробовал лезвие на ноготь и отдал шкрябку Графу.
– Мисиков, давай твою. И следи внимательно, как надо делать. Второй раз учить не буду. Смотри.
БАНЬО РУСО
Получается, что я все о прошлом да о прошлом, о том, что было, а вам пора уже знать и то, что будет. Поверьте, в будущем происходит не меньше событий, чем в прошлом и сейчас.
«Вышний Волочёк» пришел на Кубу раньше нас, и мы там долго прозагорали бы, но на входе в бухту Сантьяго-де-Куба с лоцманского бота вместо лоцмана поднялся к нам энергичный, молодой, загорелый, как мулат, человек в зеленой униформе с лейтенантскими уголками, с патронташем и пистолетом Стечкина на широком поясе, взбежал на мостик и поприветствовал всех сразу:
– Салуд, товаричи! Буэнос диас, капитано! О, компаньеро Виталий! Виталий! Комо эста устэ, как себя чувствуете?
– Муй бьен, грасьяс, Педро, и устэ? Очень хорошо, спасибо, Педро, а ты?
– Бьен, Виталий, хорошо!
Они обнялись и довольно долго выколачивали друг из друга морскую и земную пыль.
– Надо немного говорить, Виталий!
– Ну, пойдем в каюту. Старпом, полежим в дрейфе на этом месте, пусть в море помалу относит. Пасэ устэ, проходи, Педро. Уна копа дэ бино? Стакан вина?
Старпом, не ожидая лишних распоряжений, отправил к капитану Таню, и нам пришлось помаяться в догадках еще с полчаса, пока в сопровождении капитана у штормтрапа не появился загадочный Педро. Искры рассыпались по палубе от его улыбки.
На штормтрапе он задержался.
– Баньо русо, Виталий?
– Баньо русо, веник, квас и стакан бланка агуа! – ответил Виталий Павлович и поднял вверх большой палец.
Педро захохотал и спрыгнул на палубу лоцманского бота, а Виталий Павлович вернулся на мостик и скомандовал лево на борт и полный вперед.
– Разгружаться будем в Сьенфуэгосе, – объяснил он, – «Вышний Волочёк» уже у причала. Педро обещал все быстро организовать. Значит, сделает.
– Молод что-то этот Педро, – проворчал старпом.
– Ему, Василий Григорьевич, тридцать лет. Пацаном был у барбудос, а в шестьдесят втором уже отвечал за охрану советских судов.
– У нас говорить научился?
– В Ленинграде. Он еще на паре языков говорит, тоже на месте изучал, так что, старпом, у этой революции не начальное образование, а, как говорят у третьего помощника в Одессе, совсем наоборот. Ну, проложите курс вот так – и затем сюда.
И мы поплыли по зеленому, плоскому, как стол, душному Карибскому морю, вдоль берегов самого красивого в мире острова, и серые, сизые, сухие склоны гор Сьерра Маэстра прорывались с правого борта сквозь дождевые облака: пассат упирался в горы с той, с атлантической стороны, а тут наплывали облака, сверкали над саванной молнии, и после полудня разражался над побережьем ливень, – на Кубе стоял сезон дождей. Но в море, в десятке миль от берега, было жарко, влажно и сухо, только когда мы проходили мимо очередного ливня, заметно тянуло оттуда прохладой и сладко-терпким запахом мангровых зарослей, нескончаемо тянувшихся вдоль воды.
Нас и тут не забыли навестить и зарегистрировать наше прибытие: со стороны Гуантанамо появился большой четырехмоторный самолет, облепленный грибовидными наростами радиолокационных антенн, прошелся вдоль того и другого борта, залетел вперед, сбросил в воду два гидроакустических буя и стал кружить над ними, как призрак, то появляясь, то растворяясь в колеблющейся дымке морских испарений. Иногда сверху слышно было рычание его моторов.
Около одного из буев мы прошли совсем близко, его оранжевая головка с торчащей вверх щеткой антенны, покачиваясь, выглядывала из волн, а вокруг в зелено-голубой прозрачной воде расплывалось ядовитое пятно ориентирной краски, словно выпущенная каракатицей защитная жидкость. Самолет прослушивал, нет ли кого еще под нами…
Пока на следующий день мы входили по извилистому, как речка, фарватеру в обширную бухту Сьенфуэгоса, ждали буксир и швартовались к причалу, похолодало, потемнело, загрохотал гром, и небо разом опрокинулось на бухту. Ливень переполнил все, что имело края, вода потоком падала отовсюду, теплоход присел под ее тяжестью, и на палубах воды было почти по колено. Разламывалось небо, ветер порывом менял направление, и тогда становилось видно, что происходит вокруг.
На греческом транспорте, готовившемся к отходу по ту сторону пирса, выскочила на крышки трюма почти вся команда, нагишом. Они орали, прыгали, мотались над трюмом, яростно намыливали волосы на голове и внизу живота, смыкаясь в кольцо, танцевали сиртаки. Глядя на них, выбежали мыться изголодавшиеся по пресной воде наши ребята. Часовой на причале, еле видимый в потоках ливня, опрокинул карабин дулом вниз, чтобы туда не заливалась вода, скалил зубы, вертя мокрой курчавой головой то на нас, то на греков. Вот это потоп, вот дождь, вот ливень!
Третий механик, выглянувший было проверить захлопки машинной вентиляции, нырнул вниз, за руку вытащил наверх упирающуюся, плачущую и смеющуюся Таню, в коротеньком платьице и с синей ленточкой в прическе. Оба они мигом промокли, но механик, отнимая от ее лица ее же ладони, заставил ее взглянуть на сиртаки, на наших орлов, плясавших на шлюпочной палубе. Таня дала механику подножку и, пока он барахтался в водопадах на палубе, убежала вниз.
Громыхнуло снова, блеснула молния, да так и осталась сиять, потому что выглянуло солнце. Ливень пропал, и кое-кто не успел даже смыть мыло. С мостика грека залопотал толстяк в фуражке с огромнейшим козырьком, заспешили с плавками наши парни, засвистел отводивший грека буксир, и через десять минут стало жарко, хотя и не так, как было до ливня. Разгрузку начали через час.
Русская баня состоялась в тот же вечер. С Педро приехали в гости еще двое таких же симпатичных быстроглазых ребят, потому попариться за компанию капитан пригласил Андрея Ивановича. Помполит отказался:
– Я лучше потом на чаек загляну. Я тут с ребятами телевизор посмотрю. Боюсь, Виталий, сердце… Вы же озвереете!..
– Баньо русо! – засмеялся капитан.
– Вот-вот. Позови лучше инструктора.
– Ему нельзя скоромиться, Андрей Иванович, пост не позволяет…
– Попробуй. Пожалуй, только не пойдет он после именин…
– Ну, пошли мы. Ребята ждут. Пушками, боеприпасами своими весь стол завалили.
Скоро мимо салона прошествовала процессия с вениками, а капитан нес, кроме того, пачку простыней и запотевший большой графин с фирменным квасом. Повариха квас варить умела, из отпуска не забывала привезти с собой хмелю, и квас у нее получался не хуже, чем в самом знаменитом Валдае.
– Ну, даст он им сейчас! – восхитился Иван Нефедыч и даже потер руки.
Дверь в душевой охнула, сильней загудел паровой трубопровод, и дальний угол коридора наполнился невнятным банным шумом.
Парилка у нас, конечно, была без каменки, самодельная, не то что на новых судах финской постройки, но механики здорово постарались, комбинируя грелки с двойным перепуском, так что парок получался почти сухой, дышать, во всяком случае, можно было.
Пока мы под гром грузовых лебедок смотрели, как Фидель перед сафрой проверяет сахарные заводы, как он выступает на митинге протеста против американского произвола в международных водах, пока слушали песни Елены Бурке и смаковали ананасы в сухом вине, забеспокоился Георгий Васильевич Охрипчик. Он несколько раз выглядывал из запасной каюты радиста, где жил, потом прошелся к душевой, вернулся и все-таки не утерпел: приоткрыл нечаянно дверь и заглянул в раздевалку. Сразу слышно стало хлестание веников, охи-вздохи, рев и плеск воды.
– Ну, какого черта! Закройте дверь, пар уходит! – зарычал кэп.
Дверь в конце коридора защелкнулась, тапочки Георгия Васильевича конфузливо прошелестели по ковру.
Справедливости ради следует добавить, что после бани поварихой пронесены были в каюту капитана дымящаяся кастрюлька с картошкой в мундире, чайник заварного чаю и миска соленых огурцов… На следующий день, когда Педро у нас обедал в отсутствие капитана, Василий Григорьевич Дымков, как старший за столом, поддержал разговор:
– Как вам, Педро, понравилась вчерашняя баня?
– О, – счастливо засмеялся Педро, – муй бьен! Жена вчера сюда приезжаль… как это… в командировку, а я помниль только подушка… Утром – на! на! на! – И он, белозубый, с хохотом похлопал себя по шее.
13
Едва Таня начала ритуальную предобеденную возню с посудой, как солнце перебралось правее и косо засветилось в окнах кают-компании. Через десять минут все приборы расположились на своих местах, и хлеб дышал в плетенках, и соль с горчицей и перцем томилась в судке. Подрагивали стрелки цветов, и прохладцей тянуло словно бы не из кондиционера, а от озера с картины. Таня часто забывала, что там тоже переборка, выходящая к канцелярии грузового помощника, посмотришь – и взгляд проваливается в озеро и в простор за соснами.
Полированная коробка с фотографией крестной мамы «Валдая» и с горлышком той самой бутылки, что была разбита о форштевень при спуске судна на воду, занимавшая раньше центр этой стены, висит теперь в столовой команды, на видном месте среди экспонатов задуманного Андреем Ивановичем судового музея. А тут – озеро, подаренное в прошлом году, когда приезжала делегация из этого городка, Валдая.
На озеро с противоположной стороны кают-компании смотрит суровый и усталый Ленин. Смотрит он и на капитанское кресло, стоящее между ним и озером, и Таня не раз замечала, как, бывает, тоже смотрит на Ленина Виталий Павлович, даже иногда спотыкается во время еды. Взгляд у Ленина требовательный, не то что в школьных книжках. Фотография, говорил Андрей Иванович, сделана была в самые тяжелые дни для нашего государства, и Андрей Иванович считает, что именно такой Ленин делал революцию. Андрей Иванович сам эту фотографию раздобыл и очень ее любит. Из-за нее и капитан поссорился с инструктором профкома Охрипчиком. Инструктор поморщился как-то, иностранцы, мол, смотрят, надо сменить портрет, повесить фотографию Ленина с улыбкой. Тут Виталий Павлович и взорвался: ленинский, говорит, оптимизм не в улыбке! Сусальные коммунисты мечтают о сусальном коммунизме, но Ленин-то был не такой! Он, Георгий Васильевич, верил не только в неизбежность, но и в необходимость коммунизма. А необходимость – это потребность, нужда, обязанность для человека! Пока ему, глядя на нас с вами, особенно улыбаться нечему!..
Георгий Васильевич Охрипчик на Таню смотрит ласково, с каким-то длинным сочувствием. Расспрашивает, интересуется, советует, какие книги читать. Таня решила с ним больше не разговаривать, а если уж не удастся отвязаться от разговора, то спросить его прямо, как матроса: что надо? Федя Крюков говорил, что Охрипчик человек большой, непростой, намекал, что и сам не лыком шит. Сил нет, как он, Федя, улыбается Виталию Павловичу: уже и зубы кончились, а улыбка все расползается…
Володьку Мисикова тоже жалко. Суматошный он, кроме как посмеиваться, ничего не умеет, нынешний подъездовый мальчик… У них в школе таких тоже много было, некоторых армия на глазах по частям собрала, а другие все так и валандаются…
Когда ехали в Новороссийск, «Валдай» догоняли, Володька хлебнул в вагоне-ресторане для храбрости и попробовал в тамбуре сграбастать ее за грудь. Пришлось показать ему один прием, после которого он долго валялся на полке, а потом на всех станциях то цветы, то вишни, то помидоры покупать бегал, пока не кончились деньги. Она Володьке чемодан от вокзала до причала нести доверила, до сих пор счастливый ходит. Ходил, вернее.
Сегодня днем, когда Виталий Павлович приказал три самых жарких часа на солнцепеке не работать, как купались да загорали на трюме, Таня попробовала поговорить с Володькой, но он только оглядел ее снизу вверх и чвикнул слюной сквозь зубы. Синяк у него под глазом уже почти совсем прошел, и Таня не обиделась, только еще больше Мисикова пожалела: на друзей, кроме Графа, ему не везет, а родителей, она же знает, он и сам за ценность не считает – они, говорит, довольны, что меня вырастили, без дела не болтаюсь, вот и пусть будут довольны…. Да с таким безразличием, что страшно становится. Она бы никогда о своих бестолковых папке с мамой так не сказала…
Таня росла странно, то в деревне, то в городе, потому что отец с матерью жили врозь, а она любила их обоих: разойдясь, они продолжали хорошо вспоминать друг друга. Отец жил в Рязани и преподавал в сельхозинституте, а мама остановилась в деревне, у деда с бабушкой, неподалеку от есенинского Константинова и знаменитой своею церковной колокольней: точеная желто-белая, из светлого кирпича звонница, с шатром в голубых звездах, стоящая на горе по-над Окой, видна была за десятки километров с плоского левобережья да с реки, почти из-под самой Рязани.
Шесть часов накрутит теплоходик по речным извивам, а колокольня все так же стоит там, в выси.
– Вот и для меня так твой папка, – сказала ей когда-то давно мать, – я перед ним виновата, и вот сколько по жизни ни кручу, а все его вижу.
Таня была маленькая, но это запомнила, и всегда оглядывалась на колокольню, когда ехала в Рязань, к отцу, в школу.
– У мамы удивительная душа, – говорил отец. – Просто ей не тот человек был нужен…
Летом Таня по нескольку раз на день переплывала Оку, и, случалось, уносило ее течением далеко, пока она лежала на спине, слушала звон воды и разглядывала небо. Потом она вскидывалась, искала блистающий звездами шатер и выбиралась на берег. Ей ничего не стоило пройтись обратно по нагорной или по пойменной луговине и снова броситься в воду, не дожидаясь парома. Одна беда, вода в Оке с каждым годом становилась все грязней и грязней, после купания приходилось отмываться из колодца, и во время сенокоса на низких левобережных лугах воду из речки отстаивали, сливали и дважды кипятили.
Ах, этот сенокос! Таня всегда брала с собой дедову фляжку с домашним, на крыжовнике, морсом, и славно было из нее отглотнуть, отдувая кусочки ягодной кожицы, стоя в жарком невесомом сене, с плавающими под платьем щекочущими знобливыми сенинками, разгоряченной настолько, что сама чувствуешь, как начинает скапливаться потный ручеек, от шеи вниз, в лифчик, по ложбинке. И сама-то солнцем прокалена сильнее, чем эта скошенная поутру трава.
Сегодня в полдень, на палубе, после неудачного разговора с Мисиковым Володькой, Таня снова вдруг ощутила это сенокосное состояние, когда по жилам, кажется, не кровь бежит, а сплошное солнце.
Хоть бы намек на ветер в океане, горячая соль на всем, роятся кое-какие облачка по сторонам, но долго не посмотришь ни в небо, ни в море: сразу гул в голове.
Свежепокрашенная надстройка сверкает на солнце, как белое пламя, тропики подступают, запахи юга кружат голову, спрячешься в кондиционированной каюте, а тело горит изнутри.
Слава богу, хоть по вечерам солнце быстро скатывается в воду.








