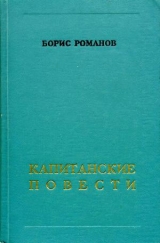
Текст книги "Капитанские повести"
Автор книги: Борис Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
4
Граф задержался к завтраку. Вернее, он опоздал. Еще вернее, он проспал. Наверху занялся день, отшумела вода в душевых и туалетах, матросы приступили к работе, а Граф мирно спал на поролоновой койке в кондиционированной прохладе каюты. Его счастливое дыхание обтекало подушку и шевелило челочку. В каюте висел тонкий запах кагора и чего-то еще.
Дело в том, что ночью Графу не дали отдохнуть. Сначала мучила качка. Порывистые взмахи и взлеты довели Графа до сомнамбулического состояния. Он перестал думать и с трепетом ждал, когда овладеет им рвота. Однако тошноты не было, только кружилась голова, и потому ни о чем не думалось, кроме того, что вот-вот должна начаться морская болезнь, а что тогда делать? Иллюминаторы задраены, до гальюна бежать далеко, кульков, как в аэрофлоте, нет. Борясь с этой мыслью, Граф удерживал себя на диване между столиком и переборкой и не в состоянии был отвечать боцману. Но и без его ответов боцман сделал верный вывод, исходя из одного только выражения Графьих глаз, обесцвеченных томлением. Работали, как и полагается, вместо Графа другие.
Потом среди ночи явился мокрый и расхристанный Володька Мисиков. Тревога разбередила сознание Графа, потому что на Володькином лице, в обрамлении желтых волос, он смутно распознал синевой отливающий бланш.
Володька ткнул Графа в грудь чем-то твердым и острым, Граф застонал и стал самим собой. Они откупорили бутылку, сбив сургуч об угол стола, Граф по-рыцарски поделился с Володькой стаканом, но Володька захотел из горлышка, и Граф с замиранием сердца выпил стакан сам. Этого оказалось достаточно. Тоска по тошноте улеглась, голова перестала кружиться, и Граф упал в койку. Ему стало очень жаль себя, потому что он не был на аврале, а вот Володька вернулся оттуда мокрый и бедовый, лихой, и они выпили шторму назло!
Лежа в койке и пытаясь облизать облитый кагором подбородок, Граф смотрел на Володьку, и ему стало жаль не себя, а Володьку Мисикова, хотя тот и пил из горлышка, и вообще был парень что надо.
Володька мотал головой, стучал кулаком по столику и твердил непонятное:
– Подумаешь! Еще посмотрим, чей козырь, да! Подумаешь! А я что, не моряк? Моряк я? – вдруг взял он Графа за грудки.
У Графа сил не хватило, чтобы кивнуть – и баста. Все исчезло. Вот потому он и задержался к завтраку.
…Пока третий помощник спускается с мостика, чтобы по приказанию капитана поднять Графа, есть время пояснить, почему он Граф. Сам по себе он не граф, ему девятнадцатый год, и зовут его Николай Семенович Кравченко. Он любит много думать, но мысли у него имеют не познавательный, а воспоминательный характер. Мелькают в голове картинки детства, дни отрочества, прогулки по Днепру и песни Энгельберта Хампердинка. Еще мелькают постоянно порты заграничных стран, которые он очень хочет увидеть, закончив мореходную школу и став матросом на теплоходе «Валдай». Тем не менее Графом он был всегда: постоянная его задумчивость не дает ему быть как все. Кроме того, он изысканно рассеян и любит музыку. На «Валдай» он прибыл с гитарой, обклеенной переводными блондинками.
– Иди, сынок, – с горестью и любовью проводила его мать, – может, на флоте из тебя что сделают…
Неведомым образом и на «Валдае» его прозвище стало известно на второй же день. Даже Виталий Павлович, который всех знает по имени-отчеству и по фамилии, раз-другой уже называл его Графом…
…Красный флаг полыхал на гафеле «Валдая», сновали корабли между Европой и Африкой, которые так хотел увидеть Граф, и скорбная каменная женщина на мысе Тарифа, белая от земной пыли и океанской соли, недвижно смотрела в спины уходящих, а Коля Кравченко, разбитый качкой и кагором, лежал в каюте. Он многое бы еще проспал, но вмешался распорядок дня, и третий помощник уже дошел до его каюты…
– Я говорю, – сказал третий помощник, – ну и атмосфера!
Он подошел к койке и выдернул из-под головы Графа подушку.
– Вставайте, Граф, вас ждут великие дела!
Этой фразе великого утописта графа Сен-Симона суждено было преследовать Колю Кравченко всю жизнь. Он ткнулся носом в спасательный костюм, нюхнул талька и вскочил, оправляя челочку и хлюпая слюной.
– Говорю, чихните, Кравченко! – назидательно сказал третий штурман, и Граф действительно чихнул. – Я говорю, стыдно! Люди работают, капитан за вас лается, а вы все в клоаке. Стыдно! Брюки? Брюки вы уже неделю не снимаете. Та-а-к, да будет свет. Какая крошка!.. За вас все девушки в Гибралтаре скучают… – пропел третий помощник и пощекотал графский живот.
Граф думал о том, куда делся ночью Володька Мисиков, почему кончился шторм и какой грозный этот Гибралтар.
Еще он вспомнил политическую карту мира и то место на ней, где пестрые берега распадались налево-направо, уступая сплошной синеве…
– Уже океан? – отчаянно спросил Граф.
– Я говорю, в тот год, когда вы родились, выпускники мореходок приходили в бескозырках с ленточками на три сантиметра ниже спины и боялись пропустить даже Азовское море. Вы же явились при козыречке короче воробьиного носа и проспали океан. Как измельчали мореманы!.. Советую убрать из раковины, пока в нее не заглянул старпом. – Уже в дверях третий помощник остановился и строго сказал Графу: – Я говорю, Кравченко, я судоводитель, а не будильник!
Граф совладал с челкой, оправил рубашку и тогда с ошеломлением увидел раковину.
– Не может быть! Не было этого! Я же помню. Точно помню. А вдруг? А может, это Володька? Может, Мисиков? Или…
Он почувствовал, что снова закружилась голова, что судно начало куда-то опускаться, и бросился из каюты, вспомнил, что забыл выключить свет, но как же тогда… после… после… Он побежал наверх, силясь удержать в себе все, что было.
Наверху резануло по глазам пеной, синью, рыжим бортом встречного танкера, блеском стекол на его рубке. Граф вцепился в железо и свесился за борт. Завитки пены закружились, запузырплись перед ним, и когда, разогнувшись, он впервые вдохнул непорочно-мужественный воздух моря, он подумал о самом себе, дрожащем, липком, испохабленном кагором, он увидел себя как бы со стороны, с мостика того танкера…
Светлый стремительный теплоход с льнущим к нему человечком распахивал звенящую воду, и чайки за его кормой пировали, пикировали в кильватерную струю, празднуя встречу Графа с океаном.
5
Капитан видел, как выворачивало Колю Кравченко. Встречный танкер, коробка этак на сорок тысяч тонн, стал уваливаться к «Валдаю», пришлось резко отвернуть, в в конце концов Виталий Павлович вышел на крыло, чтобы проследить за либерийцем. Либериец-то либерийцем… Красно-белый флаг, полосатый как матрас, с белой звездой в синем переднем углу, колыхался лениво, словно его отряхивали от пыли, но внушительная труба, выкидывающая клубы дыма, выдавала владельца: жесткая черная латинская буква N перечеркивала цветные полосы. Супермиллионер из Греции Ставрос Ниархос продолжал зарабатывать деньги. Но клерки его не всегда работали четко: танкер разгребал и перелопачивал воду впустую, подводная часть с потеками ржавчины высоко поднималась над морем.
– Порожнём жарит, – сказал вахтенный матрос, прибиравший мостик.
Капитан не ответил. Он как-то явственно представил себе Море, так, как о нем думали древние – с большой буквы. Море, покрытое кораблями. Море безбрежное и нескончаемое. Море, иссеченное сталью, отсвечивающее нефтью, замусоренное бумагой и синтетикой. Море, возрождающее себя каждый миг…
Огромный нефтевоз Ниархоса пролопатил к проливу, его порожние трюмы жаждали нефти, пятилопастный винт вместе с брызгами выбрасывал в воздух хозяйские деньги, и экзотичная штора нищей Либерии ниспадала за корму.
Справа цепочкой шли три танкера в грузу, довольно уткнувшиеся носами в пену. Спешил на юг белый, как холодильник, банановоз. Неисчислимое количество кораблей растекалось по морю, и дух предпринимательства доступен был не обонянию, а взгляду. Но кого куда что гнало?
Ощущение изначальной чистоты и необходимости своей работы захватило Виталия Павловича.
«Себя не забываем, но не для себя стараемся, – подумал он, – это ведь, пожалуй, главное в нас…»
И ему вдвое прекрасным показался «Валдай» не только потому, что он был строен, строг и современен, но потому, что на нем делалось то дело, которое по душе…
Вахтенному было не до капитанских размышлений. Он уже выскреб из пепельниц окурки, тщательно упаковал их вместе с мусором в газетный кулек и давно прикидывал, как все это удобнее выкинуть по ветру за борт, чтобы не тащиться вниз к мусорному рукаву.
Вахтенный отодвинулся, выбрал мгновение, но, пока он размахивался, капитан оглянулся, замаха не вышло, и пакет зашелестел вдоль самого борта. К счастью, он шлепнулся в воду, и мусор не разнесло по судну. Виталий Павлович ничего не сказал, потому что увидел внизу этого пацана, распластанного по планширю, Колю Кравченко. Вахтенный решил исчезнуть, но капитан остановил его движением руки.
– Все по второму закону! – доложил вахтенный.
– Ваши чинарики на пляжах Испании люди глотать будут.
– Так там же сплошь буржуазия!
– Ну стоп, знаток. Там внизу Кравченке плохо. Посмотрите, чтобы за борт не свалился, и потом доставьте к доктору.
Вахтенного как ветром сдуло, и Виталии Павлович прищурился ему вслед. Он сам когда-то в шутку сформулировал три основных морских закона о ветре: 1. Ветер дует в компас. 2. Не сори против ветра. 3. Попутный ветер дует в спину.
Этот сводик мореходной и житейской мудрости оказался неожиданно популярным на «Валдае», и весь экипаж выучил его наизусть. Даже по поводу одного надоевшего всем разгильдяя на судовом комитете было предложено: администрации применить третий морской закон. И тот был с треском списан с судна.
С некоторых пор Виталий Павлович остерегался афоризмов, они слишком легко запоминались и потому приобрели излишний для дела вес. Кроме того, любой афоризм ироничен. Виталий Павлович заметил, что больше пронимает темная, несистематизированная мысль, которую надо додумывать на людях, а еще лучше – вместе с людьми. Поумнели все, что ли, и никто не приемлет готовых истин?..
Убрали с планширя изнемогшего Графа, поредел поток судов: кто пошел на северо-запад, на Европу, кто на юг, вдоль Африки, кто по дуге большого круга через океан на Нью-Йорк, Гаити, Рио-де-Жанейро. Скрылась в волнах вытесанная из камня Мать моряков, скорбящая на берегу, и сам берег размазался по горизонту, стал безликим. Просто з е м л я виднелась теперь на востоке. Пучок попутных пароходов пока держался, но скоро и он распадется: кто на треть градуса больше дрейфует под ветер, у кого скорость меньше на полтора десятка метров в час, а на третьем неопытные рулевые – так, стянутые одним курсом, все они потихоньку расползутся, разойдутся, рассыплются в океане и, может быть, в лучшем случае на протяжении многих суток будут видеть лишь кончики мачт друг друга, торчащие над ободом горизонта…
Настало время заняться текущими судовыми делами. С чего же начать? Виталий Павлович представил страничку перекидного календаря, исписанную вкривь и вкось, и решил, как рекомендует французская поговорка, начать с начала.
Следовало убедиться, насколько точно определяются штурмана, и задать курс отшествия. В Атлантике открывался сезон тропических ураганов, и, хотя информации о циклонах еще не поступало, Виталий Павлович решил все же не забираться к северу, а выгадывать в скорости, идя в зоне Азорского максимума и далее – в полосе субтропических широт.
Из пылевидной желто-серой полосы берега выделилась темная, вроде мухи, точка, заметалась над морем, постепенно догоняя «Валдай».
«Ну, вот и патрульный самолет, – понял капитан, – через пару галсов и нас зарегистрирует. Все по плану».
Он еще посмотрел на самолет и вошел в рулевую рубку.
– Я говорю, течением сносит, – доложил третий помощник.
– А именно?
– Да вот, говорю.
Третий помощник был одессит.
Вернее, он считал себя таковым, потому что закончил Одесскую высшую мореходку. Вообще-то родом он был из Ярославля.
– Я говорю, вахте можно будет стоять раздетой? – переключился третий помощник. Ему не терпелось хватануть атлантического загару.
– Сначала с плаванием разберемся. Потом спустимся поюжнее. Потом жарко будет. А когда жарко будет – вахте будут разрешены шорты.
Третий помощник вздохнул, и его лицо с хорошим породистым носом обволоклось выражением неосуществленной мечты.
– Я говорю, определяться будете?
– Предупредите вахтенного, чтобы он патрульный самолет не проморгал, – во-первых. Во-вторых, подправьте курс на авторулевом на два градуса вправо. Ну, и в-третьих, покомандуйте судном, пока я тут навигацией займусь.
– Понятно! – воодушевился третий.
Виталий Павлович определил место по локатору, однако дальнейшие расчеты пришлось отложить на четверть часа.
Четырехмоторный старомодный «Шеклтон» наплыл тяжело и медлительно, как «летающая крепость» в кинохрониках второй мировой войны. Обдало дробным поршневым ревом, свистом пропеллеров, шелестом воздуха.
– Служба, номер! – крикнул Виталий Павлович.
– Ройял Айр Форс помер 12970, – доложил третий помощник.
– Запишите. Впрочем, он наверняка еще заход сделает.
Тут в рубку вошел помполит Андрей Иванович Поздняев с инструктором комитета плавсостава Жорой Охрипчиком, и пришлось положить карандаш на карту.
– Доброе утро!
– Утро доброе.
– Кто был-то?
– Англичанин.
– Доверяют, значит?
– Доверяют.
– Кто доверяет? – спросил Охрипчик.
– Американцы. База у них тут рядом, Рота, слышали? Авиация, атомные лодки… А облетывают англичане с Гибралтара. Выходит, доверяют друг другу.
– Интересно, забавно, – сказал Охрипчик. – А где база-то?
– Ну, рядом, – Виталий Павлович постучал безымянным пальцем по Кадисской бухте.
– Ну?
– Ну. Бинокль возьмите, он сейчас с носа зайдет, вся красота нараспашку.
– А вы?
– Я насмотрелся…
– Я с вами пойду, – сказал помполит.
– Вот, самый лучший бинокль, Георгий Васильевич!
– О! – Жора с биноклем устремился наружу. – Где он?
– Напрасно ты с ним так разговариваешь, Виталий, – сказал помполит.
– Ну? Что, есть оргвыводы из вчерашнего шторма?
– Будут. Какие-нибудь. Иначе зачем же киселя хлебать…
– Вон, летит.
– Знакомо, – ответил Андрей Иванович и одним глазом, как птица, уставился в рубочное стекло.
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА
Серго от нее отказался, и с этой шкурой я натерпелся бы хлопот, если бы не Федя Крюков.
Во-первых, она в нескольких местах была просечена гусеничными траками, а изнутри плохо выскоблена. Во-вторых, неясно было, что делать с медвежьим черепом и как к нему присоединить остальное, чтобы получился толковый ковер. В-третьих, у меня не было ни комнаты, где его растянуть, ни такой женщины, чьи ножки стоило бы беречь от холода шкурой полярного медведя.
Я обскоблил шкуру и череп, как умел, и несколько дней чистил мех опилками, крупой и всем, что попадалось под руку. Глазеть на это собирался весь свободный от вахт экипаж, советовали все, не помогал никто, и в конце концов я сделал то, что давно советовал Миша Кобылин: запер шкуру и череп в холодной кладовке под полубаком и оставил все до порта.
Но в порту тоже было не лучше: в ателье меховых изделий шкуру не принимали, в скорняжной мастерской требовали охотничий билет, я полдня искал правление общества охотников, оно, оказывается, находилось под боком у пароходства, но закрылось на выходные дни. В заготсырье я, конечно, не пошел.
По городу активно колесил со мной Федя Крюков, и когда мы, опустошенные, вышли на угол и закурили на морозце, Федя сочувственно сказал:
– Послезавтра в рейс… Есть еще один выход, – он улыбнулся, обнажая желтые крупные зубы. – Не пропадать же добру… Я бы купил.
– Что ты, Федя, – ответил я, – спасибо тебе за хлопоты. Я, понимаешь, вообще думаю, что шкура попала не туда. Капитан седины хватанул, когда от айсбергов откручивался, доктор этому Лешке целые сутки промывание делал, а шкура – мне. Так что я, Федя, продавать ее не буду.
– Доктор к жене в Питер улетел, – заметил Федя.
– Откуда знаешь?
Федя улыбнулся своей улыбкой травоядного ящера, и вдруг глазки его ожили:
– О чем говорим! У кэпа день рождения завтра. Мой совет – лучшего подарка не придумаешь! Мы это быстренько! Тут и идти-то рядом. Сейчас мы отношение для проходной – и пешочком. Это же со мной по пути! У кэпа друзей полно – ему что хошь сделают!
Федина инициатива покорила меня. Мы взяли у артельщика мешки поприличнее, запаковали шкуру, выписали пропуск и двинули к капитану.
У переездов танцевал на морозе третий механик в лаковых ботинках, нейлоновой куртке и ондатровой шапке.
– Все потеете? – издали захохотал он.
– Есть немного, Алексеич.
Федя Крюков подкинул мешок на спине и заулыбался.
– А ты, Федя, куда? – спросил его третий механик.
– Да вот, вместе мы, Виталию Павловичу день рождения…
– А, тогда и я с вами! Спешить некуда… А ты, Федя, зря к капитану, ты же дома рамы законопатить обещал… А может, лучше к Фросе пойдем? У нее подружки – сам знаешь… Давай подсоблю.
Федя Крюков молча мотал головой, улыбался, и его длинная тощая фигура в пальто балахоном качалась под тяжестью мешка.
Даже я с одной медвежьей головой взмок, пока мы взбирались наверх, на квартала́, а Федя и подавно.
– Перекурим, – сказал третий механик. – Ты, Федя, мешок на снег не бросай, как его потом в квартиру? Дайка я его подержу. Вот так. Закурили? Ну, а теперь, Федя, давай пять. Я знаю, что ты тоже член судкома. Но с какой, скажи, стати ты к кэпу завалишься? Это же подхалимаж, Федя. Шкура-то не твоя! Если бы ты свою выдал, это я понимаю. А то! Неудобно, Федя, неудобно. Иди-ка ты окна заклеивай.
– Стоит ли, Алексеич? – спросил я.
– Так я что? Я разве? Видишь, Федя сам идти не хочет. Он же не подхалим. Верно, Федя?
Федя Крюков стоял, то улыбаясь, то стискивая зубы, в длинном двубортном бежевом пальто и в голубом выгоревшем берете на крохотной головке. Мне стало жаль его жилистой шеи.
– Ну так что, Федя? – спросил я.
– Мне тут рядом, – ответил Федя, – капитана поздравьте. И вправду окно утеплить надо. В рейс уйду – детям холод останется. Да. Чего же, веселия вам. И у меня маленькая на ночь найдется. До свиданьица.
Мы с третьим механиком пошагали дальше, и мне все казалось, что кто-то смотрит в спину, тупо, как парабеллум. Я оборачивался, но на тропинке между сугробами ничего не было, кроме темноты.
– Зря ты так, – сказал я третьему механику.
– Ничего, я его знаю, перебьется!
Я вспомнил Федин горячий шепот, когда мы вылезали у Медвежьего из шлюпки, и решил не спорить.
Горбатый проулок привел нас к капитанскому дому. От подъезда задним ходом выруливало между сугробами такси, шофер ажурно матерился в открытую дверцу. Увидев нас, он стал культурным.
– Ребята, подтолкните чуток!
Мы его подтолкнули, и Алексеич вцепился в бампер:
– Погоди, и я с тобой.
– Да ты что? А к кэпу?
– Меня же Фрося ждет! Ты там не очень, не забывай, что с утра под погрузку. Виталию Павловичу привет. Мешки не забудь.
Никакой Фроси у механика не было, это я знал точно. Просто он посовестился самочинно являться к капитану.
Машина укатила, а я, обдирая мешками лестничные пролеты, вскарабкался на четвертый этаж. Открыл сам капитан.
– По линии общественности? – прищурясь, осведомился он.
– И от себя лично.
– Тогда проходи. Ого! Мог бы и не так роскошно. Медведь?
– Он.
Капитан засмеялся, блистая фиксой. Смеется он часто, улыбается того больше, но я ни разу не слышал, чтобы он хохотал.
Я ввалился в коридорчик, и теплый, чистый, милый запах с в о е й квартиры охватил меня. Домотканая дорожка поверх цветного линолеума уводила за угол, где звякала посуда и раздавался женский говор. Из других дверей бормотал телевизор, из третьих шумела вода. В коридорчике было не пошевельнуться.
– Я тут на вахте, – сообщил Виталий Павлович. – Жена на кухне… Зря ты ее приволок. Я ведь ее, пожалуй, не заработал. Ага, пожалуйста!
Дверь слева от входа приотворилась, уперлась на мешок, и в прощелок выглянул серьезный серый глаз.
– Вот, дядя, полюбуйся: его дело делать посадили, а он выглядывает.
– Мне ника-а-к, – затянул хозяин серого глаза.
– А ты напрягись.
– А я напрягаюсь! А это чего привезли?
– А это то, чего тебе знать не надо.
– На этом дело один товарищ на Новой Земле уже погорел, – объяснил я.
Дверь захлопнулась.
– Видишь, все сразу понял. Ну, раздевайся. Отодвинь лыжи. Кстати пришел. Там гости кое-какие… А что с ней делать?
– Я сегодня город изъездил. Морока!.. Блат бы помог.
– Па-а-п, – послышалось за дверью, – а па-а-п!
– Ну, чего тебе?
– А кто такой блат?
– Ну, знаешь что, – возмутился Виталий Павлович и заглянул в дверь, – перестань ковырять стенку! Лучше напрягись как следует!
– Да-а, а мне стыдно напрягаться, потому что дверь плохо закрыта-а…
– Вот шкет! Мы уходим. Через пять минут я вернусь, и если все будет без изменений, ты никогда не увидишь, что мне принесли в этом мешке, ясно?
– Ясно-о. Приди через пять минут.
– Ну, пошли. Чего же ты решил со шкурой проститься?
– Куда мне ее? Ее бы вам с доктором напополам, но раз он улетел… Федя Крюков купить хотел.
– А он-то что? – непонятно спросил Виталий Павлович.
– Это его идея, про день рождения он вспомнил.
– Ну, Федя все помнит, – усмехнулся Виталий Павлович, – он у нас такой…
– Он вас поздравить просил, и третий механик, и вообще все ребята говорили…
– Ну, не так пылко, не на юбилее, – засмеялся капитан.
Распахнулась дверь в кухню, оттуда вывалился сноп июльских запахов: лучок, помидоры, с толком приготовленный шашлык и к нему соус ткемали. Еще там что-то потрескивало и отдувалось потихоньку.
Вышли гости.
– Знакомься: это жена поэта. Это поэт. А это – моя жена.
Жена поэта вскинула живые карие глаза. Поэт, на мой взгляд, больше походил на золотоискателя или на Фритьофа Нансена, пятьсот суток прозимовавшего в снегу, такое у него было обмороженное, обожженное природой лицо, мохнатый свитер я в зазубринах руки. Интересный парень был этот поэт, усы и борода его тоже казались примороженными, да еще с подпалинами от костра. А жена самого Виталия Павловича была такой же простой и милой, как ее квартира, и Виталий Павлович покраснел, представляя нас друг другу.
– Лида, гм, – сказал Виталий Павлович, – этот товарищ принес нам много хлопот. Там, в мешках, шкура и череп медведя, я тебе рассказывал…
– Виталик! – всплеснула она руками. – Что мы с ней будем делать? Оленьи шкуры, которые ты привозил, так и сгнили на чердаке. Ребенок испугается, да и мне самой уже страшно. Ты, конечно, смеешься, – забавно пригрозила она указательным пальцем, – но ты послезавтра уйдешь, а что мне делать? Нет и нет!
– Что ты, Лида, это же такое чудо! – возликовала жена поэта.
– Пойдет, – загудел в усы поэт, – хорошо пойдет! У меня есть один приятель, Витя, ты его знаешь – Кузьмич, он чучела для краеведческого музея делает. Пойдет! Ты, Витя, только оставь деньжат на представительство. Ковер будет – пальчики оближешь и закачаешься! Ну-ка, где тут он, мой губастенькнй, мой клыкастенький?
И мы столпились в коридорчике, и под женский визг, ахи, охи, под одобрительное гудение поэта посмотрели угол шкуры с когтистой лапой, и вовремя догадались не открывать мешок с медвежьей головой, чтобы не напугать совлеченного с трона любознательного сынка.
Еще некоторое время пройдет, прежде чем этот медведь растянется по капитанской гостиной, и капитанская жена Лида без трепета начнет водить по нему щеткой пылесоса, а сынок – кататься верхом, держась за уши, на скаку задирая к потолку грозную пасть. Тогда на шкуре не останется следов мяса и крови – того, что отличает жизнь от экзотики.
Мы затащили мешки на заснеженный балкон и плотно заперли окна.
– Отсюда отлично виден залив, – задумчиво сказал поэт, – и когда Виталий на подходе, на этом гвозде постоянно висит бинокль. Когда Виталий приходит домой, бинокль убирают, потому что напротив – женское общежитие. Даже зимой, когда стекла в инее. Каково?
Я пожал плечами, поэт вдохновенно трахнул меня кулаком по спине, и мы сели за стол, и капитан разлил всем из графинчика водки, приправленной бальзамом, и мы выпили за здоровье капитана, за здоровье хозяйки дома, за тех, кто в море, на вахте (и в поле! – добавил поэт), а также за всех тех, кому полагалось бы выпить с нами.








