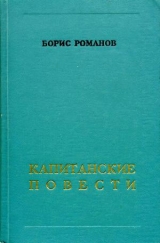
Текст книги "Капитанские повести"
Автор книги: Борис Романов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
9
Андрей Иванович Поздняев имел привычку прокаливать поясницу после полудня, перед чаепитием, когда и море, и «Валдай», и воздух прогревались повсеместно и ниоткуда не могло уже прохватить сквозняком. Для прокаливания выбирался участок железной палубы на солнцепеке, прогретый до такой степени, чтобы невозможно было ступить босой ногой. Андрей Иванович расстилал в один слой тонкий шерстяной плед, не спеша раздевался до плавок и, покряхтывая, зажмурясь, укладывал себя плашмя, так, чтобы между спиной и палубой не было ни единого зазора.
Матросы жалостливо отводили глаза от иссеченного вкривь и вкось тела помполита. Розовые рубцы шрамов выделялись всегда: и по белизне незагорелой кожи, и еще страшнее – по загару. Никакое солнце не брало их, ни соленая вода, после длительного загорания швы начинали лишь пластмассово блестеть. Сам Андрей Иванович их, пожалуй, уже не замечал и не считал большим горем. Наоборот, он был откровенно убежден, что ему очень повезло на войне: семь ранений – и шесть из них вскользь, рвало и коверкало снаружи, не продырявливая насквозь.
На седьмой раз повезло меньше: у самого Адриатического побережья, на границе Албании и Югославии, жаркой и сухой весной сорок пятого года осколком немецкой мины выбило у Андрея Ивановича правый глаз. Двадцать пять лет прошло с тех пор, привык он обращаться со скользкой стекляшкой, не было уже противно вынимать ее по утрам из стакана с борным раствором и вставлять на место. Когда очень уставала глазница, Андрей Иванович давал ей отдых, носил черную муаровую повязку. Но вот когда долго лежал на солнце, начинало видеться одно и то же.
Кровь приливала к несуществующему глазу, и словно бы начинала стекляшка распознавать мир таким, каким он был тогда, – в красном тумане. И из этого тумана медленно прорезывалась веселая фигура Петко Вуйковича, партизанского командира, с дареным ППШ на груди. Петко наклоняется, достает бутыль вина из-за пазухи, и на Андрея Ивановича что-то льется, капает, то ли кровь, то ли слезы, то ли крестьянское это вино, – так и не узнал никогда, что это было, головы не удержал, упала она обратно на колкий, раскаленный камень.
Покачивают плащ-палатку партизанские ишачки, приученные к тяжести раненых и к весу минометов…
Когда начиналось это покачивание, Андрей Иванович с усилием над собой перемещался по одеялу на свежее место, с наслаждением чувствуя, как рассасывается по телу тепло, успокаивается голова и начинает затягивать дремота.
Но спать себе он не давал. Полежав минут пятнадцать – двадцать, до появления пота, он перекатывался на новое место. И так пока не исползывал весь плед. Затем он вставал, одевался и шел по судну, стараясь сохранить в себе способность непринужденного движения, не дать себе остыть. Чаще всего он отправлялся к Мише Кобылину и просил работы. В это время он был весел, здоров, разговорчив, и самые проникновенные из политбесед получались тут, за работой, и в это время приходили его послушать все, кто мог.
…Он переменил позицию в третий раз, когда на него пала тень Жоры Охрипчика.
– Что, все бьетесь, воюете с радикулитом, Андрей Иванович?
– Грею про запас, я ведь старый член этого клуба…
– Хотите, желаете, у меня есть рецепт?
– С растворением бритвенных лезвий?
– Да нет. Этот рецепт жена списала для тещи. Теща у меня женщина деловая, серьезная, сообщает, что помогло. Так как?
– Очень буду обязан.
– Ну так вот: берется куриное яйцо, опускается в стакан с уксусной эссенцией на пару дней, пока яйцо не растворится. Затем эссенция сливается, в раствор добавляется пятьдесят грамм сливочного масла, и все это держится в темноте три – четыре дня, после чего смазывается то место, где болит. Это рецепт народной медицины. Да и теща сообщает, что помогло, полегчало.
Андреи Иванович, помаргивая, разглядывал чисто выструганную голову Охрипчика, его седоватые волнистые волосы и серые твердые глаза. На небе над головой Георгия Васильевича висело, словно венок триумфатора, белое облачко…
Жору Андрей Иванович заприметил давно, когда тот из инженеров по технике безопасности определен был в инструкторы комитета плавсостава.
Метод работы Георгия Васильевича и образ его жизни были столь же чисты и ясны, как его рано седеющие волосы и речного цвета глаза. Проводить линию Охрипчик умел и отличался блестящей беспристрастностью, но что в нем лично Андрея Ивановича отпугивало, так это то, что был Георгий Васильевич человеком неизбирательной добросовестности.
Андрей Иванович, будучи членом парткома несколько лет подряд, имел возможность понаблюдать за Охрипчиком вблизи и потому встретил Жору на «Валдае» с любопытством. Впрочем, Георгий Васильевич имел командировку продолжительностью в один рейс и должен был оказать помощь в организации соревнования.
– Ну, и попутно, по ходу, почерпнуть из вашего опыта… – сказал он с широкой улыбкой…
– Так что, как, Андрей Иванович, состоится сегодня судком? – присаживаясь на уголок пледа, спросил Георгий Васильевич.
– Сегодня обязательно.
– А не слишком ли узко ставится вопрос о соревновании?
– Соревнование вахт? Мы плывем, значит это – самое основное. Правда, тут разница в показателях не так заметна и исчислима, как на разгрузке своими силами или в саморемонте. Но она есть, хотя, может быть, в значительной степени выражается в моральных категориях.
– У нас моральные категории пока не соревнуются.
– Ну почему же? С этого и начинается настоящее соревнование.
– Не будем спорить, ругаться, Андрей Иванович, – еще более мягко сказал Охрипчик. – Но где вопрос о соревновании с другими судами?
– А что мы знаем о других-то судах? Перед отходом я запросил показатели по однотипной группе – удивлены вопросом. Подсчитываем, говорят, в начале следующего квартала результаты будут в «Северной звезде», читайте. Я се, конечно, прочитаю… в будущем году. Да что там! «Вышний Волочёк», наш систер-шип, одновременно с нами идет на Кубу из Ленинграда, а мы узнаем об этом потому, что радисты – друзья. А у нас – парное соревнование! Где же тут гласность, где же тут сравнимость результатов и где же здесь возможность практического повторения опыта?
– Ах, Андрей Иваныч! Это отработано, организовано…
– Ах, еще бы! – ответил Андрей Иванович. – Я давно предлагал баскомфлоту издавать «Справочник социалистического соревнования» по всем статьям: финансово-экономическим, техническим, административным… и еще каким – не знаю. Оперативной информации по этим вопросам у нас – вообще никакой!
– Мы же эфир забьем, засорим невероятно!
– О, какая забота! Да он и так черт те чем замусорен. Давно ли мы из Новороссийска, а уже только от баскомфлота получили два радио: об организации художественной самодеятельности и о конкурсе на лучшую наглядную агитацию. Да какие радио! На каждое по три бланка радиограммы. Нет уж! Соревнование надо сравнивать больше по внутренним показателям, а не по тем, что будут в «Северной звезде». Конъюнктура, Георгий Васильевич, – больше чем полдела! То одинаковые рейсы для разных судов, то разные линии для однотипных. Ударная сила, авторитет и обаяние капитана иной раз больше значат, чем труд экипажа в целом…
– А вашего, вашего капитана?
– Нашего? Ну что же… и нашего тоже. Голова у него с прицелом… Вообще он у нас такой, понимаете, парнишка… вместе с экипажем. Такой же плохой, такой же хороший. Короче говоря, у меня нет желания бежать к другому.
– Отрадно, чудесно. Огромная к вам просьба, Андрей Иванович, сделайте мне макет этого вашего справочника. И будьте спокойны, уверены, он будет рассмотрен в баскомфлоте и парткоме.
– Это вы, пожалуй, пробить сможете…
– А как же, Андрей Иванович! Будет и мой взнос, вклад в общее дело.
Андрей Иванович поднялся и начал собирать плед, а Жора Охрипчик ласково похлопал его по согнутому плечу.
10
Открытое заседание судового комитета теплохода «Валдай», на котором разбиралось персональное дело Володьки Мисикова, состоялось в кают-компании сразу после семнадцати.
Приглашены были: капитан, помполит, старпом, Охрипчик, стармех и секретарь комсомольской организации судна Серго Авакян.
Расположились как обычно: судовой комитет за тем столом, что ближе к телевизору, приглашенные – за столом старшего комсостава, но так, чтобы капитанское кресло деликатно пустовало. А сам Виталий Павлович на обычном своем месте в сторонке, между полкой с цветами и кондиционером, откуда видны сидящие, и входная дверь, и затемненная глубина курительного салона, где во всю торцовую стенку светилась прозрачная северная вода, запрокидывались сосны, золотые кресты и ретрансляционная вышка: лицо районного городка Валдая видно было отраженным в его знаменитом озере.
Виталий Павлович любил эту картину. Во время самых докучливых дебатов, когда он разрешал курить в кают-компании, раздольное озеро с растворенной в нем зеленью хвойного леса освежало так же явственно, как если бы он погружался в ту воду на самом деле.
Когда дымили, играли в шахматы и спорили в самом салоне и горели плафоны дневного света, картина теряла задушевность и глубину, и, поразмыслив, можно было решить, что художник искал покоя, споря с самим собой: яростными, крупными, сшибающимися были мазки кисти, и заляпанная ими холстина, как заплата, выпирала с орехового пластика переборок. Может быть, художник спорил не только с собой, и потому, лишь погрузив в полутьму зализанный модерн салона, можно было оживить озеро.
Так или иначе, но Виталий Павлович сидел в сторонке, а председатель судового комитета электромеханик Иван Нефедыч быстро провел вступительную часть, отодвинул книгу протоколов секретарю и начал разбор персонального дела.
Пригласили Володьку Мисикова. Он вошел, коротко высвистнул «здрассте», приткнулся к косяку двери.
– Шапку сними, – строго сказал Иван Нефедыч.
Володька покраснел, стянул пляжную кепочку, сунул ее в карман брюк. Его гусиная синеватая голова поразила Виталия Павловича, и капитан едва не спросил его, зачем надо было так подстригаться, но сдержался, чтобы не мешать естественному ходу заседания. Загара на месте былой мисиковской роскошной шевелюры не было, и потому все сначала уставились в его обрамленное театральной бледностью лицо, да еще с угасающим синяком.
– Эк, ты… – сказал Иван Нефедыч. – Продолжаем, товарищи. Матрос Мисиков Владимир Николаевич прибыл к нам к началу рейса, то есть перед отходом из Новороссийска. За это время имеет ряд проступков, прогул, к обязанностям относится плохо, на замечания не реагирует. Я, к слову сказать, сегодня с ним беседовал, так он больше в сторону смотрел. Скучно ему со мной было, вишь ты. Ну ладно, до нашего судна он был на «Вытегре», характеристики оттуда не имеем. Человек молод, весной этого года закончил мореходную школу. Где учился-то, Мисиков?
– В Пярну, – потупился Володька.
– Хороший городок, бывал я там. Так что, товарищи, прежде чем решать и слушать Мисикова, у меня есть предложение заслушать представителя администрации, в данном случае старшего помощника. Как, возражающих нет? – Иван Нефедыч повернулся вправо, к своему заместителю Феде Крюкову, принял его одобрительный кивок, потом влево, где сидел насупленный боцман Михаил Семенович Кобылин. Иван Нефедыч глянул в его неподвижную лысину и кивнул сам. Затем он осмотрел других членов судового комитета. – Нет возражающих? Слушаем старпома.
Василий Григорьевич Дымков поднялся, пожевал губами и заговорил:
– Может быть, у некоторых товарищей складывается впечатление, что я слишком много претензий предъявляю к Мисикову. Но это не так. Я считаю, что я был к нему недостаточно требователен. И я не буду голословным. Возьмем первый его проступок. Вот документ, – сказал старпом, – написанный самим Мисиковым. – Он взял со стола линованный в клетку тетрадочный листок и показал его кают-компании. – Это объяснительная Мисикова на мое имя, я постараюсь прочитать ее так, как есть.
Аристократический выговор у старпома исчез, он искусно передавал мисиковскую шепелявость и даже весь стиль объяснительной, вместе со знаками препинания и абзацами:
«Объяснительная ст. помощнику капитана т/х Валдай В. Г. Дымкову от матроса второго класса Мисикова В. Н.
13 августа 1971 года в 09 час. 30 мин. Вы сняли меня с вахты на палубе, по той причине. Что я был не у трапа, где должен был находиться, а был в жилом помещении. Но я не виноват.
К одному из наших моряков пришла женщина. Вызвать дежурного четвертого помощника Груздова я не мог. Потому. Что помощник – лицо ответственное, и если ко всем морякам будут приходить женщины, то у него просто не хватит времени чтобы выполнять свои обязанности по своему заведыванию.
Только по этой причине я совершил свой проступок.
Прошу Вас, пересмотреть свое решение поставить мне прогул. Действительно ли я виноват в своем вынужденном,чувством понимания долга дежурного, уходе с вахты. А вместо прогула я попрошу, Вас, поставить мне выходной, на т/х Валдай у меня есть уже один выходной.
В. Мисиков, 14.08.71 года».
– Каково? – спросил старпом и передал объяснительную на стол судового комитета. – Но я продолжаю. – Голос Василия Григорьевича снова обрел бархатистую картавость и глубину. – Пробовали Мисикова ставить на вахту, вперед не смотрит, про руль и говорить нечего, стоит отвратительно. Прекрасно! Перевели в рабочую команду. Не выполнил распоряжения боцмана, в результате было утоплено десять чехлов из клееной нейлоновой ткани общей стоимостью около полутора тысяч рублей. Кто будет платить?.. Но и этого Мисикову оказалось мало! Он умудрился опоздать, когда его вызвали по штормовому авралу, потом принял самостоятельное, дурацкое решение бежать на бак по наветренному борту, в результате чего был едва не смыт за борт! Его спасла только счастливая случайность. Вы себе представляете, что бы мы в этом случае имели?!
Нет, Мисиков, просто так это оставлять нельзя, и я вам при свидетелях говорю: я из-за вас в тюрьму не пойду! Вы можете тонуть, когда вам угодно и где вам угодно, но я в тюрьму не собираюсь! Посмотрите – он отделался синяком, а теперь ходит, гордится, геройчик!
…У Володьки Мисикова горло переломилось, словно пожарный шланг. Неудержимое давление слов отрывало его от палубы, но он только судорожно замотал головой, упираясь в грудь подбородком и ничего не видя, кроме суровой лысой головы боцмана Михаила Семеновича Кобылина.
«Эх, – хотел сказать Володька, – эх, разве я такой? Разве так я все делал? И про чехлы я просто забыл, совсем забыл…»
– Нечего несчастного строить, Мисиков! – продолжал старпом, – взрослый человек, деньги зарабатываешь, пора нести ответственность. Комсомолец, наверно! А патлы какие отрастил? Думаешь, в них краса? Грязь в них и перхоть!..
Мне, товарищи, десять дней вместе с доктором пришлось его уговаривать, чтобы подстригся. Вы бы посмотрели, как он сегодня трудился! Все стараются, работают, чтобы на Кубу в достойном виде прийти, а Мисиков спит! В разгар рабочего дня! Капитан двадцать минут насчитал, пока он спал. Я считаю, что мы должны сегодня решить: или будет Мисиков работать как требуется, или пусть пассажиром катится туда и обратно! К чертовой матери!
– Спокойнее, старпом, – краснея, заметил Иван Нефедыч, – вы не на швартовке. А ты, Мисиков, слушай достойно, когда о тебе правду говорят.
Он поднял с переносицы очки и ввернул их спиралью в воздух:
– Что скажешь, Мисиков?
НАША ТАНЯ
Конечно, вы знаете актрису Татьяну Лаврову? Так вот, в нашей Тане тоже было что-то лавровское: то ли губы, сложенные на полуслове, то ли беззащитная смелость взгляда. Это не только мое мнение. Просто я больше других запомнил актрису, и потому мне не нужно было придумывать, на кого похожа наша буфетчица. Впрочем, на белом свете много похожих людей, и меня часто мучает зрительная память: откуда я знаю этого человека?
Особенно достается русским женщинам. Когда долго пробудешь за границей, почему-то в первом же нашем порту все женщины кажутся знакомыми. Не знаю, может быть, тут дело в спокойной русской открытости взгляда, или ненарочитости жеста, или еще в чем-то, что я не успел пока разгадать, или, может быть, даже в том, что для моряка тоска по родине всегда совпадает с тоской по женщине, – не знаю. Однако мне случалось обознаваться даже в первых русских женщинах, ступающих на борт, – врачах, открывающих санитарную границу.
– Здравствуйте! Вы что же, сюда перебрались из Калининграда?
– Здравствуйте… Я никогда не была в Калининграде.
Но о Тане.
Всем юным девушкам не следует плавать на океанских пароходах, а таким, как Таня, и подавно. Не по смазливости. Да в что такое красота, когда одно и то же лицо видишь месяцами? Тонкость души отстаивать трудно.
Когда она к нам пришла, она еще не забыла, как гоняла с пацанами в проулке мяч, и потому на первое время сама собой нашла выход, как быть со всеми на равных. Хорошо это у нее получилось: плавали вместе, словно играли в футбол в одной дворовой команде.
В непогоду она укачивалась только первые сутки, а потом вставала и работала до конца. Ребята это ценили и одобряли: кому охота переходить на самообслуживание и мытариться с грязной посудой, в качку, в мыльных парах, хотя бы и артельно?
В портах она поначалу не знала, куда себя пристроить:
– Мальчики, вы куда? Мальчики, и я с вами!
– Опять с этой зажигалкой? Пошли, без нее проще…
Но она вылетает, и пошли: в культпоход по магазинам, в кино, на шлюпочную вылазку или пробовать пиво. Потом она вовремя всем надоела и сама стала отходить от экипажа, больше о себе думать. Видали, плакала иногда.
Федя Крюков как-то вполголоса посетовал за завтраком в столовой:
– Посмотри, боцман, Танька сияет. Весела птичка, на сучке зарю встретила… Все, Миша!
Миша Кобылин, говорят, хотел ему вклеить по шее, но вместо того взял еще один кусок хлеба, повертел его так и этак и стал намазывать маслом погуще.
Ничего не случилось, но через два месяца Таня с «Валдая» ушла, и в ту же стоянку явилась к нам на борт Жанна Михайловна, активистка женсовета. Я про нее и раньше знал, потому что она была крупной специалисткой по моральным обликам.
Стоянка была короткой, капитан с Жанной беседовать ввиду занятости не смог, и принимал ее Андрей Иванович Поздняев.
Когда я к нему зашел уточнить, надо ли включать в заявку на трансфлотовскую машину перевозку кинокартин и библиотеки, Андрей Иванович обрадовался мне.
Разговор у них с Жанной Михайловной шел, видимо, серьезный, потому что на столе урчала кофеварка и пачка печенья была распечатана с обычной для Андрея Ивановича гигиеничной изысканностью.
Жанна Михайловна осталась сидеть вполоборота, а я согласился выпить чашечку кофе, потому что очень усталый был у Андрея Ивановича глаз. Так и посидел я минуты три – четыре, дегустируя кофе и разглядывая плоскую добродетельную спину Жанны Михайловны, ее пепельные завитые волосы и золотую дужку очков, выступающую сбоку.
Вроде бы и не худая была Жанна Михайловна, не тощая, налитая такая женщина средних лет, однако все на ней сидело словно чехол: и платье, и чулки, и легкая косынка, будто она не одежду носила, а нечто такое, что прикрывало ее от воздействия окружающей среды. Может быть, я и не прав, но что уж было абсолютно верным, так это праздничное ее лицо.
Когда кофе был выпит и делать осталось нечего, Андрей Иванович попросил прислать к нему предсудкома Ивана Нефедыча, а Федю Крюкова предупредить, чтобы с борта не сходил.
Все было выполнено в точности, но еще, я помню, забега́л ко мне капитан, спросил, кивнув в сторону каюты помполита:
– Сидит?
– Да.
Капитан неясно улыбнулся, ничего не сказал и побежал по делам.
Странно у него в таких случаях светится фикса, зазывно, как клык.
Федю Крюкова задержать не удалось, он уже успел отпроситься у стармеха и убыл до отхода в поликлинику водников…
Таня уехала в отпуск, потом еще где-то плавала, а перед самым нашим отходом из Новороссийска на Кубу появилась у трапа в модных брючках, запорошенных цементной пылью, и в сопровождении солнцеподобного Володьки Мисикова.
Виталий Павлович нехорошо потемнел на лицо, выслушав доклад старпома о прибытии новой буфетчицы, но ничего не предпринял.
Серьезной женщиной стала наша Таня. Вот тогда-то именно я и понял, кого она напоминает.
11
Многие после судкома переживали за Володьку Мисикова, но говорили и о другом, о втором вопросе повестки дня.
Интерес сформулировал Виталий Павлович:
– Ну, еще раз подумаем, как ничто превратить в нечто. Вопрос не новый. Но возьмем карандаши и посчитаем.
Во что обходится сегодняшний сон Мисикова? А во что обходятся перекуры? При том, как перекуривают у нас, десять минут перекура в час надо считать минимальной цифрой плюс по десять минут на мытье рук перед обедом и к чаю, итого час сорок в день на человека – долой!
В рабочей команде на палубе – пять человек, значит на перекур уходит ежедневно труд одного матроса, восемь с лишним часов. Триста с лишним человеко-дней ежегодно! Если же сюда добавить перекуры по остальным членам экипажа, получится, что мы на круг плаваем с постоянным некомплектом штата в три – четыре человека, и никто за них не отрабатывает! Что? Ах да, я не прав. Я слышал, комсомольцы опять обязуются выложить по десять часов сверхурочно и безвозмездно. Комсомольцев у нас шестнадцать человек, итого двадцать человеко-дней судну подарят патриоты, и они же сами за один только этот рейс дней сто пятьдесят с гаком прокурят!..
Конечно, есть работы, на которых без перерывов нельзя, и это подтверждено трудовым законодательством. Но сами эти перекуры… Во всем Советском Союзе так? Ну что сказать… Большинство из нас бывали в странах, где перекуров как таковых вообще нет… Я лично не заметил, чтобы из-за их отсутствия там страдала производительность труда или жизненный уровень трудящихся… Да и в Союзе… Вы как реагируете, когда продавщицы в гастрономе на перекур уходят? или кассир? Свое время? То-то и оно: своего времени жаль, государственного – нисколько!
Далее. Так называемая раскачка. На нее, я думаю, времени тратится еще больше, чем на перекуры. Ту же палубу, допустим, от ржавчины очищать надо. Смотришь: шкрябки с вечера наточены, шарошки шлангами оборудованы, сурик по банкам разлит, а работы все нет и нет. В чем дело? Матросы выспались, теперь им море утреннее посозерцать надо.
И летит время… О рабочей хватке с похмелья у меня вообще слов нет!
Нельзя думать о социалистическом соревновании, когда административно плохо организовано производство. Нельзя хребтом выправлять то, чего не доделала голова. Кроме того, при нашей системе оплаты, при твердых окладах, мы не можем всю работу брать на аккорд: расплачиваться нечем. А потому выход один – повышение производительности труда в пределах рабочего времени. От чего же тогда она, производительность, может повыситься? Только от повышения уровня личного мастерства, личного профессионализма. В этом-то и есть основа соревнования внутри коллектива.
Для того чтобы по-современному организовать работу, мы должны, прежде всего, знать, во что она нам обходится сейчас и что даст нам улучшенная организация, механизация и рационализация. Кстати, не та рационализация, что мне показали на примере кресла в центральном посту. Изумительное кресло! Теперь вахтенному механику не хватает только, чтобы это кресло разъезжало по посту, чтобы он мог, не вставая, обозревать все приборы. Такую рационализацию знал еще Гоголь: помните, как у него галушки со сметаной сами прыгали Пацюку в рот? А вы на это кресло убили трое суток рабочего времени. Кстати, стул, стоявший там ранее, был отличный, мягкий, с подлокотниками. Вон штурмана всю вахту проводят на своих двоих – и хоть бы что, меньше спать хотят. Так что давайте начинать не с кресла!
Как проходит этот рейс? Мы идем с опережением графика, и для того, чтобы это опережение сохранилось, нам достаточно иметь превышение плановой скорости на три десятых узла. Маршрут выбран оптимальный, и из авторулевого точности большей, чем техника позволяет, не выжмешь. Задержку со средиземноморским штормом мы уже ликвидировали. Но из Ленинграда с аналогичным грузом вышел «Вышний Волочёк». Когда мы подходили к Гибралтару, он был у Кейп-Врейча, на сто пятьдесят миль ближе нас. Теперь он тоже где-то на полпути. Значит, один из нас по приходе на Кубу будет простаивать. Так что план этого рейса зависит от бога и от стармеха. Если погода будет благоприятной, а дизель – работать, как на ходовых испытаниях, мы попробуем успеть раньше. Но, товарищи, «Вышний Волочёк» недавно доковался и имеет преимущество в скорости.
И последнее: о тех, кто руководит, то есть о всех здесь присутствующих. Да и не только о командном составе. Мы все здесь – руководители. В конечном счете, мы руководим отношением к труду. Давайте об этом не забывать. Что, Федор Иванович, сказал о профсоюзах Ленин?
– Профсоюзы – это школа коммунизма, – незамедлительно ответил Федя Крюков.
– И как это понимать надо?
– Значит, это, мы в профсоюзах… учимся, как жить при коммунизме, – застенчиво улыбнулся Федя.
– Видите, какая ясность… А Ленин, по-моему, имел в виду кое-что другое: в профсоюзах воспитывается коммунистическое отношение к труду. И соревнование, кроме получения конкретных производственно-финансовых результатов, имеет, так сказать, сверхзадачу, цель, которую мы не всегда видим: внедрить в нас, в людей, то понятие, что труд есть главная ценность жизни.
Ничего лучшего по этому поводу я не скажу, чем уже сказал один великий человек, французский скульптор Огюст Роден. Вот отрывок из его творческого завещания:
«Страстно любите свое призвание. Нет ничего прекраснее его. Оно гораздо возвышеннее, чем думает обыватель.
Художник подает великий пример. Он страстно любит свою профессию: самая высокая награда для него – радость творчества. К сожалению, в наше время многие презирают, ненавидят свою работу. Но мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде».
Тут уж, повторяю, мне больше добавить нечего. – И Виталий Павлович постучал кулаком по листку бумаги на ладони.








