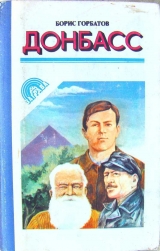
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
В этих песнях для Виктора был образно сформулирован весь кодекс чести коммунара; и доведись Виктору попасть под вражьи пули – он уж знал бы, как держаться: стоял бы, бровью не дрогнув, и умер бы с песней на устах.
Но среди всех песен, что легким горлом пели он и его товарищи на демонстрациях, и на собраниях в ожидании председательского звонка, и по вечерам в клубе, и ночью на тихих улицах Чибиряк, – ни одной песни не было о труде, о шахте, о пятилетке. Тогда еще не были сложены эти песни, а может быть, Виктор их просто не знал. И не было такой песни, что научила бы его тому, что сейчас делать.
Нет, он не мог пойти на демонстрацию рядом со Светличным, Очеретиным, Митей Закорко; нельзя ему идти, стыдно; и петь ему теперь нельзя; и на шахту он завтра не выйдет, не посмеет выйти…
Но и лежать он больше не может. Он встал, оделся, подошел к окну. Дождь все падал и падал… Он, как коногонский кнут, хлестал рудничную улицу, и та вся съежилась под его ударами и почернела. Была похожа она сейчас на мрачный и узкий штрек старой шахты. Так же низко висела над ней кровля осеннего темного неба; так же хлюпала вода и ползла по стенам грязными потеками; лежала на всем мокрая, липкая угольная пыль; и дождь был черный, и земля – черная; и голые, бурые тополя вдоль улицы казались не деревьями, а стойками органной крепи; и колеи были засыпаны черно-рыжей жужелицей, как подъездные пути; и не было ни ветра, ни запахов трав, ни дыхания степи, а только уголь и дым да едкий запашок серного колчедана с террикона…
"Даже дождь тут пахнет не дождем, а шахтой!" – тоскливо подумал Виктор и пошел к другому окну.
Но и в этом окне была шахта. Над нею нахохлился мокрый, хмурый копер, и на его вершине монотонно-медленно вертелось колесо подъемной машины.
"Никогда я не привыкну тут! – мрачно подумал Виктор. – Только зря пропаду!"
Эх, если б можно было начать жизнь сначала! Сначала и на новом месте. Как бы замечательно работал он на новом месте! Все равно где, только бы далекодалеко отсюда, там, где никто и никогда не узнает о его позоре, не напомнит, не усмехнется. Как бы он замечательно работал там! Он бы начал все сначала, ни одной ошибки бы не повторил, сперва скромно учился бы у мастеров, а потом и сам стал мастером. Только бы позволили ему начать все сначала и на новом месте. Он не знал еще, что жизнь не беговая дорожка стадиона, где после неудачного старта можно вернуться на линию и начать бег сызнова, по пистолетному сигналу. В жизни приходится стартовать именно с того места, где споткнулся или упал, если уж упал.
Он опять прилег на койку. Его знобило. Он натянул одеяло. "А на шахте я не могу больше, как хотите!" Без славы еще можно прожить, – как жить с худой славой?
Пришли ребята с демонстрации – мокрые, счастливые… Пустыня, в которой лежал дотоле Виктор, вдруг заселилась голосами, смехом, жизнью, беготней.
Подошел к койке Андрей, участливо посмотрел на друга.
– Ну как, легче?
– Нет.
У Виктора действительно началась лихорадка. В эту ночь он плохо спал; тревожно метался на горячей постели, рвал с себя одеяло, бредил… Смутно вспоминал он потом чью-то прохладную ладонь на лбу, обрывки видений, отзвуки голосов… Пьяный Шубин в шахтерке из рваной рогожи куда-то звал его, тащил и все подмигивал, как Очеретин. "Я, брат, бог, меня все боятся, со мной не пропадешь!"
– Надо доктора позвать! – вдруг услышал он над собой знакомый голос.
Он очнулся. Было утро. Вокруг койки собралась вся смена: ребята были уже в шахтерках.
– Мы сейчас к тебе доктора позовем! – повторил Светличный, и его голос прозвучал участливо, дружески.
Виктор увидел встревоженное лицо Андрея, испуганное – дяди Онисима; ему стало неловко, досадно, он вдруг рассердился: что они в самом деле! Я же еще не умер!
– Мне… доктора… не надо! – прохрипел он. – Не надо! – и приподнялся на локтях, злой и взъерошенный.
Светличный снова посмотрел на него, на этот раз долгим-долгим взглядом. Но ничего не сказал, молча отошел. Остался один Андрей. Он беспомощно топтался на месте, не зная, чем помочь другу.
– Отчего ж ты не хочешь доктора, Витя, а? – умоляющим голосом спрашивал он. – Мы ж хорошего доктора найдем, не сомневайся!
– Мне… доктор не допоможет…
– Як же не допоможет? Он же доктор, учился этому…
– Отстань! – тихо попросил Виктор, и Андрей смолк.
Растерянно топтался он у койки, переступая с ноги на ногу, – топтуном его еще мать прозвала, – потом побежал куда-то, принес кувшин с водой, поставил на табуретку подле кровати Виктора.
– Может, тебе пить захочется…
Ему вдруг захотелось приласкать товарища, – никого на этой шахте не было для него дороже, – но он не знал, как это делается. Не целоваться же! В их давней и крепкой дружбе нежностей никогда не было. Они стыдились нежностей, они не девочки.
Между тем во второй раз и уже настойчиво, сердито гудел гудок "Крутой Марии", требовал Андрея в "упряжку". Андрей еще раз посмотрел на товарища и, словно извиняясь, сказал:
– Так я пойду, Витя, а?.. – Он подождал ответа и, не дождавшись, убежал.
Виктор остался один. И обрадовался, что остался один. Присутствие ребят раздражало его. Они, правда, ни словом, ни взглядом, не напоминали ему о том, что произошло. "Проявляли чуткость", словно сговорившись. Но их молчание было еще оскорбительней. Лучше бы уж ругали в открытую, как он сам себя ругает, только бы не молчали! И не прятали бы от него своих насмешливых или сочувственных глаз. Их все равно не спрячешь. С той минуты, как взошел Виктор на помост, глаза товарищей стали ему страшнее любых, пусть самых резких и беспощадных слов.
Неожиданно пришел врач, добрый разговорчивый старичок.
– А ну, покажитесь-ка, молодой человек, что тут у вас? – Он стал внимательно выслушивать больного. – Так, так, чудесно, хорошо!.. – весело приговаривал он при этом. – А ну, дышите! – Виктор послушно исполнял все, что требовал доктор: высовывал язык, дышал и не дышал, а сам все время думал: "Был ли доктор на собрании? Знает ли? Отчего об этом молчит, не спрашивает? Или тоже проявляет чуткость?"
– Ну-с, ничего опасного! – объявил, наконец, доктор – Грипп. Самый вульгарный грипп. Ничего более. – Потом шутливо похлопал больного по плечу. – Все-таки полежать придется денек-другой. Что? Не хочется? В ваши годы и я терпеть не мог лежать. Впрочем, и теперь не люблю! – Он выписал бюллетень, прописал лекарство и ушел. Эх, если б мог он прописать Виктору перемену климата!
Днем зашел дядя Онисим, комендант, зашел специально проведать больного.
– То ничего, ничего! Пройдет! – сказал он. – У меня у самого в каждом легком по вагонетке угля, а дышу! И хорошо, замечательно дышу. Это через то, что я углем дышу. Оно ж, як голубиное дыхание, – естество!..
Он хотел развеселить болящего, с тем и пришел. Стал рассказывать всякие басни про шахту. Ни про что другое он и не мог бы рассказывать, потому что ничего другого и не знал. Всю свою жизнь провел он под землей; на поверхности только отсыпался.
– Это с того у тебя приключилось, – неожиданно сказал он, – что ты ж некрещеный.
– Что?.. – рассеянно переспросил Виктор.
– Некрещеный! Раньше бувало, як новичок в шахту едет, ему обязательно скажут: ты ж, хлопче, не забудь в шахте под благословение подойти, не то – пропадешь! Завалит тебя или так убьет… "А к кому ж, – спрашивает, – подойти? Разве ж на шахте поп есть?" – "А как же! Без попа нигде нельзя. Есть специально шахтерский поп. Отец Спиридон. У ствола стоит. К нему и подходи". А у нас действительно стволовой был – Спиридон. Мужик бородатый, видный. Ну, дадут ему сигнал, что новичок едет, – он уже готов. Новичок из клети вылезет, оглянется, видит – действительно стоит Спиридон. Стволовые и тогда балахоны носили, с капюшоном, как и сейчас. Верно, на монаха смахивает, и борода – чистый поп. Новичок шапочку скинет, да и к ручке, робя… "Благослови, отец Спиридон!" А тот, сукин сын, ведерко возьмет – специально имел! – да мокрым помелом и благословит: "Благословляю тебя, раб божий, в шахте ишачить, на хозяина горб гнуть! Аминь!" Вот як бувало… – И он засмеялся.
Виктор бледно улыбнулся тоже.
– От! – продолжал старик. – От як бувало… А вы… вы ж шахты так и не бачилы. Э, ни! Разве ж теперь шахта? Теперь – курорт!.. Добрее стала шахта к человеку, – а ни завалов, а ни выпалов. И работа легче. Ты скажи, пожалуйста, – удивился он, – все человеку мало!
От теперь на машину все переложить хотят. Только и слышно кругом: механизация та механизация… Ой, предчувствую я, – заведут-таки моду, чтобы в белых перчатках уголек рубать.
Но Виктор уже не слушал его. С тоской думал он, что завтра, послезавтра снова придется лезть в шахту, законуриваться, долбить уголь, толкаться боками о породу, головою о кровлю, как птица я клетке.
– Так не понравилось тебе у нас? – тихо и словно невзначай спросил дядя Онисим. Он давно уж сидел молча и смотрел на Виктора внимательно и печально.
– Да, не понравилось.
– Ну-ну! – обиженно покачал старик головой. Потом встал и сказал с сердцем: – Эх, не видали вы горя, привередники, маменькины сынки! Легкого вы пуха люди… тьфу! – и ушел рассерженный.
Обед Виктору принесла уборщица тетя Нюша. Он съел его равнодушно, без аппетита, даже не заметив, что ест.
В это время вернулись ребята с шахты. Они вошли, продолжая горячий спор, возникший, вероятно, еще под землей.
– А я ж вам говорю – это переворот! – страстно кричал черноокий Осадчий. – Это ж революция! Вот пусть Светличный скажет.
– Переворот твоего воображения… – насмешливо возражал Глеб Васильчиков. – А на деле – пшик! Пшикнул – и скис.
– Так это ж только начало! Ты то пойми – начало! Аэроплан тоже не сразу полетел!..
– Вот сравнил! Аэроплан и… отбойный молоток.
– А отчего ж не сравнивать? – запальчиво спросил Осадчий.
– А оттого, что аэроплан – машина, а отбойный молоток…
– А отбойный молоток?
– А отбойный молоток так… инструмент… да к тому же не-со-вершенный.
Виктор не стал даже прислушиваться к спору; то, о чем они спорили, было далеко-далеко от него…
– Ой, Витя! – сказал, подходя к его койке, Андрей; он тоже был, как и все, возбужден. – Жаль, болен ты… А то б…
– А что? – вяло спросил Виктор.
– Мы сегодня отбойный молоток видели! Дядя Прокоп принес…
– А-а!.. – равнодушно отозвался Виктор.
Но Глеб Васильчиков был уже тут как тут.
– А отчего ж тогда твой дядя Прохор и обушок с собой в лаву взял? – ехидно спросил он Андрея. – Нет, это ж зрелище!.. Работать хотят отбойным молотком, а обушок тут же рядом лежит. Это все равно, как если б сели в автомобиль, а телегу рядом пустили.
– Действительно… – смущенно сознался Андрей, – обушок пока тоже…
– Так это ж начало! – заорал Осадчий и подбежал к койке Виктора. Теперь тут собрались все спорщики.
– Понимаешь, Виктор, – торопливо, боясь, что Васильчиков его тут же и перебьет, сказал Осадчий, – тут все дело в воздухе. Когда воздух есть, так молоток этот як часы… Обушку за ним, – та куда там, действительно, як телеге за паровозом. Ну, а когда воздуху нема пли слабый воздух…
– Вот тогда обушок! – перебил Васильчиков и засмеялся.
– Так что ж ты хочешь, раз это – пневматика?..
– Тебе б понравилось, Витя… – робко сказал Андрей, и все лицо его осветилось тихой радостью. – Ей-богу!.. Ой, как же я рад! – вдруг засмеялся он. – Теперь и работать легче будет… не то что обушком.
– А обушку что же, значит, совсем каюк? – тихо спросил Сережка Очеретин. Он все время растерянно прислушивался к спору.
– Каюк, каюк! Аминь! Точка! – загремел Осадчий. – И со святыми упоко-о-ой!
– Ну, это еще тетушка надвое сказала… – немедленно возразил Васильчиков. – Вот твой дядя Прокоп всего час работал, а все остальное время – обушком… – Спорил он, впрочем, только потому, что не спорить не мог. Если б все были против молотка, он бы так же страстно защищал его, как сейчас страстно ругал.
– Скорпион ты! – с досадой сказал ему Мальченко, и Васильчиков радостно захохотал, словно заслужил похвалу.
– От, значит, какая выходит история! – грустно вздохнул Очеретин и часто-часто замигал своими белыми ресницами.
– А ты не журись, не журись, Серега!.. – сказал подошедший Светличный. – Ты на отбойном молотке еще хлеще себя покажешь!
– Нет! – уныло ответил Очеретин. – То техника. То, мабуть, я не смогу. То для образованных… – И он опять громко вздохнул, уже представив себе, как стирают его имя – С. И. Очеретин – с красной доски.
Но тут Васильчиков, как молодой петушок, налетел на Светличного. Он даже очки свои снял, "чтоб не забрызгались", как острили ребята, намекая на его манеру обильно брызгаться слюной в пылу спора.
– Да неужели ты, – наседал он на Светличного, – ты, умный, с понятием, человек, веришь в эту железку с дутым воздухом? Разве ж это серьезная машина? И ты веришь?
– Верю… – ответил Светличный и трижды перекрестился широким, размашистым крестом. Все засмеялись. – А ты, козаче, не веруешь?
– Нет! Не верю…
– Ну, тогда – геть с нашего куреня!
– Геть! – ликуя, заревел Осадчий, и все с хохотом схватили под руки Васильчикова.
– Да бросьте вы, – отбивался тот, – вот дуроломы! Да я сам за механизацию… Только я за серьезные машины, а не за железку…
– Ага! – закричал Светличный. – А вот эта железка и потребует теперь для себя серьезных машин. Теперь конякой уголь не увезти, теперь электровозом надо. В общем, – закончил Светличный, – как сказал наш донбасский поэт Павел Беспощадный:
Он идет, этот сильный век,
Слышу грохот и лязг его брони.
На всю шахту один человек
Будет, будто шутя, коногонить.
Так, что ли, Виктор? – вдруг неожиданно обратился он к Абросимову.
– Что?.. Вероятно, так! – вяло ответил Виктор.
"Да что это с ним?" – удивился Светличный. Он никогда еще не видел Виктора таким вялым, безразличным, безжизненным. Окоченел он, что ли? Было б куда лучше, если б парень бесновался, огрызался, даже злобился. Странное оцепенение Виктора испугало его. "Значит, крепко подшибла его эта история!" И Светличный решил, что должен, наконец, по душам объясниться с Виктором. Он и так слишком долго откладывал этот разговор.
Он дождался вечера и, когда все ребята пошли в клуб, на собрание, задержался у койки Виктора.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил он, присаживаясь.
– Хорошо.
– Можно с тобой говорить?
– О чем?
– О тебе.
Виктор подумал немного и равнодушно ответил:
– Давай.
– Ты веришь, что я тебе друг?
– Ну, допустим.
– Нет, ты скажи прямо, веришь или нет?
Виктор вдруг порывисто приподнялся с койки и схватил Светличного за руки.
– А ты на самом деле друг? – спросил он.
– Ну, конечно!
– Так если друг… отпусти меня! Отпусти! – жарко прошептал он.
– Куда отпустить? – не понял Светличный.
– Отпусти, Светличный! Не вышло у меня на шахте… Осрамился я. Сам виноват. Знаю. Винюсь. А ты отпусти!
– Да куда же, куда?..
– Я ж не на легкую жизнь прошусь! – продолжал шептать Виктор, все еще держа руку Светличного в горячей своей. – Та пошли меня, куда хочешь. На Камчатку. На Сахалин. К чертям в зубы. Лес валить, тайгу рубить, что хочешь… Я докажу там, какой я парень есть на самом деле. Вам же и райком про меня потом напишет… Отпусти!
– Но как же я могу тебя отпустить, Виктор? – слабо улыбнувшись, спросил Светличный.
– Не можешь?
– Нет у меня такой власти. Кто ж может солдата с поля боя отпустить? А мы, брат, с тобой солдаты…
– Значит, не можешь? – еще раз спросил Виктор и выпустил руку Светличного из своей.
– Да и зачем? Ты и здесь, Витя, прекрасно будешь работать. Послушай, давай, как взрослые, говорить, – ласково улыбаясь, начал Светличный, но Виктор перебил его.
– А не можешь – так не трогай! Слышишь, не трогай! Не говори! – исступленно закричал он.
– Да ты успокойся, Виктор! Что в самом-то деле! – нахмурив брови, сказал Светличный.
– Не трожь! – еще раз крикнул Виктор и с шумом отвернулся к стене.
Светличному пришлось уйти. Недовольный и собой и Виктором, он пошел на собрание, решив, что поговорит еще раз с парнем, когда тот выздоровеет.
А Виктор сразу же после ухода Светличного вскочил и поспешно стал одеваться. Он и сам еще смутно понимал, что делает. Он знал только, что ни минуты больше не может остаться тут. Жизнь надо начинать сначала и на новом месте.
Значит, бежать? Бежать с шахты? Он остановился в испуге посреди комнаты. Живо представилось ему, как собираются вокруг его опустевшей койки комсомольцы: долго и молча смотрят на постель; кто-нибудь зло сплюнет; Светличный презрительно сдвинет густые брови и скажет сквозь зубы: "Подлец"; а Андрей еще ниже опустит голову. Бедный Андрей, он, может быть, даже слезу прольет над ним, как над покойником; Виктор и будет тогда покойником; жирной, черной чертой вычеркнут его имя из комсомольских списков; и среди живых ему, дезертиру, уже нигде не будет места – нигде и никогда.
Но тотчас же представилась ему и другая картина. Виктор всегда мыслил картинами. Представилось, как придется через два дня снова идти на шахту. Снова входить в нарядную. Там будут все, кто был на собрании. Они узнают его… Деликатничать они не станут. Сразу подымут на смех. Будут показывать пальцами. А Свиридов обязательно и нарочно подойдет к нему, как к приятелю, при всех и что-нибудь скажет, чтоб все слышали: мол, ничего, не порть себе здоровье! Гляди на меня!..
Он поспешно схватил сундучок. Нет, надо бежать, бежать!.. А там – будь что будет!.. "Я ж не в Чибиряки убегу. Не к маме. Не на легкую жизнь. Я в тайгу пойду! Я там так буду работать, что все аж ахнут! Я там такое сделаю, что мне все простят". Беспорядочно швырял он в сундучок вещи. "Не забыл ли чего? А, все равно! Только бы скорей уж оторваться от этого пола, пуститься в путь… Надо б записку оставить… – А зачем? – тут же спросил он себя. – Что я в ней напишу? Я и сам знаю – сейчас мне оправдания нет".
"Ну и пусть я сегодня подлец, – стиснув зубы, подумал он, – зато завтра…"
Он схватил сундучок и бегом бросился к дверям.
"Эй, Виктор, остановись! Что ж ты с собой делаешь?!" – подумал он уже в дверях. Но только махнул рукой и – как с обрыва в реку – головой вперед бросился на улицу…
13
Уже стемнело.
Дождя не было. И первые ноябрьские заморозки уже стали осторожно сколачивать хрупкие ледовые плоты на лужицах и озерках; в тишине рудничного вечера было слышно, как звонко постукивает, смерзаясь, молодой ледок, словно то стучат тонкие молоточки.
Не разбирая дороги, с хрустом ломая ледяную корку, разбрызгивая грязь и черную дождевую воду, бежал Виктор через поселок, бежал что было духу, словно гнались за ним и люди и призраки.
Между тем никто и ничто не подстерегало его в кривых и узких тупичках и переулках: ни знакомые – их у него в поселке было мало, ни воспоминания – а их совсем почти не было. Он был новый, пришлый и еще чужой здесь человек; недавно пришел, не зацепился душой за шахту и вот – уходит. Убегает прочь.
Ну и с богом! – насмешливо провожала его шахта. – И с богом! Мы и без тебя проживем! И без тебя так же будет ровно дышать силовая, и вертеться колесо на копре, и скользить канат вверх-вниз; и будут со свистом и грохотом мчаться "партии" по штреку, и, весело постукивая на стыках, бежать вагончики по дощатой эстакаде; и будут все расти и расти ввысь сизые терриконы – пирамиды шахтерского труда. Немного и добычи ты давал, парень, только зря занимал место в забое. Мы и без тебя отлично проживем. А вот ты-то как?
Но Виктор уже не мог остановиться.
Беглым шагом пересек он поселок и, только когда вышел на шоссе, перевел дух. Ну, вот. Теперь три километра до вокзала – все. Завтра он уже будет далеко.
Он огляделся. Вокруг него, на шоссе, не было так пустынно, как ему сперва показалось. И тут, и там, и впереди него, и сзади брели в тумане люди, так же, как и он, с сундучками или с мешками за спиною; ветер доносил их хриплые голоса, топот их шагов. Виктор догадался – это летуны. Это было неприятно ему. "Еще, чего доброго, и меня за летуна примут". И тут же подумал с горечью: "А кто ж ты теперь такой? Терпи!"
Еще там, в поселке, никто не мог бы угадать в нем дезертира. Даже сундучок не был уликой; можно было подумать, что просто идет человек в баню…
Но тут, на привокзальном шоссе, все очевидно! Теперь не отодрать, не обособить Виктора от этой темной толпы. Тут все одного поля ягоды, все – бродяги, перекати-поле, люди без роду и племени, без стыда и совести, без любви и правды… В них все фальшиво: и паспорта, и имена, и души.
И вот теперь и он среди них. Он их попутчик. Он им принадлежит, их темному, безродному, цыганскому племени, и не только на этот короткий путь до вокзала, а надолго, может быть на всю жизнь. Что из того, что в боковом кармане его пиджака аккуратно лежит его подлинный, нефальшивый комсомольский билет, который он из трусости – да, да, из трусости! – не кинул на подушку, убегая с шахты? Он никому не посмеет его предъявить. Да он уж и права на него больше не имеет! "Комсомольцы не бегают!" Теперь он должен скрывать, что был когда-то комсомольцем. Скрывать, что удрал с шахты. Все про себя скрывать. И жить под тяжестью тайны, фальшивой жизнью среди чистых, незапятнанных людей. Да разве ж такой жизнью можно жить?!
Снова послышались шаги сзади, кто-то тяжело дышал, настигая Виктора. Виктор глубже втянул голову в плечи, приподнял воротник куртки.
С ним поравнялся человек в старенькой шинельке без петлиц и в кожаной фуражке. Виктор украдкой посмотрел на него – человек был ему совсем незнаком. Он облегченно вздохнул. Поднял голову. Теперь можно идти спокойнее. Они шли рядом, искоса поглядывая друг на друга. Человек в шинельке тоже был с сундучком – летун, вероятно. Свой.
"Свой? – возмутилось все в Викторе. – Нет, я не такой, как они!" – "А какой же?"
Человек в шинельке вдруг издал резкий, пронзительный звук, – так цапли кричат на болоте. Виктор испуганно оглянулся: что это с ним? Плачет? Он всмотрелся: нет, смеется! Какой странный, злой смех…
– Вы что? – невольно спросил он.
Человек опять засмеялся своим странным, колючим смехом.
– Черт от ладана бегает… – сказал он. – А вы от чего?
– Кто, я? – растерялся Виктор.
– Все! – и он показал на дорогу. Там в тумане брели неясные, смутные фигуры, не люди – призраки. – Я б их всех собрал в кучу и головой в шурф. Разве ж с такими социализм построишь?!
Виктор не отозвался.
– Саранча… – сказал человек в шинельке…. – Чисто саранча… И откуда только взялось? Сроду такого не было… А вам стыдно! – неожиданно повернулся он к Виктору. – Комсомолец, небось?
– Да-а… Но…
– Стыдно! – сердито сказал шахтер. – Эти пускай! Кулачье. Грызуны. Им сам бог ихний велел. А вам стыдно.
– Но я… не шахтер! – чуть не плача от стыда и отчаянья, закричал Виктор. – С чего вы взяли? Я… случайно… Я у товарища был… в гостях… – Он видел, что человек не верит ему, смотрит на него искоса и подозрительно. Неужели теперь все всю жизнь будут на него так смотреть? – Я… в гостях был… А сам я в городе работаю… – торопливо бормотал он. – Ей-богу!.. Хотите, я вам документы покажу? Честное слово!
"Зачем же еще честное слово дал? – тут же рассердился он на себя. – Окончательно становлюсь скотиной!"
Но ему так хотелось, чтобы поверил ему хоть этот незнакомый, странный человек в старой шинельке и кожаной фуражке.
– А-а! – протянул, наконец, тот. – Ну, тогда извините… – Он слабо улыбнулся и объяснил: – Душа болит на такое смотреть. Я б их всех, бродяг, головою в шурф!.. Самый это ненавистный мне человек – бродяга. Вы с "Марии" идете?
– Да-а… да… С "Марии".
– Не видал я вас на "Марии".
– Я же говорю, в гостях был… Недолго… – обрадованно затараторил Виктор. – Там товарищ у меня… Андрей… А сам я в городе живу… Разве б я позволил себе… убежать? – сказал он, по-детски краснея и сам чувствуя, что краснеет, и злясь на это.
– Ну да! – благодушно сказал шахтер. – А то показалось мне, что где-то я вас видел… Бывает!
На шоссе появились фонари. Вокзал был уже близко.
Человек в шинельке бросил косой взгляд на попутчика, – Виктор теперь не ежился, не прятался, старался открыто смотреть, прямо в глаза, – и повторил:
– Да, бывает!.. Вот теперь я вспомнил: я тебя на собрании видел.
– Что?.. – испуганно остановился Виктор.
Человек в шинельке подошел к нему вплотную, взял за борт куртки и сказал шепотом, дыша прямо в лицо:
– Теперь удираешь, сволочь?!
– А ты… а ты?.. – разозлился Виктор. – Ты ж тоже с сундучком… Ты тоже…
– Я в армию, на сборы!.. – сказал шахтер и брезгливо оттолкнул от себя Виктора.
И Виктору пришлось бежать от этого человека в шинели.
14
Запыхавшись, вбежал он в вокзал и направился прямо к кассе. Скорей бы поезд!.. Скорей бы уж уехать отсюда прочь. Но касса была еще закрыта, а в справочном бюро ему сказали, что поезд на юг будет через час, а поезд на север только ночью. «Если не запоздает!» – равнодушно прибавила девушка.
Он отошел от окошка. Он твердо решил, что поедет на север. Не на юг, на легкую жизнь, и не в Чибиряки к маме, а на север, на самый дальний север, так далеко, как только возможно заехать. Там, в сибирских просторах, он завоюет себе и оправдание и прощение.
Но поезд на север будет только ночью, если не запоздает. А здесь, на вокзале, его всякую минуту могут увидеть и узнать. Опять придется встретиться с шахтером в старой шинели. Каждый взгляд, каким окидывают сейчас его и его сундучок люди на вокзале, – как плевок в лицо.
"А поезд на юг будет через час", – вспомнил он.
Может быть, поехать на юг? На Кавказ? К морю? На минуту он почувствовал себя счастливым и свободным. Он может поехать, куда хочет. Он был, как птенец, впервые свободно захлопавший крыльями и почувствовавший, что даны ему эти крылья для полета. Вот стоит он сейчас на перроне маленькой станции в степи, а весь мир лежит перед ним. Захочу – и завтра у моих ног зашумит теплое, ласковое море. Захочу – и будут горы.
Но поедет он все-таки на север, только на север. Пусть никто и никогда не сможет швырнуть ему в лицо, что бежал он с шахты ради легкой жизни.
Он поедет на север, хоть бы поезд и опоздал на сутки!
Однако незачем толкаться в здании вокзала или – у всех на виду – на перроне.
Он вышел на площадь. Был тот ноябрьский вечер в Донбассе, когда небо низко-низко спускается к земле, и нет уже ни земли, ни неба, а только туманная сырая мгла; в ней тревожно перекликаются паровозные гудки и людские голоса; звуки бродят в тумане, а огни – неподвижны; и степь еще пахнет мертвой травой и вчерашним дождем – последними запахами осени.
Еще не холодно, но свежо, и земля, скованная ранними непрочными заморозками, лежит, оцепенев в предчувствии первого снега, и жадно ждет его, как летом дождя.
В такие вечера самый сладостный запах на земле – запах жилья и дымка из трубы над хатой. В такие вечера семейные шахтеры любят сидеть дома и пить водку с друзьями. Хозяйки то и дело бегают в погребок за огурцами и соленой капустой; огурцы еще не досолились, и если так пойдет дело – им досолиться не удастся.
В такие вечера каждый человек на земле обязательно подумает об угле; уголь – это тепло, и даже мысль о нем согревает душу. Надо запастись углем на зиму, и в такие вечера все селекторы, телефоны и телеграфные аппараты заняты только им, углем.
В такие вечера приятно чувствовать себя шахтером. Хорошо, вырубив свою норму угля, выйти на-гора и помыться парной водой в горячей бане и, смело глядя людям в глаза, пойти через весь поселок домой. В такие вечера обязательно надо иметь свой дом, свою семью и спокойную, чистую душу…
Но у Виктора нет дома. Вот сидит он на своем сундучке на площади у вокзала. Даже птицы уже закончили свой осенний перелет, он только его начинает. Что ждет его? Что будет с ним? Он сейчас, как перекати-поле…
Стало холодно. Если придется продавать пиджак и куртку, как же сумеет он добраться до цели? Он почувствовал вдруг, что голоден. Сейчас хорошо бы стакан горячего чаю. Он вспомнил, что здесь же, на площади, неподалеку от сквера, есть закусочная. Ее легко найти по шуму и песням, что и сейчас доносятся оттуда. Подхватив свой сундучок, он пошел.
У закусочной стояла негустая, но веселая толпа. Виктор хотел было пройти мимо, но, невольно прислушавшись, остановился.
В центре толпы посиневший от холода босяк в тряпье и шахтерских чунях выстукивал деревянными ложками нехитрую мелодию, приплясывал и сыпал частушками-скороговорками; толпа встречала их хохотом и подхватывала припев.
До Виктора доносились только обрывки.
Шуба рвана, без кармана,
Без подборов сапоги…—
сыпал ложечник.
А дальше шло уж что-то густое, непристойное, что тонуло в хохоте и восторженном взвизге толпы и сразу же, как лаком, покрывалось припевом:
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ну что ж, и это развлечение! Поезд придет не скоро, даже если и не опоздает, а чаю можно напиться и позже. И Виктор затесался в толпу.
Там нарыты ямы-норы,
Где работают шахтеры…—
старался ложечник, и толпа подхватывала припев:
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..—
и прихлопывала в такт ладошами, почти заглушая сухую дробь деревянных ложек. А ложечник все приплясывал, пытаясь выбить чунями чечетку, словно хотел высечь искры из мерзлой земли, и все тряпье его сотрясалось на нем, и тряслись синие от холода губы и щеки.
Прощай, шахта и Донбасс,
Не увидишь больше нас!
– Ой, чешет! – восторженно взвизгнул босяк рядом с Виктором и самозабвенно подхватил припев;
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
Ой, дуб-дуба, дуба, дуба!..
А ложечник, ободренный успехом и уже немного согревшийся, «чесал» дальше:
Прогуляем – сколько знаем,
Прокутим – сколько хотим.
А завтра рано, чуть светочек,
Из Донбасса улетим.
Да что ж это? Куда попал Виктор? Зачем затесался в эту грязную толпу? Босяки, рвань, золотая рота, бродяги, вся накипь, выброшенная прочь с шахты, не принявшей их в свои чистые недра, – что делать ему здесь, среди них?.. Он решил немедленно же уйти прочь и даже сделал движение, но ложечник уже заметил его, такого не похожего на всех, еще чистенького и аккуратного, еще отмеченного печатью комсомольской ячейки – сотрется она не скоро, – и подмигнул ему, подошел ближе и стал прямо перед ним, дергаясь всем своим тряпьем.
– С посвящением и приветом! – гнусаво крикнул он Виктору. – Персонально вам, молодой человек!..
И вдруг рассыпал яростную дробь ложек:
Рябина цветет, осыпается,
Комсомольцы из Донбасса разбегаются…
– О-о-о! – восхищенно взревела толпа.
Теперь все смотрели на Виктора. Кто-то панибратски хлопнул его рукой по плечу. Кто-то крикнул: "Эй, птаха, держи голову выше!" – и опять радостно зареготали сиплые, простуженные глотки.
Виктор рванулся из толпы, но десятки рук ухватили его за куртку и сундучок и не пускали… "Эй, хлопче, куда же ты? Мы ж еще с тобой потанцюєм!.."
– Пусти! – не помня себя, дурным голосом закричал Виктор и рванулся. Его выпустили, так страшен был его напор. Расталкивая людей перед собою, он побежал, сам не зная куда…








