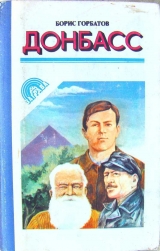
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 26 страниц)
– Я и не собираюсь. Один был муж, да и того вы убили…
– Не я убил – газ.
– А мне все едино! Убили, а мне теперь с сиротами горе мыкать.
– А кому ж? Ты их народила, тебе и воспитывать. Ты то пойми, кума, – твоя бабья жизнь теперь кончилась. Теперь для детей жить надо. А про свое счастье – забыть. – Как всегда, он говорил прямые, жесткие слова, без околичностей и прикрас, и они, как всякая правда, действовали вернее и надежнее, чем фальшь. – В детях теперь твое счастье, кума!.. – продолжал он. – Вот Васятку вашего я в забой переведу, там заработки лучше, а он уже парень большой. Петьку тоже пора пристроить…
– Не пушу в шахту, не дам! – дико взвизгивала Матрена. – Не дам! – И, как разъяренная квочка, заслоняла детвору всем своим телом.
– Э, пустые твои слова, баба! – морщился Дед. – Куда ж шахтеру, кроме шахты? Жить надо, кума, а не верещать зря. То-то! Я твоего Петьку к камеронам поставлю, пусть учится. А Анютка пускай в школу ходит, как ходила. А потом и остальную мелкоту определим, как следует быть. Так, значит! – И он, тяжело опираясь на палку, поднимался и шел в следующий дом.
Таков был Глеб Игнатович Дядок, Дед, заведующий шахтой "Крутая Мария", к которому Андреи и Виктор собрались нести свою заветную мечту о рекорде.
Дед назначил им быть в конторе вечером, в пять часов.
За час до срока в домике Прокопа Максимовича Лесняка встретились все участники "заговора": надо было решить, кто да кто пойдет к Деду.
– Вам с Виктором надо идти! – сказал Андрею дядя Прокоп. – Вы застрельщики…
– Боюсь, мальчишки мы для него… – смущенно сказал Андрей. – Дед нам не поверит. Я хотел вас просить, Прокоп Максимович…
– А что ж? Я пойду! – согласился старик. – Дед меня знает.
– А хорошо б Светличный еще… – робко прибавил Андрей.
Светличный засмеялся:
– Все орудия сразу в бой?
– Да видишь ли, говорить я не мастер, – словно оправдываясь, объяснил Андрей. – И Виктор горяч… А ты, Федя, ты ж у нас известный политик… – и он преданными глазами посмотрел на друга.
– Все пойдем! – смеясь, сказал дядя Прокоп. – Навалимся на Деда – ему и не выкрутиться!.. Мы его в кольцо возьмем!.. – И он пошел переодеваться.
Виктор и Светличный остались в домике допивать холодное пиво, а Андрей и Даша вышли в садик. Даша заметила, что у Андрея еле приметно дрожат напряженные скулы – он стиснул зубы и губы сжал, левая щека чуть подрагивала.
– Ты что, волнуешься? – удивилась она.
– Волнуюсь! – сознался Андрей. Он не мог объяснить ей, что для него этот рекорд… Но и молчать он больше не мог. – Если Дед разрешит рекорд… и рекорд выйдет… я… я тогда тебе кое-что скажу, Дашенька… – прошептал он, думая, что говорит загадочно.
– Да ну? – усмехнулась она. – Ну, буду ждать!
Она знала, о чем он хочет сказать ей, – о своей любви. Ну что ж, он может это сделать и потом, как и сейчас. Все равно она про эту любовь знает. Она подумала, что если б вдруг признался ей в любви ну, скажем, Светличный, она смутилась бы, а если б Виктор – даже рассердилась… А Андрея она могла слушать спокойно.
Нет, ей было приятно, ей было очень приятно, что вот ее любят и что любит Андрей – очень хороший и славный парень. Ей было необыкновенно радостно от горделивого сознания, что ее, девчонку, уже, оказывается, можно любить и любить так горячо и преданно, как Андрей. "Если я прикажу ему: бросайся в шурф, Андрюша! – он кинется. Ей-богу, кинется, прямо головой вниз!"
"Как это славно, когда тебя так любят!" – счастливо думала она. Дотоле еще никто не любил ее и не говорил о любви. С Митей Закорко они были просто друзьями с детства. Андрей был первым, кто полюбил ее, как девушку. И она была благодарна ему за это и уже сама любила его за любовь.
Но любила ли? Ей было приятно, легко, даже весело с ним, хоть он всегда молчал и только, волнуясь, ломал спички. Зато он умел восхищенно слушать ее болтовню и удивляться ее уму, ее знаниям, ее доброму характеру. И она сама вдруг начинала чувствовать себя и умней, и добрей, и старше; она росла в собственных глазах" видя свое отражение в его глазах влюбленного. И это было захватывающе приятно!
Но она никогда не скучала, если его долго не было, думала о нем редко и спокойно, не краснела при его появлении, не металась в тоске, отлично спала в самые лунные ночи и с прежним шахтерским аппетитом садилась за обеденный стол. Нет, в книгах иначе писали про любовь. Но, может быть, книги врали?
Наконец появился Прокоп Максимович. Он оделся в свой парадный костюм, словно шел на праздник.
– Трогаем, хлопцы? – бодро крикнул он и первый двинулся вперед.
Даша проводила их до калитки, потом долго смотрела вслед. Андрей обернулся, она приветливо махнула ему платком; в эту минуту она действительно любила.
10
В конторе, кроме Деда, находился еще главный инженер шахты Петр Фомич Глушков, человек с седыми лохматыми бровями и живыми черными мальчишескими глазами. Когда-то эти глаза, вероятно, искрились смехом, острой мыслью, жизнью; теперь они только тревожно бегали. Странные это были глаза! Они не потускнели, не потеряли ни прежней живости, ни даже блеска, но теперь это был блеск тревоги и живость паники. Петр Фомич был человек, однажды сильно испугавшийся, да так навсегда и застывший в своем испуге.
Год тому назад случилась катастрофа на "Марии", Никто, ни один человек не обвинял в ней Петра Фомича, никто даже упрека ему не бросил. Несчастная случайность катастрофы была слишком очевидной для всех, кроме самого Петра Фомича. Он уже сам не знал, виновен он или нет. Может быть, все-таки он чего-то не предусмотрел, не вспомнил, не принял каких-то необходимых мер? Он стал мнительным, осторожным, пугливым, недоверчивым к людям и мелочно-придирчивым к себе.
Он теперь уже не столько работал, сколько оправдывался. Отдавая распоряжения по шахте, он тут же мысленно приводил все объяснения и оправдания в свою защиту, все параграфы законов и положений. Он словно все время был под следствием сам у себя. И главной его заботой стало огородить себя бумажками и инструкциями, оправдательными документами и оговорками: он жил теперь за частоколом спасительных параграфов.
Ни Петр Фомич, ни Дед не знали, зачем напросились к ним на прием Андрей и Виктор. Но оба, не сговариваясь, чуяли, что речь тут пойдет не об обычных шахтерских просьбах, а о чем-то куда более важном. И Петр Фомич уже заранее нервничал и заранее ощетинивался против всего, что собирались предлагать ребята, а они, несомненно, собирались предложить что-то новое и, стало быть, небезопасное.
Дед же, как всегда, был непроницаем. Он медленно поднял голову, когда ввалились в кабинет ребята во главе с Прокопом Максимовичем, и поморщился:
– Что-то больно много вас…
– Дело большое! – разводя руками и благодушно улыбаясь, ответил Прокоп Максимович.
– И все по одному делу?
– Все.
– Ну-ну! – проворчал Дед. – Садитесь. Слушаю. – И закрыл глаза.
Андрей умоляюще посмотрел на Светличного.
– Начинай ты, Федор!.. – прошептал он.
Светличный пожал плечами и начал.
Он начал прямо с того, что положение на шахте нетерпимое (услышав это, Петр Фомич в испуге даже подскочил с места), что забойщики и их отбойные молотки используются вполсилы, что в уступах тесно, развернуться негде ("Людям в глаза стыдно смотреть!" – перебил его Виктор), что передовые шахтеры давно уже болеют этими мыслями и думают, как улучшить дело, как брать угля больше ("Так, так, так!.." – шептал Андрей), и что вот в результате долгих раздумий нашли шахтеры Андрей Воронько и Виктор Абросимов выход из положения и…
– Какой же? Какой выход? – нетерпеливо закричал Петр Фомич и почувствовал, как нервная судорога уже стягивает кожу у него на лбу и на лысине.
Дед невозмутимо молчал. Казалось, он и не слушал вовсе, дремал. Его глаза по-прежнему были прикрыты тяжелыми веками.
– Какой выход? – усмехнулся Светличный. – А вот… – и он просто и кратко изложил проект Андрея и Виктора: дать забойщику всю лаву, а труд разделить.
– Но это нельзя… нельзя… невозможно! – вскричал Петр Фомич. – Это… не предусмотрено. И притом опасно!.. В смысле управления кровлей… И как вы можете говорить: нетерпимое положение на шахте? А план? Мы же систематически выполняем план, даже перевыполняем на один-два процента… Вот цифры, извольте, поглядите… Будьте добры!.. – Он разволновался, расстроился; в Светличном и Викторе он теперь видел не просто беспокойных людей, а грозных обвинителей. Болезненно морщась, он ждал, что вот сейчас кто-нибудь из них – молодых, беспощадных – бросит ему в лицо обвинения.
А Дед молчал.
– Да вы не волнуйтесь, Петр Фомич! – улыбаясь, вмешался дядя Прокоп. – Вы разберитесь. Я и сам попервах растерялся. И те же доводы привел: кровля, зарплата, обычаи… А разобрался…
– Нет, нет, и не говорите! – испуганно замахал на него руками Петр Фомич. – Вы просто не все учли, недодумали… Вот хоть взять инструкцию по технике безопасности… вот последний циркуляр наркомата, – он стал судорожно разворачивать какие-то папки. – Или правила ведения горных работ… Это в любом учебнике… – Он вспоминал все эти книги, циркуляры и параграфы затем, чтобы успокоить себя, но, вспомнив их, окончательно сам себя запугал и закричал, испугавшись: – Нет, нет, я категорически, категорически против… То, что вы предлагаете, немыслимо, невозможно… не выйдет!
– Нет, отчего же? – раздался вдруг негромкий голос Деда. – Это возможно.
Андрей обрадованно повернулся к нему.
– Да? Правда ж? – благодарно воскликнул он и подумал: "Какой же хороший человек Дед!"
– Вполне возможно. Отчего ж? – равнодушно подтвердил Дед и поднял сонные глаза на Андрея. – Все у вас? – спросил он.
– Да-а… Это – все.
– Гм… Ну-ну! Хорошо. Тогда, что ж, бувайте здоровы! – неожиданно сказал он, мотнув головой и придвинул к себе бумаги. Разговор был окончен.
Андрей растерялся.
– А… а рекорд? – ничего не понимая, спросил он.
– А про рекорд забудь! – строго сказал Дед. – Забудь! Слышишь? – приказал он. И опять углубился в бумаги.
Но тут уже Виктор взорвался.
– То есть как же забудь? Нет. Стой! Мы про это забыть не можем!.. Вот это где у нас! – крикнул он и гулко ударил себя кулаком в грудь.
– А я говорю: забудь! – не повышая голоса, но властно и с силой повторил Дед. – Понял? Не будет у меня на шахте рекордов. Пока я жив – не будет!
– А ты легче, Игнатович, легче!.. – возмутился и дядя Прокоп. – Ты не забывай себя. Зачем же так? Мы к тебе не с просьбой пришли. Мы, если хочешь знать, мы требовать пришли. Не один ты на шахте хозяин. Мы, брат, все хозяева.
– Плохой же тогда ты хозяин, кум! – сердито скривился Дед. – Хороший хозяин – тот даже о своей собаке думает. А ты… ты разве о людях подумал? Эх, ты! – с горечью сказал он. – Стыдно! Стыдно, старик! Ну, пускай они, – презрительно мотнул он головой на ребят. – Они молодые, им прославиться надо, выскочить… А ведь ты старый горняк. Ты б хоть о товарищах подумал…
– А о ком же я думаю? – растерялся старик. – Невжели о себе? – Он ничего не понимал.
И ребята не понимали. "Да что ж мы плохого сделали? – встревоженно спросил себя Андрей. – Мы ж не для себя… Мы же для шахты… для всеобщей пользы?!"
Кажется, только один Светличный тонким чутьем политика разнюхал, в чем тут дело. Он усмехнулся и осторожно, как-то вкрадчиво даже, спросил:
– Рекордов боитесь, Глеб Игнатович?
Дед сразу же поднял на него глаза. Светличный ему не нравился. Он уже слышал о нем, что беспокойного нрава человек, всех на шахте критикует. "Видать, молодой, да ранний!.. – недоброжелательно подумал он о Светличном. – Студент. Карьеру делает. Все они нонче такие. Грамотен. Умники. Критиканы!.."
Он насупился.
– Я, сынок, ничего не боюсь, – сказал он угрюмо. – Стар я бояться.
Но Светличный словно не слышал этого.
– Боитесь, что после рекорда вам план повысят? – опять невинно, даже как бы сочувствуя Деду, спросил он.
– И этого не боюсь. У нас начальники умные. Не мальчишки.
– А главное, боитесь, что нормы повысят? Так, что ли?
– Я о людях думаю… – нетерпеливо махнул рукою Дед, желая прекратить допрос.
– А о государстве? – тихо спросил Светличный.
– А государство, – раздражаясь и повышая голос, ответил Дед, – это и есть мы – рабочие люди, шахтеры.
– Верно. Значит, будет богаче государство, будем богаче и мы, шахтеры?
– Да… Будут богаче шахтеры – будет богаче государство.
– А вы что же думаете, после рекорда станут шахтеры беднее?
Теперь и дядя Прокоп, и Андрей, и Виктор поняли, наконец, в чем дело.
– Ах, Глеб Игнатович, Глеб Игнатович! – обрадованно воскликнул дядя Прокоп, и у него на сердце стало легко и весело, словно тяжкий камень свалился. – Вот о чем ты беспокоишься, добрая душа! Так мы и это подсчитали, ты не сомневайся! Куда как вырастут заработки шахтеров после рекорда! Ведь больше угля дашь – больше и получишь…
– Кто получит? – рассердился Дед. – Этот вот… – мотнул он головой на Виктора, – да этот… – мотнул головой на Андрея, – да еще три-четыре таких же молодых, ловких… А остальные? А все?
– А кто ж остальным мешает хорошо работать? – искренне удивился Андрей. – При нашем методе всем работать легче.
– Вы б, товарищ заведующий, не на отстающих, а на передовиков равнялись бы. Передовиков бы поддерживали… – с обидой сказал Виктор.
– А что вас поддерживать? Вы и так вон какие зубастые! Кто вас обидит? А слабых да сирых, кроме меня, защитить некому.
– А ведь это хвостизм, Глеб Игнатович! – мягко сказал Светличный и пристально посмотрел на Деда.
И тогда, может быть, за долгие годы впервые вдруг взорвался Дед. Он вскочил с места и с дикой силой грохнул волосатым кулачищем по столу.
– А-а! Хвостизм? – прохрипел он. – Готов уж ярлык? Ты, видать, скорый на такие дела… – крикнул он, с ненавистью глядя на Светличного.
Его шея побагровела, да так страшно, что Петр Фомич испугался: вот сейчас хватит старика удар.
– Что вы, Глеб Игнатович! – метнулся он к нему. Но Дед грубо оттолкнул его, он теперь никого не видел, кроме Светличного.
– Хвостизм? – прорычал он. – Ах, ты, ты!.. – ему не хватало ни слов, ни воздуха. Он задыхался. Так вот в чем обвинили его теперь! В том, что он о своих детях, о шахтерах печется? Да! Пекусь! Зато не о себе.
"Мне для себя ничего не надо. Ни каменных палат, ни длинных рублей, ни карьеры, слышь ты, студент?" Он в одной комнате живет. Он все свои деньги раздает людям. Он ничего с собой в могилу не унесет, не бойсь!.. Ни одна чужая копейка еще никогда не прилипала к его рукам. Все им – шахтерне, землякам, детям.
А государство? "Э! – рассуждал он. – Государство наше богатое, не оскудеет".
Государство… Погруженный в мелочные заботы о своей шахте, о своих шахтерах, он редко размышлял о нем. Государство представилось ему огромным золотым мешком; раньше этот мешок принадлежал капиталистам, сейчас принадлежит рабочим. Ради этого и революцию делали, и кровь проливали, и сам Дед свою кровь пролил. И сейчас он, как умеет, служит государству. Ведь не для себя ж он уголь-то добывает! Не хозяйчик же он в самом деле и не приказчик у хозяина!..
Но в глубине своей заскорузлой души, сам того не сознавая, понимал он себя не человеком, поставленным от государства управлять государственной шахтой, а как бы артельным старостой, выборным от рабочих. И, как настоящий староста, норовил он ловко обойти все другие артели и побольше урвать из государственного мешка для своей.
Ему казалось, что именно за это и любят его шахтеры. Не зря же величают и отцом и благодетелем! И он гордился и дорожил этой любовью больше, чем любовью начальства. Пуще всего на свете боялся он, чтоб не упрекнули его в том, что он забурел, зажрался, оторвался от своих. Оттого-то и жил он в одинокой, пустой комнате, и от положенного ему конторского выезда отказался – ходил пешком, и на курорты не ездил, и премии делил поровну между всеми: каждому по крохе, забывая только самого себя…
Однажды, заметив это, заезжий пропагандист из центра полюбопытствовал: "А как вы представляете себе социализм, Глеб Игнатович?" Дед растерялся. Он редко рассуждал на столь отвлеченные темы. Он был малообразованный человек, практик, не инженер; он хорошо знал старую шахту, – но только ее и знал.
"Э… – пробормотал он. – Я как думаю, а?.. Социализм – это чтоб по справедливости… Всем, значит, поровну…" – "То есть отдай голому последнюю рубашку? Так, что ли?" – "Вроде так… – пожал плечами Дед. – Нечего в рубахе-то щеголять, когда голый рядом". – "Д-да… – засмеялся пропагандист. – В общем получается у вас социализм нищих. Не равенство, а уравниловка. Нет, Глеб Игнатович, не так! И он терпеливо, как школьнику, стал разъяснять ему, как строится социализм в нашей стране и как затем, на базе всеобщего изобилия, будет построен и коммунизм. Дед слушал его молча, не возражал и не перебивал, только недоверчиво качал головой и про себя думал: "Ох, книжники-златоусты! А мы, грешные, на земле живем, в навозе пачкаемся". И хотя и он, как и пропагандист, свято верил в победу коммунизма на земле и за это даже кровь свою пролил, но казался ему коммунизм красивой, справедливой, но такой далекой мечтой, что о ней в практической жизни пожилому человеку и думать как-то совестно.
Ему и невдомек было, что живой коммунизм уже сидел перед ним в образе этих молодых ребят-новаторов, а он гнал его прочь из своего кабинета, да еще обижался, когда за это объявили его хвостистом.
Он вдруг устало и грузно опустился на стул. Сейчас он чувствовал себя только очень обиженным и старым.
Он сказал, ни на кого не глядя:
– Уходите… Все уходите… домой…
Ребята торопливо схватились за кепки, им самим не терпелось поскорее уйти. Уж больно страшно было глядеть на багрово-черную шею Деда и слышать, как он хрипит и задыхается.
Но тут вдруг поднялся оскорбленный Прокоп Максимович. Ни налитая кровью шея Деда, ни его гнев, ни его власть не испугали его. Он выпрямился во весь рост и сказал с обидой, но и с достоинством:
– Хорошо. Пусть будет так. Но точку на этом разговоре я не ставлю. И с тем до свиданья. А продолжим мы наш разговор, товарищ Дядок, – прибавил он, чуть повышая голос, – на партийном собрании. Как коммунисты будем говорить. Потому разговор наш не простой. Идем, хлопцы! – крикнул он и вышел, сильно хлопнув дверью.
11
Даша нетерпеливо ждала возвращения «делегации» от Деда. Несколько раз выбегала к калитке, смотрела на дорогу. В сумерках каждый прохожий кажется тем, кого ждешь; каждая новая ошибка приносит уже не разочарование, а тревогу.
"Что ж они так долго у Деда? – беспокойно думала Даша. – К добру это или к худу? Неужели Дед не согласится? Что же будет тогда?" "А ничего не будет! – думала она уже через минуту. – Будут работать, как раньше работали, только и всего!" Но она знала, что "как раньше" уже не будет, не может быть, а как теперь будет – не знала и потому металась.
Она одна была со своей тревогой, одна во всем поселке. Никто на шахте не знал, зачем пошли к Деду закоперщики; никто об этом и не думал. И не гадал никто, что в эту минуту, может статься, решается рабочая судьба каждого.
Поселок жил своей обычной жизнью, сумерничал. Наступал тот тихий вечерний час, когда люди, вернувшись с работы, думают уже только о себе и о своем, – час позднего шахтерского обеда и послеобеденного отдыха. Все собираются вместе под акацией. Набегавшиеся за день дети послушно и устало приникают к мамкиным коленям. Сонная Жучка забивается в свою нору под крыльцом. Куры прячутся в сарайчике. Все прибивается к своему затону.
С холмов в поселок возвращается шумное козье стадо – крупный рогатый скот шахтеров. Козочки, дробно стуча копытцами, резво, как школьницы после уроков, разбегаются по своим дворам и сразу из безыменной и бессловесной скотины превращаются в милых Манек, Дусек, Белянок – любимых подруг шахтерской детворы. Даша видела, как в соседний двор верхом на Маньке-козе торжественно въезжала Манька-девочка; рядом, осторожно придерживая ребенка за плечи, шел отец. И все были счастливы: и ликующая девочка, и сытая козочка, а больше всех отец, усатый проходчик из знаменитой бригады Федорова. Но сейчас он был не проходчик, и не шахтер, и не знаменитый ударник, – он был просто счастливый отец.
В этот час во всем поселке дружно закипают самовары, словно в сотнях маленьких доменных печей поспела плавка. Самоварный дымок низко-низко плывет над плетнями и палисадниками, и сладкий запах древесного угля напоминает шахтерам не забои, где целый день рубились они в каменном угле, а детство: лес, костры в ночном, туманы над рекой… В этот час в каждом, даже самом оседлом шахтере, вдруг просыпается позавчерашний крестьянин или даже внук крестьянина. Властно тянет к земле. На этот случай у шахтера есть огород, или клумба с цветами, или просто узенькая полоска вскопанной земли вокруг хаты. И дотемна ползают по грядкам пожилые забойщики, крепильщики и машинисты, сосут погасшие трубки, возятся около кустиков, дышат младенческими запахами рассады и в этом находят свой отдых…
В этот час незримо, неслышно и вдруг расцветает у порога ночная фиалка. Могучий аромат ее внезапно разносится над поселком, все покрывая собой. Он, как сигнал, как звук боевой трубы, стучится в окна общежитий и бараков и всех приводит в смятение. Девчата, откатчицы, сортировщицы и плитовые, начинают метаться по комнатам. Они уже сняли свои шахтерские робы – жесткие куртки и брезентовые штаны – и превратились в обыкновенных девушек – тоненьких и беленьких, нетерпеливо готовых к счастью. Теперь они носятся по коридорам, наскоро гладят в сушилках свои ленточки, бантики, блузки, "плоются" единственными на все общежитие щипцами или раскаленным гвоздем и выпархивают легкими стайками из общежития: идут "страдать" на Конторскую улицу, как еще недавно ходили "страдать" на колхозную леваду…
Словом, все в поселке в этот заветный час думают о себе и о своем: мечтают о Счастье, ищут его, находят, теряют, вновь надеются найти… И сколько людей, столько и вариаций счастья.
Только одна Даша стоит у калитки и думает в этот час не о себе, а об отце и ребятах, которые тоже пошли к Деду не ради своей, а ради всеобщей выгоды.
Она ждет, нервничает и, наконец, начинает злиться на самое себя: "Да что в самом-то деле, чего я-то беспокоюсь? Что мне в их рекорде? У меня у самой – тяжелая зима впереди. Я скоро уеду".
Но она не могла уже не думать о деле, ради которого пошли к Деду отец и товарищи, не могла не волноваться за исход его. И если б все люди в поселке знали, что делают сейчас у Деда закоперщики, что предлагают, за что дерутся, – они тоже забросили б свои огороды и своих коз и все свои маленькие, частные дела и заботы и стояли бы, как Даша, у калиток, нетерпеливо ожидая возвращения ходоков.
Наконец пришел отец – один. Даша радостно бросилась к нему навстречу, но отец как-то испуганно отстранил ее от себя, словно боялся расспросов, потом с досадой махнул рукой и вошел в дом. Даша поняла: у Деда ничего не вышло.
На минуту она растерялась. "Что же теперь будет?"
И вдруг рассердилась, не на тупого Деда, а на ребят. "Эх, шляпы! Не могли толком доказать! – презрительно думала она. – Ах, отчего я сама не пошла? Уж я бы!.." Злая, она вошла в дом. Отец что-то сердито кричал в кухне. Потом выскочил оттуда, схватил кепку и ушел из дому.
– Бешеный!.. – печально улыбаясь, сказала ему вслед мать. – Словно я виновата… – Она зябко закуталась в белый оренбургский платок и прибавила с бабьей насмешливой покорностью: – У мужиков всегда так: на шахте у них аукнется, а на кухне у нас откликнется.." Будем одни пить чай, доченька? – спросила она, вздохнув.
Но Даша тоже не могла теперь сидеть дома.
– Я пойду, мама, – сказала она решительно.
– Куда? – удивилась мать.
– Пойду на люди.
Она набросила косынку на плечи и выскочила на улицу… "Пойду на люди" – этим точно определялось то, что нужно было сейчас делать; она понимала отца: дома оставаться невозможно.
Она пришла в клуб. Там сегодня было весело и шумно, затевались танцы. Подлетел Митя Закорко, курчавый, озорной, в алой майке. Топнул перед Дашей ножкой, схватил, закружил. Даше показалось, что она внезапно попала в костер – на Мите все пылало, все пламенело: майка, золотисто-рыжая шевелюра, щеки, глаза… Даша еле вырвалась из его жарких рук, еле спаслась от этой бешеной шахтерской пляски без музыки и лада. Митя хохотал. Ни Андрея, ни Виктора, ни Светличного в клубе не было.
Даша пошла в шахтпартком. Ни здесь, ни в парткабинете ребят не было тоже. Не было их в комсомольском комитете, и в шахткоме, и на Конторской улице, и в летнем саду в кино…
Только сейчас, после долгого кружения по улицам поселка, Даша, наконец, призналась себе, что ищет ребят. "Зачем?" "А чтоб отругать их… Сказать им, что они шляпы! Ух, и задам же я им перцу!" – говорила она себе. Но чем дольше искала и не находила их, тем больше тревожилась, и если б сейчас нечаянно встретила – бросилась бы им на шею. А уж потом… Ну, потом стала бы и ругать. За то, что ее с собой к Деду не взяли, за то, что все дело провалили… шляпы!
"Где ж они прячутся? – металась она. – Неужели дома сидят?" Ей вдруг представилось, как молча, друг на друга не глядя, бродят ребята по своей одинокой берлоге, тычутся в углы, надсадно курят, молчат и в этом унылом кладбищенском молчании хоронят свои мечты: Виктор – о славе, Андрей – о любви, Светличный – о великом почине.
"А вот приду, растормошу их… скажу, что нечего нос вешать. Еще ничего не потеряно", – думала она, уже направляясь к общежитию, где жили ребята. Она никогда не бывала у них, но общежитие это знала. "Завтра же потащу их к Деду, в горком, в трест. Не может такое дело пропасть зря! Не может!" Она уже не шла, а бежала по улице. Ну вот – они отчаялись, опустили руки, теперь она сама за все возьмется, все сама устроит… Будь она парнем, черт возьми, она и рекорд сама бы поставила!
– Где Андрей Воронько живет? – налетела она на сторожиху, дремавшую в коридоре подле еще теплого "титана".
Старуха показала.
Даша с треском рванула дверь, вбежала в комнату и остановилась. Ребят не было здесь.
Она растерялась. Так ясно представляла она эту минуту, как влетит в мрачную, накуренную берлогу, словно свежий ветер с гор, словно Светик в тьму забоя, и крикнет с порога: "Эй, свистать всех наверх, ребята!" – и вдруг никого нет. Пусто.
Впрочем, какая-то девушка смущенно поднялась ей навстречу. Девушка была незнакомая – беленькая и тоненькая, в легкой сиреневой блузке. "Странно, что глаза у нее карие, – бегло подумала Даша. – Ей полагаются синие…"
– Здравствуйте! – запинаясь, сказала она. – А… никого нет?
– Нету… – смутилась и девушка. – Я сама… тоже… случайно… – и вся залилась краской.
"Как же она здесь?" – подумала Даша, не зная, что теперь делать: уходить или оставаться ждать… А ребята, где же они все-таки? Неужели что-нибудь с ними стряслось?..
– Вы не знаете, – спросила она, – они так и не приходили? – Ее голос невольно дрогнул.
Кареглазая девушка побледнела.
– Нет. А что-нибудь случилось?.. – спросила она, замирая от страха.
"Да ведь это Вера! – догадалась Даша. – Это Вера, моя "соперница". Она вспомнила, как подтрунивал Виктор над Андреем, и усмехнулась. Так вот она какая, эта Вера! Ну что ж, славная девушка и хорошенькая… Она еще раз посмотрела на Веру. Девушка, волнуясь, стояла перед нею и в тревоге прижимала к груди какую-то вышитую сорочку – дотоле она держала ее в руках. "Вероятно, Андрею сорочку вышивает. Так она действительно его любит? И этот букет цветов на тумбочке – это тоже от нее…"
– Нет. Я думаю, что с ними ничего не случилось, – сказала Даша. – Может, мне сесть? – Теперь ей уже не хотелось уходить.
– Ах, простите ради бога! – спохватилась Вера. – Вот сюда, пожалуйста. – Она подвинула стул.
– А разве вам Андрей ничего не говорил о том, что они идут к Деду?
– К кому? Нет, ничего не говорил…
"А он ее нисколько не любит! – подумала Даша. – Она, наверно, и про рекорд ничего не знает". Но это было почему-то приятно Даше.
– А вы, вероятно, Даша Лесняк? – вдруг тихо спросила Вера.
– Да… – удивилась Даша. – Разве вы меня знаете?
– Нет… но я так думаю… – смутилась Вера.
– Вам Андрей обо мне рассказывал, что ли? – усмехнулась Даша. И рассердилась. Вот еще новости! А девочка, небось, ревнует и мучается. Да берите, берите, хоть сейчас возьмите себе вашего вислоухого Андрея! Зачем он мне? Шляпа! Даже Деду ничего доказать не мог!
– Нет, он ничего мне про вас не говорил! – тихо сказала Вера и грустно улыбнулась. – Он такой молчаливый…
Андрей действительно ничего не говорил ей о Даше. Он вообще никогда и ни о чем не разговаривал с нею, и она привыкла к этому. Она была даже рада, что он молчит, – она растерялась бы, если б он заговорил с нею. И тогда он увидел бы, что она дурочка… Нет, пусть молчит, только бы не хмурился и не гнал прочь от себя.
Но теперь она ревниво подумала: "А с нею, с Дашей, он не молчит. С нею он обо всем разговаривает! – Она исподлобья, украдкой рассматривала Дашу. – Конечно, она умная, красивая, городская. Она в Москве учится. Он ее любит". И ей вдруг стало так горько, так горько… Ей никто не говорил о Даше и о любви Андрея к ней, но она знала, знала, давно уже знала и чувствовала это. Она и сама не понимала, откуда пришло к ней это зна-ние, но именно в эту минуту кончилась юность Веры: девочка стала женщиной, женщиной, которая любит и готова постоять за свою любовь.
Но тут она опять подумала об Андрее: она так и не узнала, что с ним.
– Вы только не скрывайте, пожалуйста… – торопливо сказала она Даше. – Что случилось с Андреем?
– Да ничего с ним не случилось, ничего! – рассердилась Даша. – Шляпа ваш Андрей! – И она неожиданно для самой себя стала сбивчиво рассказывать о событиях сегодняшнего вечера – об идее рекорда и провале У Деда.
Вера молча слушала. Она не все понимала из этого растрепанного рассказа, да и техническая терминология, которой щеголяла Даша, была почти недоступна ей, но одно для нее тут же выяснилось: Андрею плохо, а эта девушка не любит его…
"Так она его не любит?" – подумала Вера, и, странное дело, это открытие ее даже не обрадовало. Оно обидело ее. Обидело за Андрея. "Но как же, как же можно его не любить?" Она всполошилась. "Боже мой, а уж он как любит! Что же теперь будет с ним?" В эту минуту она готова была отказаться от всех прав своей преданной любви.
Но в это время раздались громкие шаги за дверью, дверь распахнулась и в комнату ввалились ребята: Светличный, Андрей, Виктор, все трое в странном виде.
12
Виктор был пьян. Даже не пьян, а то, что называется «пьяненький», то есть находился в том жалком, но безобидном состоянии полной беспомощности, разнеженности и телячьего благодушия, которое свойственно не пьяному, а именно пьяненькому…








