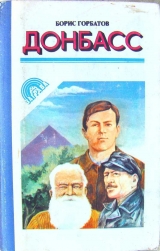
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Я уже понял, что он человек непоседливый и беспокойный, и бесповоротно подчинился ему. Мы поспешили на улицу.
– Они в саду, это ясно! – уже на ходу продолжал Нечаенко, нетерпеливо размахивая руками. – Вечером весь народ там… на лоне… Идемте! – прикрикнул он, хотя я и так почти бегом следовал за ним. – Раз вы здешний – вы должны этот сад знать…
Да, я знал этот сад; некогда он назывался директорским. Там, за высоким забором, за колючей проволокой стоял двухэтажный дом нерусской архитектуры, с нерусской стрельчатой крышей и балкончиками; в нем жил директор-бельгиец с детьми – Альбертом, Эрнестом и Марией. Мы знали их имена потому, что чадолюбивый директор все новые шахты называл именами своих детей.
Никому из нас, ребятишек с "Марии", ни разу не удалось побывать в этом саду; мы только в щели заглядывали. И, может быть, именно потому, что глядели мы через щели в заборе, казался нам этот сад огромным миром чудес, сказкой Шехерезады. Все здесь для нас было невиданным чудом: и белокаменный дом с колоннами, – "настоящий дворец!" – и лодки на зеркальном пруду, и цветники у фонтана, и непонятные, благородные игры, которыми забавлялись директорские дети (потом, когда сад стал нашим, рабочим, мы эти игры узнали – крокет и лаун-теннис), и сами молодые бельгийцы, немыслимо белые и нарядные, в белоснежных фланелевых брюках, натянутых, как струна… Даже эти брюки казались нам диковиной. Тогда никто у нас на шахте белых брюк не носил.
..Много лет прошло с тех пор, как я впервые – после Октября – попал наконец в этот сад; много чудесных садов и парков, куда более богатых, чем этот, перевидал я на своем веку; но только в этот всякий раз вхожу я с волнением и невольным трепетом – в сад моего детства, в первый сад, который передо мной, Сережкой Бажановым, мальчишкой с "Крутой Марии", распахнула революция…
Мы вошли в сад. Нечаенко не стоило большого труда отыскать нужных нам героев – их тут все знали, все видели. Через пять минут мы уже сошлись в беседке, в аллее старых лип.
Нечаенко представил меня, и ребята один за другим протянули мне руки:
– Абросимов.
– Светличный.
– Воронько.
Разумеется, накинулся я на Абросимова; мировой рекорд ведь был за ним. Впрочем, он и так прежде всех бросался в глаза: он был картинный герой. Вот такой, каким и представляешь себе богатыря-шахтера. Даже чуб был и вился колечками и лихо падал на крутую правую бровь.
Абросимов был красив той яркой, уверенной мужской красотой, какую без спора признают даже товарищи, мужчины. Мужчинам она даже больше нравится: девчат она пугает. В его лице, где все дышало силой, удалью и молодечеством, больше всего запоминались, глаза и рот: глаза мечтателя, а челюсть борца. Глаза у Абросимова были черные, но не бархатистые, влажные, не маслены, а пламенные. Они не бегали, но и не таились, и не мерцали холодным, загадочным фосфором. Они пылали. Пылали золотистым пламенем. Они были сродни тому угольку с искрой, какой с такой отвагой добывал в забое шахтер Абросимов.
Но еще характерней, чем глаза, был для Абросимова рот – сильный и хищный. Он ни минуты не был в покое. Абросимов то говорил, то улыбался, то хохотал, то прикусывал нижнюю губу, будто собирался свистнуть. Рот всегда был полуоткрыт. Тонкие губы не могли прикрыть его острые, разбойничьи зубы, и они хищно выдавались вперед. Казалось, что Абросимов все время скалится…
Странно, но это нисколько не портило его красивого лица, а даже придавало ему особую, дикую прелесть. Тут была хищность ястреба, а не хорька.
"Вот я таков, какой я есть! – откровенно заявляли его оскаленные зубы. – Берегись меня, но не бойся, я из-за угла не нападу".
Впрочем, сейчас трудно было судить и разбирать Абросимова. Он еще был в угаре. Еще шумел в нем хмель нечаянной славы и удачи. Мировой рекорд! Выше Стаханова! Тут было отчего закружиться бедной головушке…
И я понял, что он еще не привык к своей новой коже знаменитого героя. Ему и лестно в ней и колко. Неизвестно, что говорить, что делать, как держаться. Единственный из всех троих – он в полном параде и при галстуке. В нем было сейчас что-то жениховское, торжественное, даже чуть-чуть напыщенное – от неловкости и напряжения. Его два скромных друга, молча сидевшие по бокам, казались ассистентами при знамени.
– Ведь вас, кажется, Виктором зовут? – нерешительно спросил я в самом начале беседы.
Одно смутное воспоминание беспокоило меня с той минуты, как я увидел героя…
– Ну да, Виктором…
– Мне кажется, мы с вами знакомы.
– Верно? – обрадовался Виктор. – А я не помню…
– Может быть, я и ошибаюсь… Но пять лет назад, в ноябре… Мне кажется, что вы с товарищем возвращались со станции?.. – я осторожно выбирал слова.
– А-а! – пробормотал Виктор, и его праздничное лицо потемнело. Потом он тихо произнес: – Не отрицаю.
– Вас тогда двое было… – зачем-то прибавил я: мне тоже было неловко.
– Вторым был я… – негромко и спокойно признался Воронько.
Нечаенко с удивлением смотрел на нас: он был человек любопытный. Его занимали "разные человеческие истории". Все люди на земле были ему интересны.
– Вот как! – воскликнул он. – Так вы старые знакомые?
Воронько сдержанно объяснил:
– Товарищ корреспондент видел, как мы бежали с шахты…
– Нет. Я видел, как вы возвращались на шахту.
– А что? – тряхнул своим звонким чубом с колечками Виктор. – Ну, бегали… Да ведь не убежали ж?..
– И даже самого Стаханова перекрыли…
– А вы не верьте им, товарищ корреспондент! – насмешливо сказал третий из товарищей, Светличный, худой, долговязый и заросший волосами парень. – Они такие! Вы их знали дезертирами. А мы теперь знали, что они и очковтиратели.
– То есть как… очковтиратели? – опешил я и растерянно посмотрел на Нечаенко: он улыбался.
– Ну, к чему это поминать, Федя? – недовольно поморщился Виктор. – Это все наши домашние свары! – сказал он. – Товарищу корреспонденту это и неинтересно вовсе…
– Действительно было такое… – сказал Нечаенко и усмехнулся. – Очковтиратели.
– Да быть этого не может! – вскричал я.
– И я так считаю: не может! – усмехнулся секретарь. – И не будет!
– Теперь-то не будет, когда о рекорде Стаханова "Правда" написала… – засмеялся Светличный.
– А пока мы все-таки ходим в очковтирателях! – глухо проговорил Воронько. Он сидел, ссутулившись и глубоко втянув голову в плечи. Это были крутые, надежные, настоящие плечи друга. А его лицо было совсем другим, чем у Абросимова. В лице Воронько все было мягким, смутным, неопределенным, даже цвет волос – не русый и не рыжий… И его брови, глаза, щеки были той же неопределенной неуловимой расцветки, а нос, подбородок, рот – неотчетливой плывучей формы.
К тому же все это было густо засыпано солнечной мелочью веснушек…
Да, ни резкостью, ни яркостью, ни подвижностью это лицо не отличалось. Оно казалось даже тусклым, серым; только когда вдруг на секунду, словно нечаянно, непрошенно, сама собой являлась улыбка, – всегда застенчивая и простодушная, – лицо Воронько странно преображалось: хорошело и воодушевлялось.
Впрочем, улыбка не была характерной для него. Он улыбался не часто. Он показался мне излишне серьезным, не по годам. Он и выглядел старше своих лет, старше Виктора, даже старше Светличного. В нем была какая-то почти стариковская солидность, основательность – и не напущенная на себя, а врожденная. Это нередко бывает у ребят, рано начавших жить своим трудом.
Но самым характерным в его лице были все-таки глаза и лоб, как в лице Виктора – глаза и рот.
Глаза Андрея Воронько не сразу привлекали к себе внимание. Они были небольшие и сидели глубоко-глубоко под надбровными дугами. Когда Андрей задумчиво насупливал брови, – а за ним водилась такая привычка, – глаз и вовсе не было видно. Они были светлые и переменчивые: то серые, то синие, то зеленые, то голубые, а иногда и вовсе бесцветные, отсутствующие… Но они замечательно точно отражали внутреннюю работу, непрерывно совершавшуюся в нем, – и, видно, очень напряженную и сосредоточенную, тем более напряженную, чем неподвижнее были его лицо и тело.
А над глазами нависал большой лоб, крутой и бугристый, как круча над рекой, и в этих буграх угадывались великая сила убежденности и упорства, даже упрямство. Воронько и ходил лбом вперед, как молодой бычок. Чувствовалось, что этот хлопец бодаться умеет!
– Очковтиратели! – повторил он все так же глухо.
– А что ж? – беспечно засмеялся Виктор. – Справедливо! Вот этими руками я как раз очки и втирал! – и он протянул ко мне свои большие забойщицкие руки с синими от угля ногтями.
– Мы не за себя обижаемся, – сдержанно сказал Андрей. – Нам за дело обидно. Такими словами если кидаться, так и дело можно загубить.
– Ну, дела теперь не загубишь! – возразил Нечаенко. – Дело само за себя уже говорит.
– Согласен, Николай Остапович: не загубишь! А затормозить или там скривить можно. Ведь я как это дело мыслю? – неожиданно и горячо воскликнул Андрей, но тут же спохватился и густо покраснел. – Да что ж это я один говорю? Вы извините, пожалуйста…
– Говори, говори, Андрей! Ты хорошо говоришь.
– Та где там хорошо! – совсем смутился Воронько.
– Да говори, ладно!
– Все-таки я скажу, поскольку товарищ корреспондент здесь, – согласился он. – А ребята поправят. Ведь мы что имеем сейчас? – круто повернувшись ко мне, начал он. – Имеем пока единичный рекорд, вот Виктора. А перед тем рекорд товарища Стаханова. Так? Ну, а единичный рекорд дела на шахте еще не решает.
– А кто же теперь мешает всем забойщикам такие рекорды давать? – вскричал Виктор.
– А ты считаешь, что все могут? – быстро обернулся к нему Андрей.
– Та ясно ж, все!
– Каждый день?
– Та хоть каждый!
– Нет! – строго покачал головой Воронько. – Все не могут!
Я с удивлением посмотрел на него. Что он такое говорит? И все не поняли Андрея. Только Нечаенко улыбнулся.
– Да невжели ты не можешь вырубать, сколько я? – недоверчиво спросил Виктор.
– Я? Могу!
– Ну, а Митя Закорко, а Сережка, а Закорлюка?
– И Митя может, и Сережка, и Закорлюка, и Сухобоков… Любой забойщик на шахте может.
– Ну, так в чем же дело? – уже с досадой вскричал Абросимов.
– Ты что имеешь в виду, Андрей? – тихо спросил Светличный.
– А то я имею в виду, что единичный рекорд каждый может дать, если ему создать условия, как Виктору – Тут теперь хитрого нет. А нам желательно, я так думаю, чтоб рекорд, как бы это сказать? Чтоб рекорд перестал быть рекордом, что ли… – он затруднялся с выбором нужных ему слов. Он вообще говорил скупо, медленно и, произнося слова, вслушивался: как же они звучат? И часто морщился: произнесенное слово оказывалось не тем, какое он искал. Его слова были беднее его мыслей. – Ну, скажем, так: может забойщик рекордно рубать, если, допустим, порожняка нет?
– Ну, не может.
– Значит, надо, чтоб порожняк был, чтоб коногоны и машинисты тоже работали по-новому, ударно…
– Ну, так.
– Можно рекордно рубать, если, скажем, леса на месте нет, или воздуха мало, или штрек отстал? – туго продолжал развивать свою мысль Воронько. – Значит, надо, чтоб и лесогоны, и проходчики, и слесари – все, словом, работали рекордно…
– Андрей то хочет сказать, – улыбаясь, сказал Нечаенко, – что теперь вся шахта должна подняться на новую ступень, соревнование должно охватить всех, все профессии. Так я тебя понял?
– Да. Вся шахта, – почти торжественно произнес Воронько. – Вся наша "Крутая Мария".
Теперь друзья поняли его.
– Ну-у! – смеясь, вскричал Светличный. – Этого Дед вовсе уж не переживет, чтоб вся шахта.
– Дед – отсталый человек, – сказал Воронько. – Я так считаю: если не исправится – его надо в сторону! – Он сказал это без всякого ожесточения, все тем же своим ровным, чуть глуховатым голосом.
– А главный инженер? – подхватил Виктор. – Разве ж он соответствует?
– Да, и главный инженер тоже, – спокойно согласился Андрей, но тут же сам смутился. – Вы нас извините, Николай Остапович… – запинаясь, сказал он. – Конечно, мы судить не можем. Но только мы из опыта говорим… Практически…
– Э, нет! – засмеялся Нечаенко и любовно посмотрел на молодого шахтера. – Ты брось! Ты теперь у нас, Андрей, теоретик!
Ребята засмеялись, Андрей сконфузился. Скоро они стали опять толковать и спорить о делах на шахте…
А я сидел и молча слушал…
Мне казалось раньше, что я знаю рабочих людей, знаю с детства. Знал я мастеровщину – сдельщину, забубенную, отчаянную, отпетую – золотые руки, пьяные головушки… Знал чистых пролетариев, нищих, бесправных, но родных; они жили артельно, администрация их не любила, но побаивалась. Знал "самостоятельных" – обычно то были машинисты, камеронщики, слесари, – они имели свой собственный клочок земли на шахте и свою халупку на ней – "каютку", как говорили здесь. И они гордились тем, что они собственники, хозяева, и брезгливо отгораживали себя, свой дом и свою жизнь высоким тыном или дырявым плетнем от "шантрапы". Знал я и шантрапу, золотую роту, эту серую приискательскую кобылку, которую жизнь беспощадно мела, как перекати-поле, по бесприютной земле, с шахты на шахту, с золота – на уголь, из кабака – в тюрьму, из забоя – в могилу… Знал я и одиночек, тщетно пытавшихся выбиться "в люди", в конторщики; эти ходили чисто, состояли в обществе трезвости, и единственной отрадой их скупой, одинокой, черствой жизни была гитара с голубым или алым бантом. Знал я и интеллигентных рабочих, любителей серьезных книг и хорового пения; знал стариков-начетчиков, неутомимых искателей справедливого бога… Знал революционеров. И, может быть, самым ярким событием моего детства было то, когда уже накануне революции я, маленький грамотен с хорошим почерком, писал по просьбе соседей-забастовщиков и под их диктовку ультиматум дирекции…
Еще лучше узнал я рабочих людей после революции. Я видел, как, потуже затянув ремень на голодном брюхе, шли они откачивать затопленную шахту. Я видел их на строительных лесах, и в котлованах, и в батальонах энтузиастов… Я писал о них.
Но вот передо мной сидели трое молодых рабочих, и они мне были незнакомы и недоступны. Я таких раньше не знал. У них были золотые руки мастеровых, и гордость пролетариев, и энтузиазм ударников. Но они уже не были ни пролетариями, ни мастеровыми, ни вчерашними ударниками. Это были совсем новые люди.
Признаюсь, тогда для меня самого все в них было еще не ясно и смутно… Я просто видел перед собой новых рабочих, но ни понять, ни объяснить их еще не мог.
Только два месяца спустя, когда на слете стахановцев слушал я Сталина, все объяснилось, живые черточки слились, стали на место и составили картину. И, слушая Сталина, я все время думал об Андрее и Викторе, – они сидели тут же, рядом со мной, в Кремлевском дворце. Это о них говорил Сталин, что они "люди новые, особенные", "таких людей у нас не было или почти не было года три тому назад", это "люди культурные и технически подкованные". "Они свободны от консерватизма и застойности некоторых инженеров, техников и хозяйственников, они идут смело вперед, ломая устаревшие технические нормы и создавая новые, более высокие, они вносят поправки в проектные мощности и хозяйственные планы, составленные руководителями нашей промышленности, они то и дело дополняют и поправляют инженеров и техников, они нередко учат и толкают их вперед, ибо это – люди, вполне овладевшие техникой своего дела и умеющие выжимать из техники максимум того, что можно из нее выжать". И так же, как я, слушали Сталина и наши герои…
Но это было уже в ноябре 1935 года. А тогда, в сентябре, в летнем саду шахты "Крутая Мария" ребята еще только спорили о том, что может получиться из рекордов Стаханова и Абросимова, без конца говорили об угле, добыче, о шахте и шахтерских делах с той страстью, с какой говорят о работе только советские люди, и я задумчиво слушал их не вмешиваясь. И вдруг оказался совсем далеко-далеко отсюда… На Севере. В Арктике. Так бывало и на зимовке: в час самой шумной беседы в кают-компании вдруг перелетал я мысленно сюда, на "Крутую Марию", в Донбасс…
В Арктике стоят сейчас горячие дни. Навигация… "Карская" [5]5
Карская экспедиция.
[Закрыть] в самом разгаре. Идут караваны с лесом из Игарки. Далеко в море на ледовую разведку уходят самолеты. В бухте Диксона – непрерывный сентябрьский аврал: погрузка-выгрузка. Падает дождь. Скалы черные, мокрые… Зверобои с утра уже на промысле. Радисты стоят по две-три вахты без отдыха, только изредка забегают на камбуз перекусить. В кают-компании суета: приезжают и уезжают люди… Сборы, встречи, расставания, обрывки веревок на полу…
Но в заветный час все, кто может, собираются у репродуктора, слушают Москву. Сегодня они услышат по радио заметку из "Правды" о рекорде Стаханова. Они заинтересуются этой короткой заметкой: уж я наших ребят знаю! И потом, за вечерним кофе, в кают-компании будут оживленно толковать об этом меж собой. Кто-нибудь задумчиво крякнет: "Да-а! Везет же шахтерам! Вся слава им!" И завтра за штурвалом ледокола, за баранкой в полете, на вахте, в радиорубке или на аврале ребята опять вспомнят эту заметку и даже имя донецкого забойщика Алексея Стаханова и его беспримерный рекорд… и будут долго о нем думать.
21
Я пробыл в Донбассе почти весь сентябрь 1935 года, и этих дней не забуду никогда. Было такое ощущение, будто все вокруг разом стронулось, сдвинулось с места, вырвалось из привычного обихода и дерзко устремилось вперед; какие-то преграды пали, какие-то плотины прорвало, а за ними вдруг распахнулись перед человеком такие безотказные дали, что дух захватывало… Все, что происходило в те дни в шахтерском Донбассе, поэт сравнил бы и с буйным весенним разливом Волги, и с ледоходом в Арктике, когда идет Енисеем большая вода, и даже с геологическим переворотом, вздымающим из неведомых пучин новые вершины и новые земли, – но все эти поэтические сравнения все-таки не объяснили бы того, что было в сентябре 1935 года в Донбассе, когда в движение пришли не льды, не воды, не горы, а люди.
Люди… В газетах их уже называли советскими богатырями. Шахтер, вырубивший за смену шесть железнодорожных вагонов угля, действительно показался сначала былинным богатырем, новым Ильей Муромцем; сперва даже не верилось, что обыкновенный человек может свершить такое. Но рекорд Стаханова был тотчас же перекрыт, и сразу на нескольких шахтах; пламя соревнования перекинулось с шахты на заводы и фабрики; стало известно о делах кузнеца Бусыгина, ткачах Виноградовых, обувщика Сметанина, – и, слушая эти вести, каждый рабочий человек почувствовал, как и в нем самом разгорается богатырский дух, как и к нему приходит радостное озарение.
На каждой шахте появились свои герои, и уже не только забойщики, но и машинисты врубовок, коногоны, проходчики, бутчики, крепильщики, слесари. Возникали все новые и новые имена и немедленно становились знаменитыми в Донбассе; славы на всех хватало! Начальникам участков, инженерам и техникам приходилось туго: их атаковали шахтеры; каждый предлагал свое, каждый в своей профессии открывал новое, каждый требовал дать ему ход… С грохотом рушились старые порядки и старые нормы, – только гул шел по Донбассу…
Человек не мог теперь покойно сидеть дома один: тянуло на люди. Подле проходных ворот, у витрин с газетами весь день толпились шахтеры, жадно читали сообщения о рекордах, прислушивались к радио, узнавали новости в шахтпарткоме… Так в дни войны ловят люди вести с фронта. И как реляции о военных победах воодушевляют самых мирных, самых тихих людей в тылу и заставляют их остро завидовать фронтовикам и самим рваться на фронт, – так и эти вести о стахановских рекордах будоражили самых мирных, вызывали и у них "зуд в мозолях". Вдруг являлся в контору старичок пенсионер, давно ушедший на покой, на огород, и требовал, чтоб и его допустили в забой. Из больницы прибежал комсомолец Рябоконь, забойщик второго участка.
– Та я же здоров, ничего у меня не болит! – горячо и напрасно убеждал он Нечаенко. – Душа болит, что от людей отстану!
Приходили к парторгу подсобные рабочие, занятые на поверхности, просили посодействовать, чтоб перевели их под землю. Подал заявление и дядя Онисим, комендант общежития, а за ним и кладовщик Булкин, тоже бывший крепильщик, и оба старика каждое утро наведывались к Нечаенко справиться, какой дан их бумаге ход.
В те дни партийный комитет на любой шахте был похож на революционный штаб; множество беспартийных людей перебывало тут за этот месяц, некоторые впервые. В маленьком помещении было тесно, и люди топтались в сенях, на крылечке, во дворе, сидели на ступеньках, на дубовых лавочках в палисаднике, курили, ждали; или собирались под багряными кленами на улице и, опершись на свои кайлы, отбойные молотки, ломы и поддиры, как красногвардейцы на ружья, негромко толковали меж собою, и все об одном: о новом движении, о революции под землей…
И о том же – о рекордах, о высоких заработках стахановцев, о переменах на шахте – говорили в любом месте поселка: в клубе, в холостяцких общежитиях, в бане, в приемной у зубного врача, в столовой, в парикмахерской, даже в старой пивнушке на базаре, впрочем, переименованной недавно в "павилион".
– Ну, кто теперь рекорд держит? – спрашивал парикмахер, намыливая мои щеки. – Уже не Абросимов?
– Забара.
– А! Знаю! Брюнет такой, правильно? Не беспокоит?
– Нет, ничего…
– Но Абросимов еще последнего слова не сказал, нет! – продолжал парикмахер. – Они с Воронько опять что-нибудь новое придумают. Уж будьте уверены! Новинкой возьмут. Сейчас вообще в горном деле – все новшества.
– Да?
– А как же! Новым методом ствол проходят, по-новому лавы нарезают… Да вот, слышали про новую систему обрушения кровли?
– Нет.
– Как же! – И он стал рассказывать мне об этом, употребляя то горняцкие, то парикмахерские термины. Например: "ставят органную крепь, получается "как расческа", или "стригут аккуратно, как под машинку "три нуля"… Впрочем, рассказывал он с воодушевлением.
Но больше всего любил я в эти дни толкаться в нарядной. Здесь было особенно интересно. И жарко. Парикмахерская, базар, сквер, даже клуб, – все это был второй эшелон, тыл. Нарядная была уже передовой позицией, здесь шахтеры брали на себя обязательства перед боем, брали, подумав. В те дни я не встречал в нарядной людей, лениво и безучастно сидевших в сторонке. Все сбивались вместе вокруг своих бригадиров.
– Егор Минаич, а Егор Минаич! – восклицал в одной такой группке молодой, лихо-курносый парень в каске, судя по мотку веревок у пояса, лесогон. – Так какое же будет ваше последнее слово?
– Нет! – негромко отвечал Егор Минаич, пожилой, мрачный шахтер, с усами, совсем закрывшими губы.
– Нет?!
– Нет.
– А отчего же нет, Егор Минаич?
– А оттого, что срамиться не хочу.
– Так мы ж дадим, дадим, Егор Минаич! Вы ж только послушайте! А, Егор Минаич? – с мольбой заглядывая в лицо бригадира, жарко и нежно шептал лесогон и нетерпеливо ждал ответа. – Я ж вам, хотите, еще раз весь план поясню!.. А?
– Нет.
– Нет?!
– Нет.
– Так какое ж будет ваше последнее слово, а, Егор Минаич?
И всюду вокруг себя слышал я этот страстный шепот.
– Да неужели мы от людей отстанем? – говорил в группе забойщиков огненно-рыжий красавец Митя Закорко. – Нет, вы как хотите, а я вызов сделаю.
– Да-а… Как удастся… – нерешительно возражал ему товарищ, но и в его глазах была уже лихорадка. – Надо прикинуть.
– Говорят, Забара на "Красном партизане" полтораста тонн дал.
– Ну, это вряд ли!
– Все говорят…
– Полтораста? Сколько ж он заработал?
Кто-то тут же и подсчитал. Вышло много. Но никто не удивился. К высоким заработкам рекордсменов уже привыкли. В нарядной ежедневно вывешивались большие плакаты: шахтер такой-то дал столько-то процентов нормы, заработал столько-то. Рабочий человек вообще о своих заработках говорит охотно и не таясь.
– Вы как хотите, – с досадой сказал Закорко, – а я Виктора вызову. Не в первый раз мне его вызывать!
Я был при том, как Закорко сдержал свое слово. В нарядной состоялся митинг – они случались теперь почти ежедневно – и на нем Виктор громогласно объявил:
– Иду на новый рекорд, ребята! Наперед ничего не скажу, а мировой рекорд будет за "Крутой Марией". Все!
Он еще стоял на помосте, когда к нему с отбойным молотком на плече подошел Митя Закорко.
– А я вызываю тебя, Виктор! – дерзко сказал он и чуть приподнял молоток правой рукой. – На своем маломощном пласте берусь я перекрыть твой рекорд… Все слышат? – крикнул он оборачиваясь. – Так и запомните!
Он отойти не успел, как подошел Сергей Очеретин.
– И я тебя вызываю, Виктор! – сказал он, часто моргая мохнатыми, белыми, как бабочки-капустницы, ресницами. – Секрет нам теперь ясен. Хвастаться не стану, а тысяча процентов мои!
И тогда словно перемычку пробило. Один за другим пошли на Виктора с вызовом шахтеры, в одиночку и бригадами, – проходчики, лесогоны, крепильщики, запальщики, – они на минуту останавливались перед помостом, объявляли свой вызов и проходили… Был здесь и лихой лесогон из бригады Егора Минаича; он шел впереди своей бригады и вызов бросил петушиным, срывающимся от волнения и гордости голосом. Егор Минаич хмуро, но с достоинством шел следом, – он подтвердил вызов молчаливым кивком.
Андрей оказался рядом со мной. Он внимательно следил за тем, что вокруг творилось. Был ли он доволен? Ничего нельзя было понять по его лицу.
– Ну, теперь-то – соревнование, по-вашему? – тихонько спросил я.
– Да. Это соревнование! – ответил Воронько. – Вся шахта двинулась! – И он застенчиво улыбнулся.
Но тотчас же и встревожился, – я не мог попять отчего. В эту минуту бросал свой вызов Виктору Абросимову забойщик Закорлюка-старший. Андрей вдруг покинул меня, поспешно взобрался на помост и стал рядом с Абросимовым. Только потом я узнал, в чем дело: Андрей боялся, как бы самолюбивый Виктор не обиделся на дерзкие вызовы и худым словом не оскорбил бы людей.
Не понял я тогда и смысла маленького эпизода, разыгравшегося тут же, на моих глазах. У окошка третьего участка, неподалеку от меня, грузно опершись на палку, стоял заведующий шахтой Дед, а рядом с ним щуплый шахтер-белорус, с реденькой русой бороденкой и длинной, как у аиста, тощей шеей. Он все вытягивал шею вверх, подымаясь при этом на цыпочки и становясь еще более похожим на аиста. Был он в большом смятении: на его лице попеременно отражались все оттенки чувств – от робости до отваги.
Наконец он воодушевился.
– Ан и я пойду, а? – сказал он неожиданным басом. – Благослови, Глеб Игнатович?
– Стой, Кондрат, не рыпайся! – презрительно остановил его Дед. – Куда тебе! Тоже выискался, – конь с копытом…
– А нет, пойду! – упрямо повторил Кондрат. – Авось и мы людей не хуже.
И он действительно пошел. Я видел, как, переменившись в лице, посмотрел ему вслед заведующий. В этом взгляде были и изумление, и досада, и смущение, и даже стыд. Почему стыд? Но разве я мог угадать, что творилось в душе Деда, что в ней сломалось и рухнуло и эту минуту, когда увидел он, как отсталый шахтер Кондрат, – один из тех, за чью судьбу Дед так опасался, – подошел к помосту и, задрав вверх бороденку, смело вызвал Виктора на великое соревнование?!
– Смотри! Ишь ты! – удивился Виктор. – И ты, Кондрат? – Он обернулся к Андрею и, радостно смеясь, шепнул: – Ты только гляди, Андрей, что делается! Как мы народ-то растревожили. Ай да мы! – Потом вдруг выпрямился, поднял лампочку и весело гаркнул на всю нарядную: – Принимаю! Все вызовы принимаю! – сказал он. – И желаю всем, кто меня вызвал, от чистой души желаю – побить меня! На пользу родной шахте. Ну, да и я в долгу не останусь! – хвастливо прибавил он. – Держись, ребята!.. Так, что ли, Андрей?
– Так! – засмеялся тот. – Только и ты держись! Теперь и я тебя вызываю…
22
Собственно говоря, мне уж пора было уезжать с «Крутой Марии». Срок моей командировки кончился; в редакции ждали очерка. А уезжать не хотелось. И писать было некогда. Каждое утро я говорил себе: «Ну, еще денек! Вот посмотрю, как Виктор добьется нового рекорда, тогда и поеду». Или: «Теперь дождусь рекорда Андрея. Это нужно для очерка». Но это нужно было не для очерка, а для меня, зачем – я и сам не знал. «Просто мне жаль расставаться с „Крутой Марией“, – убеждал я себя. – Я тут почти пять лет не был». Но это было правдой только наполовину; к расставаниям с «Крутой Марией», как и к разлукам с матерью, я уж давно привык. Жаль было расставаться не с шахтой, а с полюбившимися мне людьми – с Нечаенко, с Андреем и Виктором, с Светличным, с дядей Прокопом, которого я помнил с детства, с Дашей, которую, сам уж не знаю, помнил я или нет, но теперь встретил как бы заново… Грустно было покидать их на полдороге. И я говорил себе: ну, еще денек!
Но вот и Светличный уже уехал в свой институт. Уехала в Москву Даша. Виктор установил новый мировой рекорд, продержавшийся почти целый день; вечером, во вторую смену, его уже побил Митя Закорко, как и обещал. Пошел, наконец, на рекорд и Андрей Воронько.
До этого, два дня тому назад, Андрей по предложению Нечаенко был избран парторгом участка, на котором работал забойщиком. В партийной жизни Андрея это была первая большая выборная должность, и все понимали его волнение и робость, с какою принял он на свои плечи ответственность. Но никто из коммунистов и виду не подал, что это понимает, и никто не обидел молодого парторга словами снисходительного одобрения. Сразу же после собрания Прокоп Максимович, начальник участка, подошел к нему с делами, и они тут же углубились в них; я видел, как склонились над бумагами и чертежами (должно быть, над графиком работы в лавах) две головы – седая и русая, и опять остро почувствовал, что не хочу, не хочу уезжать отсюда…
А через два дня, ночью, Андрей пошел на рекорд. Я был при этом. Кроме меня, в лаве находились еще Прокоп Максимович и Виктор; теперь Виктор своей лампочкой освещал путь товарищу.
Андрей работал спокойно, размеренно, не торопясь: казалось, ни особой силы, ни ярости, ни запала не вкладывал он в свой труд; я сказал бы даже, что он рубал уголь как-то раздумчиво и осторожно, и хотя уголь обильной струей падал вниз и отбойный молоток стрекотал ровно и почти безостановочно, – я с разочарованием подумал, что рекорда Андрей Воронько все разно не добьется, и мне стало обидно за молодого парторга, а потом и досадно: ну что Андрей силы-то бережет, что медлит?! Хотелось растормошить его, зажечь, – да чем же зажжешь бесчувственного! А Андрей все так же спокойно и молча рубал уголь, без суеты и даже без оживления переползал из уступа в уступ и все долбил да долбил молотком; под конец он стал казаться мне просто скучным дятлом. Если и была поэзия в его работе, то моему пониманию недоступная. И эта ночная смена показалась мне бесконечно длинной…
А к утру выяснилось: Андрей нарубил 180 тонн и, значит, установил новый рекорд. Виктор первый и ото всей души поздравил товарища. Поздравил и дядя Прокоп: Андрей с давних пор был его любимцем.








