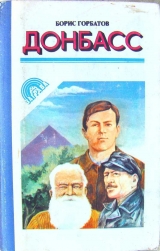
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
– Прадед тоже был шахтер.
– Верно! – закричал хозяин. – Он сюда пришел – тут голая степь была, волки бегали… Трехаршинный был мужик, волка руками душил… А прапрадед твой, Даша, берет свой корень из крестьян Орловской губернии Мценского уезда… Но ту родословную я не считаю! – махнул он рукой. – То – крестьянство, то – другой счет! Вот, – торжествующе посмотрел он на Виктора, – вот мы какого роду-племени. Мы хоть не аристократы, а свой корень помним! Нами эти шахты пробиты, мы этой степи жизнь дали – наша фамилия! Вот как!
– Да и наша фамилия… тоже… не первый тут день! – проворчал задетый Макар Васильевич. – Чай, тридцатый номер мой-то дед вместе с твоим проходили…
– А я, папаша, и не спорю! – согласился хозяин. – В одной они артели были. Небось, через стряпуху мы с вами давно родственники!
– Кабы была на земле справедливость, – сказал Прохор, играя усами, – так не по хозяйским дочкам шахты бы назывались Мариями да Альбертинами, а по именам шахтеров, кто те шахты проходил. Хоть по твоему деду, Прокоп Максимович…
– И назовут! И назовут! – убежденно закричал мастер. – В ЦИК указ сделает – и назовут! Мы хоть и низкие, по-твоему, люди, – обратился он опять к Виктору, тот даже на стуле заерзал, – а и большие люди к нам свое ухо преклоняют, прислушиваются… Да вот! – вспомнил он. – Жена! А кто это у нас недавно в гостях был? Еще на том месте сидел, где я сейчас сижу?
– Да будет тебе, хвастун! – смеясь, отмахнулась от него Настасья Макаровна.
– Нет, ты скажи, кто?
– Вячеслав Михайлович Молотов был, – трудно выпалил сын хозяина. И смутился.
– Большие люди часто у нас бывают, обижаться не можем! – сказал кум Прохор.
Макар Васильевич вдруг залился тихим, радостным смехом.
– Ты чего? – удивился Прохор.
– Нет, пускай он… Прокоп-то… – сквозь смех еле выдавил Макар Васильевич, – пусть расскажет… как это он одному большому человеку… спектакль сделал.
– Что-то не помню я… – смутился хозяин.
– Как не помнишь? Вся шахта помнит. Приехал как-то к нам на "Крутую Марию" большой человек, – обратился Макар Васильевич уже прямо к мальчикам. – Ну, и с места в карьер – в шахту.
– А, вот ты про что! – покрутил головою Прокоп Максимович и усмехнулся.
– Да-а… И как раз к Прокопу в забой. Ну, в шахте не видно, какой человек, тем более он в спецовке, но слух-то уж по всем лавам прошел, у нас это быстро! Да и сразу видать – не здешний человек, большой. Ты ведь знал это, доподлинно знал? – спросил он хозяина.
– Ну, знал! Что ж с того! – засмеялся тот.
– Ну, вот! Сидят они, значит, в забое, беседуют. То да сё, да как добыча, да почему механизации мало. Ну, так часа полтора побеседовали. Стали прощаться, а Прокоп и скажи: "Вот, – говорит, – товарищ, мы с вами полтора часа пробеседовали, а я тем временем угля-то не рубал. Так как же мне теперь с нормой? Я свою норму отродясь выполняю". – "А я, – говорит большой человек и смеется, – я скажу, чтоб учли, что беседовали мы". – "А вы, – говорит Прокоп, – кто будете?" – "А я, – говорит, – буду народный комиссар". И фамилию называет. "А! – спокойненько говорит наш Прокоп. – Очень приятно! А я буду забойщик Лесняк Прокоп Максимович. Будем знакомы!" – и ручку ему. Так друг дружке руки-то пожали, будто большими приятелями сделались…
Все засмеялись.
– А что ж! – подхватил Прокоп Максимович. – У него своя служба, у меня своя. Он большой человек, да и я не маленький! Я уголь даю!
– Вот, видали! – всплеснул руками Макар Васильевич и засмеялся. – Он и Вячеславу Михайловичу тоже сразу же: мы, говорит, с вами старые друзья!
– Э, нет! – горячо возразил хозяин и даже взволновался. – Это вы, папаша, зря! Не мог я такого сказать. Я себя помню. А что знакомы мы давно, это я Вячеславу Михайловичу доподлинно сказал, не отрицаю. Знакомы ведь, Иван? – обратился он к своему молчаливому брату.
– Знакомы! – коротко подтвердил тот.
– Это в двадцатом году было, так, что ли?
– В двадцатом. Осенью.
– Да, верно! Мы, видишь ли, – неожиданно мирно обратился он к Виктору, – как раз с Иваном с фронта пришли. Да… А шахта стоит затопленная, и никто качать не разрешает: нет на это средств – и все! Мы и туда, и сюда, и в Совнарком, и в Цепекапе[3]3
Центральные правления каменноугольной промышленности.
[Закрыть], – мы его цоб-цобе называли, для легкости, – усмехнулся он. – Нигде нам согласия нет. Вот и придумали мы с меньшим братом, с Иваном, податься в губком партии. Так я рассказываю, Иван?
– Так…
– Вот заявляемся мы в губком. Спрашиваем секретаря. И выходит к нам… Молотов Вячеслав Михайлович. Так я рассказываю, Иван?
– Так…
– Вот про эту встречу я и припомнил Вячеславу Михайловичу, когда он у нас в гостях был, – засмеялся Прокоп Максимович. – Говорю: "А мы ведь шахту-то откачали тогда, Вячеслав Михайлович, с вашей-то помощью!" А он мне: "Откачали, – говорит, – это хорошо. А теперь ее омолодить придется". – "Как, – говорю, – старух-то омоложать? Не слыхали про это. Да она и так, не сомневайтесь, – говорю, – проскрипит еще, даст уголек-то!" – "А нам, – говорит, – этого угля мало. Нам надо, чтобы она вдвое больше давала. Сможет?" – "Нет, – говорю, – не сможет старуха". – "А надо! Нам теперь много угля требуется, мы большую стройку затеяли". Вот и загадал он мне загадку-то, а?
– Он и отгадку дал! – внушительно сказал Прохор.
– Да. Дал и отгадку. "Вы, – спрашивает, – чем уголь рубаете? Обушком?" – "Обушком, чем же его еще брать?" – "Отсталая ваша техника", – говорит. – Надо машиной уголь рубать или отбойным молотком. С обушковым Донбассом, – говорит, – пора уже кончать. Реконструировать надо шахты и новые строить". Да-а, большие он тогда перед нами горизонты-то раскрыл!..
– А Афанасий Петрович говорит, – нерешительно вставил Андрей, – машина в шахте не пойдет.
– Это какой же Афанасий Петрович? – нахмурил брови мастер. – А! Десятник ваш! Так он же баптист! Баптист, как же! – расхохотался он. – В штунду ходит. Он и ко мне в семнадцатом году, когда мы на тридцатом номере революцию делали, тоже с советом пришел. "Не насильничай, – говорит, – Прокоп! Не твори насилия, побойся бога!" А я ему отвечаю: "Я не то что бога, я и господина пристава Каюду не боюсь, вчера его пол арест взял!" – Все захохотали. – Нет, вы его по этому делу, ребятки, не слушайте! Он старых взглядов человек, у него глаза на затылке, назад смотрят.
– А механизацию надо начинать с откатки! – неожиданно сказала Светик.
Все обернулись на нее, но она не смутилась, – видно, привыкла быть в семье баловнем и общей любимицей.
– Это кто же там высказывается? – усмехнулся хозяин. – Голос слышу, а от стола не видать.
– Это я высказываюсь, папа, – смело сказала Даша. – Я про откатку…
– А вот я давно до тебя добираюсь – не доберусь! – сказал отец, стараясь спрятать усмешку в усы. – Тебе кто позволил опять в шахту пойти?
– Я сама.
– Ну погоди, коза, вот гости уйдут! Видали экземпляр? – развел он руками. – Люди скажут: вот старый Прокоп дочку не может прокормить да выучить, в шахту ее погнал. А кто ее гонит-то!.. Чтоб я тебя больше в шахте не видел, слышь ты! – уже строго прикрикнул он на дочь.
– Так я семилетку кончила. Куда ж мне теперь? В контору, что ли? – презрительно тряхнула она кудряшками. – Вот еще!
– В техникум иди! На курсы! Дальше учись, пока я жив. Вот и этот, – сердито кивнул он на сына, – футболист! Тоже на учебу не погонишь. И что это за молодежь растет! – горестно воскликнул он. – Да кабы мне в их годы сказали только: учись, Прокоп! Так я б, боже ж ты мой!..
– Я, папа, давно у вас в летную школу прошусь! – с упреком сказал сын. – Вот при всех скажу!.. – и голос его задрожал.
– В летную! – раздраженно воскликнул отец. – Летунов и без тебя много в Донбассе: летают с шахты на шахту, как саранча. А инженеров – не видать! А нам инженеры нужны! – горячо сказал он. – На Казимире-то Савельиче далеко не уедешь!
– Да уж… Казимир Савельич! – засмеялся Макар Васильевич.
– Казимир Савельич – это тип! – объявил Прохор.
– Вот! – укоризненно сказал сыну Прокоп Максимович. – Слышишь? А откудова ж новые инженеры возьмутся, когда у наших детей – ветер в голове, учиться не хотят?
– Казимир Савельич – старого закала инженер! – хихикая, сказал Макар Васильевич. – Беспокоиться он не любит.
– Он и то жалуется, что в шахту часто ездить приходится, – сказал Прохор. – Раньше-то, говорит, главный раз в месяц в шахту ездил, а то и раз в три месяца, и ничего, говорит, работали!
– Не лю-убит! – засмеялся Макар Васильевич.
– А нам такие нужны, чтобы шахту любили! – крикнул хозяин и даже ладонью по столу ударил. – Чтоб болели за шахту. Свои нужны, нашей кости… не барчуки…
– Легкое слово сказал: свои! – воскликнул Макар Васильевич. – Инженер – не гриб, от одного дождя не вырастет!
– А я про что же? Вот пускай и учится молодежь. Возможность есть. А как выучится, Казимиров-то Савельичей – в сторону, пусть не путаются…
– Да и заведующего заодно, – буркнул Иван.
– Да, заведующий у нас не того, не вышел! – согласился Макар Васильевич. – Шуму от него, верно, много, а толку… – он махнул рукой.
– Необразованный! – кратко сказал Иван.
– И откуда взялся только? – удивился Прохор. – Он, говорят, и не шахтер.
– А ты, Прокоп, Егора Трофимова-то помнишь? – вдруг, улыбаясь, спросил Макар Васильевич.
– Как же, как же!
И все старики вдруг заулыбались тепло и радостно, улыбнулась и Евдокия Петровна. Видно, дорог был им этот человек, если даже воспоминание о нем почтили они тихой и светлой минутой задумчивого молчания. А может быть, просто вздохнули о молодости?
– Это кто же был такой? – робко спросил Андрей.
– Егор-то? – засмеялся хозяин. – Э, брат, о нем сразу и не расскажешь! Да и что про Егора в сухую? – вдруг весело вскричал он. – Выпьем за него, что ли?
– Дай ему бог здоровья и многие годы!.. – сказал подымая свою рюмку, Макар Васильевич. – Он ведь тоже, как и мы, грешные, не любил выпить. Живой он еще?
– А что ему делается! Он всех переживет! Бо-ольшой сейчас человек по углю.
– А чудак! – засмеялся Макар Васильевич. – Помню, объявился он в двадцать первом году на шахте и сейчас же шахтеров собрал. "Ну вот, – говорит, – барбосы, я теперь ваш красный директор шахты". Ну, все смеются, конечно. Чудно! Егорку-то все знали. Наш. Здешний.
– По первоначалу некоторым действительно в удивление было: свой шахтер – и вдруг директор! А тут как раз Егор себе выезд завел. Вы фаэтон-то его помните, папаша!
– Как же! – захохотал тот. – Пара вороных. И кучер с бородою.
– Да-а! – заблестев глазами, продолжал Прокоп Максимович. – Ну, шахтеры и говорят: забурел наш Егорка. Совсем буржуй стал. Дошло и до него. "Ладно, – говорит он, – покажу я вам фаэтон!" А тогда такой порядок был: деньги для получки в городе получали, а ехать за ними обязательно должен был сам директор с кассиром. Вот пришло время получки, берет Егор Трофимович кассира, – старичок у нас был кассир, вскоре помер, – да и отправляется с ним в город… пешком. Да, пешком! – воскликнул он и засмеялся. – Ну, день проходит, второй. Ни Егора, ни получки. Стали наведываться в контору шахты. "Где Егор?" – "В город пошел". – "Как пошел? У него фаэтон есть". – "Нет, не знаю, – говорит бухгалтер, – пешком с кассиром пошли". – Прокопий Максимович сделал паузу, как опытный рассказчик. – Две недели он так-то ходил, все его ждали! – с эффектом сказал он. – Нашел себе в городе дело, не иначе! Наконец является. Ну, все к нему. "Ты что же так долго, Егор?" – "А не ближний свет, – отвечает, – пешком – двадцать верст". – "Да ты б на фаэтоне поехал!" – "Нет, – говорит, – ну его с фаэтоном-то. Еще забуреешь. Я, – говорит, – теперь всегда пешком буду". Ну, тут уж все взмолились: "Да мы, тебе, – говорят, – черт, сложимся, аэроплан купим, только не томи ты нас!" – "А! – говорит. – Поняли, зачем директору фаэтон нужен?!"
Все расхохотались.
– Чудак был! – нежно повторил Макар Васильевич. – А простой, свойский. Уж он со всяким шахтером и водку выпьет и в кумовья пойдет. А на работе – не-ет, на работе он волк. Боялись его. Да и то сказать – шахту он знал так, как другой инженер не знает.
– А как бастовали-то, помнишь? – вдруг сказал Иван. Видно, воспоминания разворошили и его. Он словно оттаял.
– А-а! – засмеялся Прокоп Максимович. – Было и это, Как же! Забастовали, догадались. Вы, ребята, – неожиданно обратился он к Андрею, – небось, и забастовки-то никогда не видели?
– Нет… где же?




– Да. И не увидите теперь! Разве что за границей.
А мы до семнадцатого бастовали часто. Как же! Да-а…
А тут, в двадцать втором, наши забастовать догадались. При своей-то власти! Уж не помню, чего требовали. Конечно, трудно тогда было. Разруха. А ни хлеба, а ни картошки… Вот и забастовали. Собрались у конторы, сидят, на солнышке греются, а в шахту не идут. И коноводом у них – Кваша, вредный такой был старик! Ну, мы, значит, всей ячейкой пришли к ним: объясняем, уговариваем, срамим. Ничего не действует! Да и сами-то мы, по тем порам, малограмотными были. Больше на совесть напирали. А Егора Трофимовича нет! Он в городе по делам. Вот беда какая!
Он посмотрел на ребят, потом усмехнулся.
– Наконец приехал Егор. Докладывают ему: так и так, мол, – забастовка. "Ладно! – говорит. – Я сейчас сам к ним приду!" Ну, выходят, значит, ребята к забастовщикам, объявляют: не расходитесь, мол, подождите, сейчас с вами разговор будет. "А что, – спрашивает Кваша, – Егор, что ль, приехал?" – "Приехал. Сейчас сам придет". Постоял-постоял Кваша, в затылке почесал, потом говорит своим: "А ну, давай-ка лучше в шахту, ребята! Егор приехал. Что с ним, с чертом, связываться!" Ну, Егор Трофимович на крыльцо вышел, а забастовщиков нет. Все уже в шахте работают!
– Боялись его! – сказал Макар Васильевич. – Не власти его боялись, а личности. И языка тоже. Ух, и язык был – нож! А сам он, сам – никого не боялся.
– А меня боялся! – сказала вдруг Евдокия Петровна.
– Да-а! – удивленно подтвердил, подумав, Макар Васильевич. – Ее, верно, боялся.
– И сейчас боится! – прибавила Евдокия Петровна и засмеялась.
Андрей посмотрел на нее с уважением и некоторой робостью: он ее уже тоже боялся. Боялся, а чувствовал: случись беда, горе, к ней надо идти за советом, будто в ней одной – вся мудрость житейская и вся правда шахтерская; она худое не присоветует.
Она сидела за этим столом, как патриарх, прямая, молчаливая, строгая; ей семьдесят пять лет; самой старой донецкой шахте меньше. Она пришла с отцом сюда в степь, когда тут ничего не было, волки бегали. Сколько же всякого – и красивого, и худого, а больше всего горького и страшного – видели ее мудрые, приметливые глаза?!
Вот сидит она сейчас за этим столом, строгая, но ласковая, гордая своими детьми и внуками. Слушает ли она, о чем дети шумят? Или о своем думает? О чем?
Ему захотелось вдруг встать перед ней на колени, тихо попросить: благословите, бабушка, на шахтерскую жизнь! Теперь твердо знал он, что шахтером станет.
Он и сам не понял, как это вышло и откуда отвага в нем явилась, что он действительно встал – не на колени, правда, а во весь рост, когда все сидели, – и сказал дрожащим от волнения, не своим голосом:
– Я… я… сказать хочу…
И только когда вдруг все стихли и с любопытством уставились на него, понял он, что произошло, и растерялся, забыл, что хотел сказать и зачем поднялся.
– Говори, говори! – весело закричал ему хозяин.
– Что же ты? Говори!
А он стоял как потерянный и не знал, что сказать, что сделать.
Все невольно засмеялись, глядя на его смущенное, красное от испуга лицо, и только она одна, бабушка, не улыбалась даже. А смотрела на него покойно и ласково, будто говорила: что же ты, мы всё поймем, – скажи!
И он выдавил из себя слова, не те, разумеется, что так задушевно пели в нем, а совсем другие – жалкие и беспомощные, не умеющие выразить то, что он сейчас чувствовал.
– Я о бабушке… то есть об Евдокии Петровне… Чтоб все выпили за нее… то есть за ее здоровье…
– Ура-а! – зычно закричал хозяин и вдруг встал, подбежал к Андрею, схватил его в свои богатырские лапы и расцеловал. – Молодец! – горячо дыша в самое ухо Андрея, прошептал он. – Дорого ты сказал! Дорого! – Потом, все еще держа юношу за плечи, он повернулся к старухе и крикнул: – Так берем, мама, этого шахтарчонка во внуки?
Все захлопали, закричали; мужчины с рюмками в руках пошли к Евдокии Петровне – чокнуться.
– Семеро нас, мамо, осталось от отца, – сказал Иван. – Всех вы, мамо, выкормили, людьми сделали. Низкий поклон вам!
– Спасибо, спасибо вам, детки! – отвечала смущенная и растерянная старуха. – И я с вами до хороших дней дожила. И тебе спасибо, Андрюшенька! Первый раз вижу тебя, а – родной. Спасибо тебе! И всем добрым людям – спасибо! – Она поклонилась. – Не забываете старуху, мне это лестно. Вот теперь заплакать бы, – сказала она совсем неожиданно, – да беда: плакать я не выучилась. Али заплакать, что ль, Настя? – крикнула она невестке.
– Так ведь в радости-то вроде не плачут, мама! – смеясь, ответила та.
– Ну, а с горя я и сроду не плакала!
После обеда хозяин сам пошел провожать ребят.
С Андреем он был особенно ласков, но и на Виктора уже не хмурился, был приветлив и с ним.
– Вы заходите ко мне, ребятки, – говорил он, идя с ними по двору. – Как вздумается, так и заходите! Эк, денек хорош! – прищурился он на солнце. – Последний. Осенью у нас – нехорошо. Дожди замучат.
Он подошел с ними к калитке и остановился.
– Хорошая у вас улица, зеленая… – сказал Андрей. – Липы какие!
– Сами садили, – ответил мастер. – Нам ведь здесь – жить! Во-он там, где плетень, видите – там тесть мой живет. Вы как раз под его огородом и работаете…
– То есть как? – не понял Андрей.
– А так! Наша лава как раз и проходит… под его огородом. А вон туда – пласт "Мазурка" пойдет. А коренной штрек – тут вот… – Он чертил рукою в воздухе, и Андрей изумленно следил за его пальцем, словно то была волшебная палочка: перед нею недра распахивались. – Да-а! А как бы вы думали? Двухэтажный у шахтера дом… Хоромы! Значит, там внизу я работаю, рабочий кабинет там мой, а тут – отдыхаю, водку с друзьями пью. – Он засмеялся. – Ну, заходите! Дорогу теперь знаете. А Дашку я на цепь прикую. Так что без опаски заходите! – и он протянул приятелям руки.
– Вы меня простите, Прокоп Максимович! – вдруг сказал Виктор: он все время хотел это сказать и волновался. – Я тогда за столом глупость сказал, обидел вас… вы простите. Я как дурак…
– Да нет, нет, что ты! – сердечно перебил его забойщик. – Я уж и забыл!
– А я не забуду… я теперь – никогда…
Андрей удивленно взглянул на друга; в первый раз слышал он, чтобы Виктор сам винился; но он ничего не сказал.
Они простились с Прокопом Максимовичем и пошли домой. Некоторое время шли молча.
– Ты хорошо сказал… про бабушку… – вдруг тихо произнес Виктор. – А я свинья!
– Что ты, что ты, Витя!
– Нет, ты молчи. Я сам знаю. Свинья. – И он мрачно пошел вперед, уже не глядя в сторону товарища.
10
«Шахтер, дай добычь!» – такой плакат висел теперь напротив койки Виктора. Просыпаясь, он замечал его раньше, чем свет в окне. Знакомые слова сами бросались в глаза. Они гудели в его ушах, как и будивший его гудок «Крутой Марии». Иногда они даже снились. Он вставал. Так начинался день.
Торопясь, шел он знакомой дорогой на шахту. На стенах домов, на заборах висели такие же плакаты. "Шахтер, страна ждет от тебя угля!" – кричала надпись на проходных воротах.
"Как добычь?" – спрашивал он, встречая у клети ребят из ночной смены. "Как добычь?" – спрашивали его самого, когда он подымался на-гора. "Как добычь?" – этим жила вся шахта. Об этом справлялись из горкома; об этом звонили из центра; о добыче кричали каждое утро газеты. Шахтерские жены обсуждали вчерашнюю добычу в очередях у водоразборных колонок.
В те дни, когда шахта выполняла план, высоко над копром зажигалась маленькая алая звездочка. Это был праздник. И отставной шахтер дядя Онисим приказывал чисто вымыть полы в общежитии и позволял себе четвертинку. Но такие дни выпадали редко, совсем редко – шахта была в прорыве. "Прорыв" – это слово стало таким же ходким, как и "добычь". Увы, они шли в паре, как заморенные клячи.
– Мы задолжали стране огромное количество угля! – с горьким стыдом восклицал на собраниях Прокоп Максимович. – А? Красиво это? И кому задолжали? Стране! И сколько? Восемнадцать тысяч тони! А я сроду гривенника никому должен не был, вот пусть соседи скажут!..
Только один человек на шахте не признавал прорыва и вслух об этом говорил – главный инженер Казимир Савельевич.
– Откуда прорыв? – брезгливо морщил он свой оседланный золотым пенсне нос. – Работаем, как всегда работали. Ни завалов нет, ни нарушения кровли, ни иных происшествий чрезвычайного характера.
– Но план, Казимир Савельевич, план-то!..
– Значит, в бумаге у вас прорыв, – сердито отвечал он. – Прорыв вашего бумажного плана. Зачем же вы такие планы сочиняете, которые выполнить невозможно? – ехидно спрашивал он.
У него были последователи, сторонники тайные и явные; сам бритоголовый заведующий шахтой в глубине души был с ним, хоть и кричал на собраниях, брызгаясь слюной: "Костьми ляжем, а план выполним!" И уже кипела на шахте яростная война защитников плана с его противниками.
Война бушевала и на соседних шахтах, и во всем Донбассе, во всей стране, – в городе и в деревне, – война нового с косным, старым. Разбитое в деревне кулачье появилось теперь на шахтах; Свиридов был еще самым тихим из них. Они пришли сюда не зализывать раны, а драться снова: пустынные штреки шахты казались им подходящим полем боя. Враждебно косились они на все; в каждом механизме уже видели врага; это был тот же трактор, который выкорчевал их из милых, лампадным маслом пропахших гнезд. И они ломали машины; тупо, злобно и в одиночку, друг друга боясь, вредили; сеяли вздорные слухи. Обреченные на смерть, они только огрызались да кусались, и иногда – больно; остановить наступление нового они уже не могли.
А между обоими лагерями, путаясь и мешаясь, слонялся по Донбассу всякий случайный, пестрый, разнообразный люд. Были тут и кулаки, и рабочие; и профессиональные "летуны", босяки; и крестьяне, мечтающие найти такую шахту, где уголь – помягче, а заработки – побольше; и воры, бежавшие из мест заключения, даже монахи из закрывшихся за оскудением монастырей. Были тут и совсем темные личности, непонятные, безликие; эти не любили расспросов, зато сами расспрашивали много.
Весь этот стихийный, произвольный и многотысячный поток заливал шахты, лихорадил их, превращал в проходной двор. Неожиданно приходили люди, неожиданно, никому не сказав ни слова, уходили; и начальник участка никогда не знал, сколько у него сегодня шахтеров пойдет в "упряжку". Эти люди приносили на шахту и нравы постоялого двора: им ничто здесь не было дорого, они ни за что не отвечали, ничего не любили. Они слонялись по руднику, пили, буянили, дрались ножами, играли "в три листика" на базаре, торговали полученной вчера спецовкой и одеялами из шахтерского общежития, потом вдруг "снимались" с места и перекочевывали на другую шахту, чтобы и там пить, скандалить в общежитии и торговать ворованным.
Под землей они работали неохотно и плохо, зато давали прекрасную возможность заведующему шахтой восклицать на собраниях:
– Чего ж вы хотите, товарищи! Текучка, проходной двор, настоящих кадров мало! – и, потирая бритую лысину, сокрушаться: – Эх, кабы кадры, кадры нам!
Оттого-то так любовно и радостно встретили кадровые шахтеры мобилизованных комсомольцев; в них чаяли найти не смену, а подмогу; надеялись, что они омолодят Донбасс, внесут в борьбу комсомольский задор, революционный пыл молодости. Большие надежды были на комсомольцев у таких "стариков", как Прокоп Максимович, – было бы стыдно эти надежды не оправдать!
Это отлично чувствовал Федор Светличный, оттого так и "болел душою". Каждый бежавший с шахты комсомолец был не просто дезертиром: он становился изменником, перебежавшим в лагерь врага. Каждый плохо работающий в забое парень был уже не просто лодырем, он становился предателем, подводившим всех. Сотни глаз – и дружеских и вражьих – следили теперь за комсомольцами.
– Мы на линии огня, ребята! – твердил каждый день Светличный своим товарищам. – В наступление пошла наша партия! – И он рассказывал о том, что происходит в стране.
Андрей особенно ревностно слушал Светличного, Впервые в жизни почувствовал себя Андрей в строю – в большом и общем строю. От Белого моря до Черного пошли в наступление цепи; он был в одной из них. Его место – забой, обушок – оружие. Ученичество кончилось для него и для Виктора и неожиданно и слишком рано: шахта нуждалась в забойщиках. Оба приятеля получили в самостоятельное владение уступы, каждому из них ежедневно давали задание на наряде. В общем плане шахты их доля была мизерно малой, но Андрей и этим гордился.
– Ты знаешь, какой план дали шахте? – говорил он приятелю. – Ох, большой план! Прокоп Максимович говорит: трудно нам будет этот план поднять с нашими порядками…
Но Виктор не знал нового плана шахты. Его и не интересовал этот план. Его ничто сейчас не занимало, только – собственная норма, только то, что он сам должен дать.
Его мир как-то странно сузился. В сущности всем его миром теперь был один его уступ. В этом мире он жил, работал, думал. Это был крохотный мир – один аршин в высоту, один уступ в длину, но даже и этот мирок он не мог победить, он, мечтавший когда-то завоевать целый мир!
После того памятного воскресенья у Прокопа Максимовича Виктор сказал себе: я должен стать шахтером! Нравится не нравится – должен! Не бежать же с шахты в самом деле!
Сперва он горячо взялся за дело. Он был еще учеником тогда. Стал прислушиваться к учителю; сбил в кровь руки, пытаясь овладеть обушком.
Но уголь упорно не давался ему, и он отстал. Теперь ему приходилось убеждать себя работать.
– Это необходимо, необходимо, необходимо! – твердил он себе. – Необходимо трудиться. Без труда все равно нельзя жить, невозможно. Конечно, он мог бы работать на Магнитке, или в Сталинграде на Тракторном, или даже плавать на китобойце в Охотском море… Но так вышло, что попал он в шахту. Пусть! Значит, надо трудиться в шахте. – Надо рубать уголь, будь он проклят! Надо, надо, надо! – говорил он себе. И рубал… Рубал, скорчившись, обливаясь потом, задыхаясь от терпкой угольной пыли и чуть не плача… Рубал, а все не мог вырубить норму.
Все мечты его свелись теперь к одному: вырубить сменную норму. Митя Закорко легко вырубал две.
Имя Мити Закорко сейчас гремело на шахте. Это был тот самый Митя-футболист, первый учитель Виктора, с которым он сразу не поладил. Сейчас Митя имел право посмеиваться над Виктором. Вчера он вполз к нему в уступ и сказал насмешливо:
– Эй, Виктор! Я две нормы сделал, могу взять тебя на буксир. Подмогну, а?
Но Виктор и не гнался за Митиными рекордами, он уж о славе и не думал. Ему бы только вырубить норму в смену и потом прийти в общежитие и швырнуть Светличному в лицо, прямо в лицо:
– Я норму сделал. Ну?
Он знал, что Светличный и не заметит дерзкого тона, а радостно вскрикнет:
– Молодец! – и схватит за плечи. – А не врешь?
Но он ни разу еще не вырубил норму…
Он приходил домой усталый и сразу валился на койку. Вокруг него шумели ребята – собирались в клуб, в кино; он лежал и тупо смотрел в потолок. Даже с Андреем он разговаривал теперь неохотно.
Андрей тоже пока норму не выполнял. Он трудился усердно, шахта полюбилась ему – ее мудрая тишина и задумчивое одиночество забоя, – он нашел уже радость в молчаливом, не видном людям труде шахтера, но он был медлителен, неповоротлив, неуклюж; он никак не мог управиться с нормой.
Он и сам не замечал, куда убегает время; оно словно между пальцев у него текло. Он научился у Антипова обстоятельности и аккуратности в работе; сноровку мастера он перенять не успел.
Андрей и по природе своей был тяжеловесен и не быстр, в школе его недаром прозвали "тюленем"; он ворочался в норе забоя медленно, туго, посапывая, как тюлень, только к концу упряжки удавалось ему разойтись и размяться, да поздно: нормы не было.
Пристыженный, понуро подымался он на-гора. Он тоже страдал, как и Виктор, от своей неудачи, но по-своему. Винил он только себя. Какими глазами посмотрит он теперь на Прокопа Максимовича и Светличного? Но Прокоп Максимович еще утешит: ну что ж! Не сразу. Научишься! Светличный же ничего не прощал.
Он и не умел прощать. На все "не могу" и "невозможно" он отвечал кратко:
– А почему я могу?
Он никогда не требовал от людей того, чего не мог бы потребовать от самого себя. Но он никогда и не спрашивал с людей меньше, чем спросил бы с себя: словно все люди должны были мочь то, что он может.
Отчего Андрей так боялся Светличного? Светличный не был ни начальником, ни даже бригадиром. Но он был комсоргом, то есть больше чем властью – совестью.
Как собственная совесть, беспощадно спрашивал он Андрея: ну, как добычь? И Андрей молча, виновато опускал голову.
– Эх, ты! – презрительно махал рукой Светличный. – Только людей подводишь!
На это нечего было ответить. И он, и Виктор, и Мальченко, и Глеб Васильчиков, парень из Харькова, действительно подводили всех – всю комсомольскую лаву.
Комсомольская лава была детищем Светличного. Это он настоял на том, чтоб комсомольцам дали отдельную лаву – поле, где они смогли б показать себя, ни за чью спину не прячась. Поддержавший Светличного Стружников предложил, чтоб работали в этой лаве не только мобилизованные, а и местные комсомольцы. Это было разумно: среди местных комсомольцев были настоящие мастера. Так родилась комсомольская лава. Митя Закорко был ее гордостью, Виктор – ее позором.
Как бы ни "законуривался" в своем мирке Виктор, как бы ни сопел в забое Андрей, – они были видны всем: их дела были на доске соревнования у самого входа на шахту. Люди могли видеть: эти комсомольцы работают плохо.
– Позор! – хмурясь, вздыхал Стружников. – Хоть с шахты беги!
По вечерам Светличный "исповедовал" робят. Он подсаживался на койку к Виктору и начинал донимать его:
– Тебе что мешает работать? Ты скажи! В чем причина?
– Отстань! – тихо просил Виктор.
– Не отстану, ишь нервный! Должна же быть причина! – допытывался Светличный.
– Отстань! Уйди!
– И что ты за человек – не пойму! Ты хоть то понимаешь, что по твоей милости мы и семидесяти процентов не выполняем?
– Тебе процент важен! – горько усмехнулся Виктор. – А человек?
– Да, процент! – спокойно отвечал Светличный. – Процент – он и есть показатель человека. Вот Митя Закорко, он две нормы дает. Он и выходит двухсотпроцентный парень, он трех таких, как ты, стоит. А ты какой – семидесятипроцентный, недоделанный? Эх ты! – он махал рукой и шел к Андрею, Васильчикову, Мальченко; "исповедовать" тех.
– Я по вашу душу пришел, – говорил он. – Ненавидите меня, а? Ну-ну! А вы другого комсорга изберите, подобрее.








