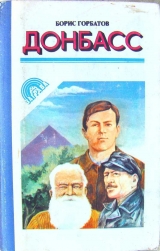
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
– Нет, мы тобой довольны, – заискивающе отвечал Васильчиков.
– А я тобой – нет. Как норма?
– Так разве же я не хочу? Я б всей душой… Так если не могу я?..
– А почему я могу? Почему Осадчий может? Почему Очеретин может?
В самом деле, почему Очеретин может? Очеретин – это было особенно удивительно.
Сережка Очеретин был вертлявый, конопатый, скоморошьего типа парень; в нем все как-то непристойно подмигивало, не только глаза и лицо, а и плечи, и руки, и бедра. Такого на каждой деревенской вечерке встретишь, их призвание – потешать людей. Всерьез их никто не берет.
– Я, ребята, хулиган! – отрекомендовался он сразу же, еще в эшелоне. И, сияя, посмотрел на всех своими синими, лучистыми глазами. В те редкие минуты, когда он не подмигивал, оказывалось, что у него хорошие, чистые глаза цвета синего неба.
Но тут он опять подмигнул:
– Из-за меня, ребята, целый пленум два дня заседал, – хвастливо сказал он. – Да-а! Целых два дня! Чи меня исключать, чи куда на перевоспитание отдать. А потом догадались: сдали в шахтеры.
Всю дорогу он рассказывал о своих успехах на вечерницях, о том, сколько женских сердец разбил. Все видели: врет парень! Но он врал артистично, красиво и как-то очень добродушно, не требуя себе веры и не обижаясь, когда ему в глаза говорили, что он заврался.
– Ну и вру! – соглашался он. – А ты зачем же слушаешь? Значит, я хорошо вру. Я, может, писателем собираюсь стать. А? Что?
Все потешались над ним, а когда он уж очень надоедал своей болтовней, просто говорили ему: "Уйди, Сережка! Надоел!" И он уходил.
Всерьез его и тут никто не брал. Только Светличный озабоченно следил за ним: "Этот сбежит первый!"
Но он не сбежал, а как-то, даже раньше всех других, вошел в частную жизнь рудника, обзавелся приятелями, хвастался даже, что и девчат имеет знакомых. Дважды приходил он в общежитие поздно и навеселе. Когда Светличный стал распекать его за это, он кротко все выслушал и вздохнул:
– Правильно объясняешь! Хулиган я. Так и наш секретарь выговаривал, бывало. – Потом с любопытством посмотрел на комсорга. – Теперь исключать будете, чи как?
Когда ребят распределяли по профессиям, на Очеретине споткнулись.
– Ну, а этого вертлявого куда? В коногоны или в лесогоны?
– В ветрогоны его, – сострил Мальченко.
Определили Очеретина в лесогоны, но через несколько дней он сам уже как-то перевелся в забойщики.
– В забое, ребяты, заработки лучше! – объяснил он, подмигивая. – Я как первую получку получу, кашне себе куплю. Шелковое, с кисточками. И калоши. Сроду я в калошах не ходил, интересно!
Ребят, убегавших с шахты, он искренно не мог понять.
– И куды бегут? В деревню! Вот новости! Так разве ж можно деревню с шахтой сравнить? На шахте ж культура! Кино каждый день, и в воскресенье футбол. От чудаки!
Разумеется, никто ему не поверил, когда он объявил однажды, что сегодня он норму вырубил.
Все засмеялись только.
– Ох, и здоров же ты врать, Сережка!
И он сам засмеялся. Подмигнул. А потом стал врать про свой роман с ламповщицей Настей.
– Ужасный роман получается, ребяты. У Настьки жених во флоте…
А норму он действительно выполнил. И на следующий день тоже. И на третий день опять. В комсомольскую лаву он пришел уже как надежный забойщик.
Теперь по вечерам в общежитии он хвастался тем, сколько заработал и что купит на эти деньги.
– Я, ребяты, себе костюм куплю, чистой шерсти, и туфли "Скороход". А Насте, так и быть, джемпер подарю, шелковый. Пусть пользуется… – Недавний батрачонок и сирота, отродясь целой десятки в руках не державший, он словно опьянел сейчас от возможности покупать все, чего душа хочет; в своих мечтах он уже накупил больше, чем заработал. – А еще я гитару себе куплю или велосипед. Буду на шахту на своем велосипеде ездить, как буржуй… Красота, ребяты!
– Рвач ты, Сережка, вот ты кто! – зло сказал ему однажды Глеб Васильчиков, сам ни разу еще не выполнивший норму.
Очеретин опешил.
– Кто я? – спросил он, часто моргая своими белесыми ресницами.
– Рвач ты. Душонка кулацкая, – повторил Васильчиков.
И Сережка, еще ни разу в своей жизни ни на кого не обидевшийся и привыкший ко всяким поносным словам, вдруг почувствовал себя оскорбленным.
– Отчего же я рвач, Светличный, а? – жалобно обратился он к комсоргу. – Ну, хулиган я, это да, не отрицаю. А зачем же рвач? Я ни у кого не ворую…
– Ты что про Сережку сказал? – тихо спросил Светличный Васильчикова, и брови его сдвинулись вдруг к переносице.
– Рвач он. Видишь – он за длинным рублем сюда приехал…
– А ты приехал зачем?
– Я? Я по сознанию… – важно ответил Глеб.
– Значит, ты сознательно свою норму не выполняешь? – спросил Светличный.
– Это… это ни при чем здесь…
– Нет, при чем. Грош цена твоему сознанию, когда за ним дела нет. Болтун ты… сознательный пустозвон, вот кто! А Сережка, – сказал он громко, чтобы все слышали. – Сережка – молодец! Он смело может всякому в глаза смотреть: за ним долга нет. Он свой уголь дает. А деньги он заработал честно.
– Честно, честно, вот именно!.. – обрадовался Сережка и подмигнул, сразу развеселившись.
На другой день после этого разговора его имя впервые появилось на красной доске. Указал на это Очеретину Андрей, сам Сережка и не заметил бы.
– Вот, читай! – сказал Андрей без зависти. – С. И. Очеретин.
Сережка тупо посмотрел на доску и испугался.
– Это кто же С. И. Очеретин? Зачем? – спросил он растерянно.
– А это ты и есть.
– Чудно! – недоверчиво протянул он и еще раз прочел надпись. – А откуда ж они узнали, что я Иванович?
– В документах прочли. Ну, пойдем, похвастаешься в общежитии.
Но Очеретина теперь невозможно было оторвать от доски.
– Так это я и есть? – осклабился он и вдруг во все горло захохотал. – Правильно! С. ИЛ Как в аптеке! Постой! – испугался он. – А может, это ошибка? Не я? А? Как думаешь? Может, завтра сотрут?
– Если плохо станешь работать, – сотрут.
– Ну да… Конечно… А так… не имеют права стереть?
– Нет. Ну, идем же!
Они пошли, но Сережка еще долго оборачивался на доску.
Вечером ему торжественно вручили красную книжку. В общежитие пришел фотограф с магнием фотографировать ударников. Когда очередь дошла до Сережки, все ожидали, что он выкинет какую-нибудь штуку. Он действительно подмигнул ребятам и, вихляясь, сел в кресло, но тотчас же и растерялся. "Эта карточка на доске будет висеть! – вспомнил он и даже вспотел. – Это уж не шутки!" Таким он и получился на фотографии – растерянно-испуганным, с петушиным хохолком на лбу.
– Как фамилия? – спросил равнодушно фотограф.
– Сергей Иванович Очеретин, – чужим голосом ответил Сережка. Он был явно не в своей колее. Старая, скоморошья линия поведения была уже невозможна для С. И. Очеретина, новая линия не находилась.
Несколько дней он бродил как неприкаянный, потом пришел к Светличному.
– Я сегодня сто двадцать процентов дал, – сказал он угрюмо. И посмотрел на комсорга.
– Хорошо! Молодец! – обрадованно ответил тот.
– Да, – помялся Сережка. – А теперь что?.. – спросил он.
– Теперь? – засмеялся Светличный. – Теперь – полтораста давай.
– Хорошо. Дам полтораста.
Он потоптался на месте, потом вздохнул.
– А имею я право Митю Закорко вызвать? – вдруг спросил он.
– Отчего же? Только он две нормы дает.
– Хорошо. Две дам.
Он опять потоптался, потом, не глядя на Светличного, сказал:
– А выпивать я теперь, значит, не имею права… поскольку ударник?
– Нет, отчего же! Если в меру – можно.
– А за это не вычеркнут?
– Если в меру – нет, – засмеялся комсорг.
– Ну-ну! – пробурчал Сережка и вдруг радостно, ото всей души расхохотался. – Чудно-о! Если в наш район про меня написать, не поверят, ну, ей-богу, не поверят! – Он хотел подмигнуть, как бывало, но это у него теперь не получилось. – Ну, до свидания пока! – солидно сказал он и вышел.
Светличный ласково посмотрел ему вслед.
– Ишь ты! – усмехнулся он и покрутил головой.
Весь этот день он был в празднично-радостном настроении. Вспоминал Сережку. Как он, хмыкая носом и топчась, выспрашивал себе новую цель: а теперь что? "Это в нем человек проснулся! И какой человек! Гордый, с чувством собственной силы и достоинства".
"Но это не я в нем разбудил! – честно признавался себе Светличный. – Я его и не приметил. Это шахта разбудила, труд. Как же мне теперь разбудить огонек в Викторе Абросимове, в Мальченко, в Васильчикове? Нет, плохо я работаю, плохо. Надо мне серьезно взяться за них".
И он "брался" за отстающих, стыдил, ставил Сережку в пример, "накачивал". Он и сам еще был молод и неопытен, он думал, что стоит "накачать" человека, – и он полетит, как воздушный шар. Сложная наука воспитания человеческого характера была еще неведома ему; он просто и не умел разбираться в душевных тонкостях и настроениях ребят.
Он злился, кричал на них, срамил на собраниях, – помочь им он еще и сам не умел. Особенно Виктору.
А Виктору надо было помочь. С ним было совсем плохо.
11
Однажды утром Виктора разбудило какое-то странное дребезжание – нет, жужжание – оконных стекол. Он проснулся, вскочил, прислушался. Стекла жужжали. Казалось, тысяча звонких пчел бились в окна, требуя, чтобы их впустили…
– А-а! – с тоской догадался Виктор. – Зовет уже! – И вдруг почувствовал, что сегодня он никак не сможет заставить себя встать и пойти на шахту. Да и не хочет!
Он опустил голову на подушку – подушка была добрая, родная, – но глаз не закрыл. Перед его койкой по-прежнему висел плакат: "Шахтер, дай добычь!" Как всегда, слова сразу же бросились на Виктора, едва только он неосторожно повел головой. Сейчас эти слова были неприятны ему. Особенно второе, требовательное: дай!
– А я не хочу! – сказал Виктор и, натянув одеяло на уши, шумно повернулся на левый бок.
Стекла продолжали дрожать и тренькать. Это только спросонья могло показаться парию, что они жужжат. Они просто звенели, сотрясаемые необыкновенным хором гудков, никогда еще не бывшим таким согласным и дружным, как в это утро. Обычно гудки возникали поодиночке, отставая друг от друга на пять, десять, даже пятнадцать минут. А сегодня они взревели все вдруг, разом, словно сговорились растормошить Виктора.
Он спрятал голову в подушку. Не хочу! Не хочу вставать!
Но над ним уже наклонялся Андрей.
– Эй, вставай, вставай, Витя. Вставай, братику! Пора! – говорил он, бережно, но настойчиво расталкивая товарища, казавшегося ему спящим. – Вставай! Слышишь – гудки…
Виктору пришлось приподняться.
– Что это они сегодня взбесились? – недовольно пробурчал он, еще не решив, что делать – притворяться ли больным, или сказать прямо и дерзко: не желаю больше! – У, черт, как воют! – поежился он и не встал.
– Та я думаю, что то просто к празднику часы везде поставили по радио, – вот гудки и заревели разом, – объяснил Андрей. – А ты вставай, вставай, Витя! – умоляюще прибавил он. – Ну, что же ты, ей-богу! Ну, нельзя ж!
"Да, да, завтра праздник, седьмое ноября, – вспомнил Виктор. – Как же я не подумал об этом? Придется, значит, вставать. Ничего не поделаешь".
Он нехотя отбросил одеяло и стал одеваться. Андрей торопил его:
– Быстрей, Витя, быстрей!
Виктор вяло подчинялся. Своей воли у него уже не было. Послушно потащился за товарищем в умывалку, в сушилку, в столовую…
Из столовой, как всегда, вышли гурьбой, во главе со Светличным, и гурьбой же пошли к шахте. Когда-то, в первые дни, Виктору нравилось и наблюдать и самому участвовать в этом торжественном утреннем шествии на работу. В этот ранний час никого, кроме шахтеров, кет на улицах поселка, как на поле боя нет никого, кроме воинов. Зато шахтеры – везде. Со всех сторон сходятся они к шахте. Гуськом, по бесчисленным тропинкам идут они через степь; спускаются с холмов, переходят балки, где в одиночку, где группками, кто – торопливым шагом, кто – даже бегом; но все это по-утреннему молча, даже как-то сурово, торжественно; громких голосов нет, разговоров и смеха не слышно, только изредка раздаются возгласы приветствий – как перекличка часовых в тумане… Чем ближе к поселку, тем все больше густеют шахтерские цепи; в светло-розовой дымке утра обушки кажутся Виктору боевыми секирами, огни лампочек – факелами, не раздутыми до поры… Что-то грозно-воинственное есть в этом движении черных людских толп через степь, может быть, оттого, что все движутся в одном направлении, словно связанные общим тайным согласием, единой волей и одной целью. Здесь, как в армии, нет случайных, посторонних людей; есть незнакомые, но нет чужих; все люди разные, но все шахтеры. Через час все это дружное войско будет уже рубиться под землей.
А пока оно властно захватывает улицы поселка. На всех перекрестках присоединяются к нему новые отряды вооруженных людей; из всех переулков, дворов и палисадников выходят и вливаются в молчаливый поток новые вооруженные люди, и у всех у них общее оружие – топор или обушок и единая воинская форма – черный шахтерский "бархат".
Об одном только горевал тогда Виктор, что и сам он и его товарищи еще не выглядят настоящими шахтерами. Всякий сразу заметит это, только глянув на их новенькие, чистенькие спецовки, на их робкий, цыплячий вид…
Сейчас горевать было не о чем. Уже никто не отличил бы наших ребят от заправских шахтеров. Они чувствовали себя на руднике как дома. Они смело шагали по улице. Их спецовки давно уж не были ни новенькими, ни чистенькими, они повидали виды, от них крепко пахло углем и шахтой, как от шипели бывалого солдата пахнет порохом и окопом… Единственное, что выделило ребят в общем молчаливом потоке, – это звонкая резвость их голосов.
Они шли по улице, весело болтая на ходу.
– А я умою сегодня Митю Закорко! – хвастался Сережка Очеретин. – Я его перекрою, вот плюньте мне в глаза, если совру…
– Да, это хорошо б, кабы удалось встретить праздник каким-нибудь рекордом! – отозвался Светличный.
– Меня, ребята, лес держит! – сказал Осадчий. – Черт его знает, что у нас с лесом. Ты б на это обратил внимание, Светличный!
– Лес действительно не стандартный, – вставил Андрей и вздохнул. – Много времени зря уходит на подгонку…
Виктор не участвовал в разговоре. И не хотел и не мог. Что сказал бы он ребятам? Они говорили только о шахте, все время о шахте. Они уже ею жили. Она сделалась главным делом их жизни. Для них шахтерский труд стал уже радостью, для него еще был постылой необходимостью. Черт его знает, отчего так неудачно вышло у него? Может, перевестись на другую шахту да там попроситься в коногоны? Все-таки коногонить веселее, чем рубать уголь. А еще лучше – поступить бы в кавалерийскую школу. И на границу. Куда-нибудь далеко-далеко, на самый Дальний Восток. В тайгу. Ловить диверсантов.
Ему никто не мешал мечтать и строить любые воздушные замки. Ребята словно забыли о его существовании, хоть он и шел рядом. Даже Андрей, увлеченный беседой со Светличным, не трогал его. И когда Виктор остался, наконец, один в своем уступе, он был не более одинок, чем все утро на людях, на поверхности.
Он даже обрадовался этому одиночеству в первый раз в своей ребячьей жизни.
Работать ему не хотелось. Он, правда, заправил зубок, повертел обушок в руках, но тотчас же и отложил в сторону. Он еще успеет сбить руки в кровь. Все равно норму не вырубишь. А чуть больше половины или чуть меньше – какая разница!
Да, хорошо б в кавалерийскую школу!.. Или в дальнее-дальнее плавание. Плыть себе под парусами по всем морям и океанам и горюшка не знать. Он лег, подложил руки под голову и стал глядеть в кровлю. В ее матовом зеркале можно было, как на экране, увидеть все, о чем думаешь. Конечно, далекое плавание – это глупая детская мечта. Этого никогда не будет. И под парусами теперь никто не плавает. Но тайга – это возможно. Ну, пусть не пограничный отряд, пусть новостройка. Сейчас начато много строек в тайге… Говорят, в тайге, как и в шахте, нет неба. Его там из-за деревьев не видно. Но в тайге не так черно, как тут. Там все зелено, зелено, зелено… И хвоей пахнет… Кедр… Это та же сосна, но больше…
Незаметно он уснул. Но приснилась ему не тайга и не граница, а какая-то совсем необычайная, незнакомая, жаркая страна с высоким-высоким небом. И в этом небе, одновременно похожем на голубой Псёл, все время беспечно кувыркался и плыл Виктор, размахивая руками, как крыльями. И не было ничего счастливее этого парения.
Его растолкал десятник.
– Ну вот, полюбуйтесь! – с отчаянием вскричал он. – Вот какие у нас ударники! Как хотите, товарищ Ворожцов, а никаких больше сил моих с ними нету!..
– Да-а… – хмуро сказал человек, которого десятник назвал Ворожцовым. – Добрые люди к празднику с достижениями идут. А у нас вот какое достижение!.. – Он поднес свою лампочку прямо к носу Виктора и осветил его лицо. – Ты чей будешь? Кто? Как фамилия? – строго спросил он.
Но оглушенный Виктор ничего не смог ему ответить. Он сам еще не понимал, что с ним стряслось. Что тут произошло? Откуда взялись в его уступе эти двое? Кто они?
– Абросимов его фамилия! – сердито ответил за Виктора десятник. – Комсомолец.
– Комсомолец? – недоверчиво переспросил Ворожцов. – Совсем плохо. Сон на посту… да… За это, брат, в армии – расстрел. – Он опустил лампочку и коротко приказал: – Давай работай! Потом поговорим с тобой.
Виктор поспешно схватил обушок. Ворожцов некоторое время молча смотрел, как он неумело, но яростно рубает уголь, потом, ничего не сказав, покинул забой. Только по его уходе Виктор вспомнил, что Ворожцов – это новый секретарь шахтпарткома. Значит, вот кто нашел его спящим в уступе… Впрочем, теперь уже все равно – хуже, чем есть, не будет.
К концу смены, как всегда, приполз Андрей. Он работал в верхнем уступе.
– Ну, как дела, Виктор? – нетерпеливо спросил он. – Вырубил норму?
Виктор ничего не ответил.
– Неужели не вырубил? – ужаснулся Андрей. – Как же ты, брат, а? – Он с сочувствием посмотрел на товарища. – Ведь такой день завтра. А я вырубил! – На его лице появилась застенчивая и счастливая улыбка. Ему хотелось во всех подробностях рассказать о своей удаче. Но он помял, что сейчас это будет неприятно Виктору.
– Ну, ничего! – сказал он, желая утешить приятеля. – Ты только духом не падай! В следующий раз вырубишь. Знаешь, это вполне возможное дело… Только захотеть…
Но сочувствие товарища только разозлило Виктора. Не нуждается он ни в снисхождении, ни в утешении! Он с досадою закричал:
– Я б и сам вполне свободно вырубил норму. Ты не думай! Только я болен. Болен! Слышишь? У меня все нутро болит! – чуть не со слезами вскричал он. – Все болит! Тут я прилег немного… понимаешь? А Ворожцов подумал: сплю…
– Так что же ты… Что же ты утром молчал, Витя? – встревоженно воскликнул Андрей и, схватив лампочку, торопливо придвинулся поближе к товарищу. – Может, тебе и в шахту не надо было ехать? Плохо тебе сейчас, да? Плохо? – Он поднес лампочку к лицу совсем так, как недавно Ворожцов: лицо Виктора было красным.
– Ничего я не болен, – хрипло сказал Виктор. – Я просто спал в забое. Спал, как сукин сын. – Он схватил инструмент и, не глядя на Андрея, быстро пополз из лавы.
Окончательно сбитый с толку, Андрей пополз за ним. Он только одно понимал в эту минуту: приятелю плохо, очень плохо, а он не знает, чем ему помочь.
На рудничном дворе они встретили Светличного. Тот уже знал о том, что случилось с Виктором в забое.
– Опять ты отличился, Абросимов! – с досадой сказал он Виктору. – Ты что это, нарочно делаешь, что ли? Нет, ты скажи мне, что ты хочешь доказать? И кому?
– Да он болен, болен… – поспешно вмешался Андрей. – Федя, ты ж посмотри на него – он совсем больной.
– Болен? – недоверчиво спросил Светличный и внимательно посмотрел на Виктора. – Непохоже что-то… Ну, ладно! Успеем еще поговорить. А теперь – пошли получать зарплату. Может, с получкой и болезнь пройдет.
– Немного-то нам получать придется, – сконфуженно сказал Андрей.
– Как работали, так и получите.
Но, видно, совсем плохо работали оба приятеля, даже кассир удивился и насмешливо покрутил головой.
– Значит, здоровье свое бережете, молодой человек? – сказал он, вручая Виктору деньги. – Ну-ну! Здоровье, конечно, всего важней.
Виктор смял бумажки в руке и ничего не ответил.
А как гордо мечтал он еще недавно о первых заработках! Твердо определил, что пошлет большую сумму матери в Чибиряки. "Вот, мол, мама, знайте, что сын ваш уже стал на ноги. Теперь не журитесь, мама!" Но, видно, долго еще придется маме ждать подарка от непутевого сына. Того, что заработали они с Андреем, и на еду не хватит. Как будут они жить до новой получки? Брать взаймы у богатых товарищей? Как странно переменились эти старые категории: богатый – бедный. Сережка Очеретин – богач, потому что хорошо работает, а Виктор Абросимов – бедняк, потому что спит в забое, И никто не должен жалеть его, бедняка. И бедностью этой нельзя гордиться. Постыдная бедность. Позорная бедность. Он сам сейчас стыдится ее.
Вечером в клубе состоялось рабочее собрание. Виктору пришлось пойти, на этом настоял неумолимый Светличный. Комсорг даже сел рядом с Виктором, словно боялся, что тот убежит. Но Виктору и бежать-то было некуда. Разве что провалиться сквозь землю. Он понимал, что не зря привел его на собрание Светличный. Значит, приуготовлено здесь, на собрании, что-то специально для него, для Виктора. Но что? Это не может быть ничем хорошим – хорошего Виктор не заслужил. Значит, что-то тяжко позорное, худое. И, видно, очень худое, если Светличный предполагал, что Виктор не вытерпит, сбежит. Но что, что это? И когда и как это будет?
Этого можно было ждать всякую минуту. С той самой поры, как поднялся на трибуну секретарь шахт-парткома Ворожцов, живой свидетель того, что случилось с Виктором в забое, Виктор уже покоя не знал. Он с трепетом слушал доклад секретаря и, замирая, ждал, что вот сейчас, через секунду, слетят с уст Ворожцова роковые слова и навсегда запятнают бедное имя Виктора Абросимова. Но Ворожцов имени Виктора не назвал.
Потом чествовали лучшую бригаду забойщиков – бригаду Прокопа Максимовича Лесняка, вручали ей красное знамя, и Виктор смотрел, как бережно и с достоинством принимал старый Лесняк знамя из рук секретаря и потом нес знамя через весь зал, держа прямо перед собой вытянутыми руками, уважительно и нежно.
И Виктор машинально хлопал и старику и знамени, потому что хлопали все – весь зал.
Затем стали чествовать лучших ударников, и на сцену, среди других, вышли сконфуженный Осадчий, совершенно растерявшийся от счастья Сережка Очеретин и огненно-рыжий, чисто вымытый и приодевшийся Митя Закорко. И опять Виктор машинально хлопал вместе со всеми и глядел, как моргает белесыми ресницами Сережка и как развязно, без капли смущения, словно артист, кланяется народу Митя Закорко, прижимая левую руку к сердцу. И так велико было сейчас расстояние от сияющей вершины славы, на которой были и Митя, и Сережка, и Володя Осадчий, до дна пропасти, в которой барахтался сам Виктор, что он даже не посмел позавидовать товарищам. Они были недосягаемы. Виктор мог только хлопать им. И он хлопал. И при этом думал: "Ну, а когда же мой черед? И что это будет, что, что?"
Наконец стихли аплодисменты, и Ворожцов сказал уже совсем другим, чужим голосом:
– Ну, а теперь воздадим по заслугам и тем, кто хуже всех работал! – и взял какой-то список со стола.
И сразу все переменилось в зале. Только что это собрание было таким добрым, таким благодушным, даже ласковым; люди так весело и добросердечно хлопали героям, смеялись от всей души. А сейчас собрание притихло и как бы нахмурилось, и Виктор понял, что это пришел его черед. Он торопливо облизал губы, горло пересохло.
Ворожцов назвал первое имя. Оно было незнакомо Виктору, но собранию известно.
Сразу раздались голоса:
– На сцену его! На сцену!
– Прогульщик известный!
– На сцену!
– Пусть перед людьми встанет!
– Пусть народу глаза покажет!
И, странное дело, прогульщик прошел на сцену. Спотыкаясь и пряча от всех глаза, шел он по проходу, красный, взъерошенный, сразу ставший жалконьким и маленьким, шел под свист всего зала, под насмешливые хлопки и крики. Но все-таки шел! Если б приказал ему взойти на помост Ворожцов, если б этого потребовало начальство, – он стал бы протестовать и не подчинился бы ни за что. Но против собрания своих рабочих товарищей, против их приговора он пойти не посмел. Только руки сконфуженно и виновато протянул к ним, когда уже взошел на сцену: мол, пожалейте, братцы, не сильно срамите-то!
И вслед за ним пошли на помост все, кого называл Ворожцов: бракоделы, летуны, лодыри, прогульщики, "сборная команда чемпионов прорыва", как уже кто-то из зала окрестил их. Собрание всех их наказывало по-своему, по-рабочему: не штрафами, не взысканиями, а самым страшным, чем может наказывать трудящийся человек лодыря: презрением.
Наконец пришел черед Виктора.
– Я не пойду! – глухо сказал он, когда услышал свое имя, и умоляюще посмотрел на Светличного.
– Надо идти, – печально ответил тот, и Виктор, сгорбясь, стал подыматься с места.
– Ничего, ничего! – дружески шепнул ему Светличный. – Иди. Ничего, Надо.
Виктор пошел. Светличный провожал его взглядом. Ему видна была только спина Виктора. Но и этого было достаточно. Светличный знал уже, что никогда не забудет этой спины. "А я ничем не помог ему! – вдруг впервые горько упрекнул он себя. – Только поносил, срамил, ругал. Ни разу я с ним по-человечески не поговорил. Ключа к его душе не нашел. Я в сущности не знаю даже, какой он парень. И вот он идет на помост… А я сижу – и спокойно гляжу на это. И никто меня, комсорга, за это не казнит. А он идет один… Все смотрят на него… Ну, подыми же голову, Витя! Подыми!" И когда взошел Виктор на помост, он уже был для Светличного самым дорогим, самым близким человеком на земле, – человеком, за которого надо бороться.
Но Виктор не знал этого. Он не видел ни Светличного, ни Андрея, вообще никого – в отдельности – из людей в зале. Он видел только: много глаз смотрят на него, и ему было страшно посмотреть в эти глаза. Страшно смотреть в глаза народу, когда ты виноват перед ним. Он опустил голову. Но прямо перед ним, в первом ряду, сидела старуха в буденовке, и ее не увидеть он не мог. Она смотрела на Виктора в упор строгим, недобрым взглядом, словно пронизывала насквозь. "Отчего она так смотрит на меня? Что я ей сделал?" – испугался Виктор. А старуха все продолжала смотреть на него. И все в ней – от костлявых пальцев до острого шпиля буденовки – было колючим и непримиримым. Она не знала Виктора. Но она на каждого из "сборной команды" смотрела таким же взглядом. Для нее все они были на одно лицо – виновники позора "Крутой Марии". Зачем они пришли к ним на шахту, эти чужие люди без стыда и совести? Позорить нас? Им наше не дорого. Они тут ни крови не проливали, ни слез, ни пота. Они за длинным рублем сюда приехали, а мы за "Крутую Марию" жизни не жалеем. Они вот спят в забоях, бессовестные люди, – а наши вечным сном успокоились в братской могиле у шахты. И мой Никифор среди них.
И старуха с горючей ненавистью смотрела на Виктора.
Ворожцов вызвал последнего из списка:
– Свиридов! – объявил он. – Известен вам такой человек?
– Знаем, знаем его! – раздались голоса. – Рвач!
– На сцену его!
– Да зачем этого на сцену? – с сомнением возразил чей-то хриплый, простуженный голос. – Этот все одно не застесняется. Стыда в нем нет.
– Все равно на сцену, на сцену!
И Виктор с ужасом увидел, что к нему на сцену идет Свиридов, тот самый Свиридов, который так обидно разыграл его и Андрея в лаве. Он был все в той же круглой потертой барашковой шапке, в сером воротнике, в ватных штанах, на его горле болтался пестрый мохнатый шарф, на ногах были валенки с калошами, словно Свиридову было очень холодно на этой земле и он всего себя укутал войлоком и ватой. Но на сцену он шел действительно без всякого смущения, даже как-то весело, развязно, на ходу подмигивая знакомым, а взойдя на помост, приятельски подмигнул Виктору и даже игривно толкнул его локтем в бок. И это было последним и самым страшным унижением Виктора в этот вечер. Итак, вот до чего он докатился: он был в одной сборной команде со Свиридовым, под одним флагом…
12
Ему и восемнадцати лет не было. В сущности он был еще очень желторотый молодой человек. То, что случилось с ним на шахте, было всего-навсего житейским испытанием, не больше, его ошибки были первыми ошибками юноши, критика на собрании – первой суровой критикой в его жизни. Просто жизнь оказалась сложнее, грубее и строже, чем об этом мечталось на розовом песке у Псла. И главное – требовательней. Она все могла дать молодому человеку в награду за его труд, а даром ничего не давала.
Но Виктору, со свойственной ему пылкостью и беспорядочностью воображения, все теперь представлялось в густо-черном свете, как раньше в светло-розовом, он все преувеличивал и считал себя глубоко и непоправимо несчастным, чуть не конченным человеком в восемнадцать лет.
Ему казалось, что на шахте все сейчас только и думают, что о его позоре, что теперь всегда и везде будут встречать его смехом и свистом, что он навеки заклеймен печатью "сборной команды", что даже ребята, и те уже брезгливо отвернулись от него, не хотят водить с ним компанию. Он забыл, что сам же первый убежал от них после собрания и нарочно пришел в общежитие, когда все уже спали. Только Андрей и Светличный тревожно ждали его. Но и от них он торопливо отделался пустыми словами, юркнул в постель.
А уснуть не мог. Он, видно, простудился в этот вечер, когда без цели и смысла бродил под дождем по поселку. Утром он не смог пойти на октябрьскую демонстрацию.
Он лежал один в пустынном общежитии и думал о своей судьбе.
Сквозь стекла струился тощий осенний свет. Косо падал дождь над шахтой. За окном виднелся копер, звезда над ним не горела. Только тонкая ленточка бледно-желтого дыма развевалась над кочегаркой, как знамя.
Раньше Виктор всегда нетерпеливо ждал октябрьских дней. Заранее сговаривался с товарищами: всем выйти в юнгштурмовках. Это придавало мальчикам воинский вид. Туго затягивали они ремни и портупеи. Девчонок беспощадно гнали в хвост колонны. Мальчики сурово смыкали ряды. Тревожно бил барабан. "Ма-арш!" – звонким, срывающимся, ликующим голосом кричал секретарь ячейки и вел ребят на площадь, как на баррикаду.
Их ячейка считалась самой голосистой в городе. Комсомолец-учитель, недавно приехавший из Москвы, научил ребят песням, никому в Чибиряках не известным. Они пели "Бандьера росса" по-итальянски и "Красный Веддинг" по-немецки и гордились, что знают эти песни. Все детство и юность Виктора прошли под знаком песен борьбы, подполья и баррикад. Эти песни учили его жить, чувствовать, думать. И он знал уже, что вся-то наша жизнь есть борьба, и чуял, как веют над ним вихри враждебные, и готов был стоять насмерть под натиском пьяных наемных солдат и понимал, что иного нет у нас пути, в руках у нас – винтовка; а остановка, отдых, покой – только в Мировой Коммуне.








