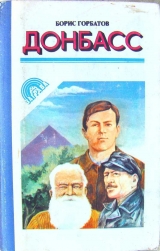
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
– Ничего, ничего! – засмеялся Рудин. – Уголек – не чернила. Чернилами я действительно мазаться не люблю. А уголек – святое дело!
Сквозь толпу к Рудину пробирался бригадир бутчиков Карнаухов. Про него на шахте говорили, что его хлебом не корми, дай только постоять подле начальства.
– Золотые твои слова, товарищ Семен! – запел он. – То есть в самую точку! Угольком не замараешься. Я так скажу: шахтер – самый чистый человек на земле, он каждый день в бане моется.
– Верно! – подхватил Рудин. – А мы, начальники, только тогда в "баню" и попадаем, когда нас в центр вызовут холку мылить! Ну, а у вас как дела, как добыча?
– А что дела! Жаловаться не приходится! – за всех ответил Карнаухов своим сладким, старческим тенорком; в детстве он певал на клиросе. – План, слава богу, выполняем, на все, как говорится, на сто…
– Жаловаться не приходится, да и хвастаться нечем! – усмехаясь, перебил его высокий, хмурый шахтер, стоявший прямо перед Рудиным.
– А что? А что? – взъерепенился Карнаухов. – Ты выполнением плана недоволен, товарищ Закорлюка?
– План! Да какой же это план? Перед соседями стыдно!.. Вот на "Софии" смеются над нашим планом…
– А-а! План тебе маловат? Тебе больше надо?
– Да мне что? – передернул плечами Закорлюка. – Отвяжись ты от меня, сделай милость! – сказал он, отодвигаясь от Карнаухова.
– Ему больше всего надо, он жених! – злорадно выкрикнул откуда-то из толпы Макивчук. – У них с Катькой свой Госплан…
– Нам всем больше надо! – строго сказал старик Треухов. – Не на хозяина работаем. Правильно, Закорлюка! Говори все.
– Да что, товарищ секретарь, – вмешался вдруг Митя Закорко, смело поблескивая глазами, – если правду сказать: вполсилы мы работаем. То воздуха нет, то порожняка пол-упряжки ждем…
– С порожняком оттого причина, что путя у нас плохие, – сказал кто-то, судя по кнуту на плече – коногон. – Путя давно бы почистить надо…
– Грязи много, верно!
– А с воздухом отчего? – спросил Митя.
– А с лесом? Неужели в России леса мало? – крикнул кто-то и засмеялся. И все засмеялись вокруг.
– Болезней у нас много, товарищ секретарь! Беда – доктора нет.
– Постойте. Дайте мне слово сказать, – вдруг негромко произнес коренастый шахтер, до тех пор молча и солидно стоявший чуть-чуть в стороне.
Его голос услышали.
– Говори, говори, Очеретин! – зашумели вокруг.
Это и в самом деле был Сережка Очеретин. Но трудно было узнать в этом солидном, уважаемом, даже чуть-чуть раздобревшем шахтере прежнего Сережку-моргуна. Правда, он и теперь нет-нет да подмигивал левым глазом бессознательно, по привычке, но это был уже совсем другой человек. Настя прочно женила его на себе, и он стал образцовым семьянином, жены побаивался, а новым домом гордился. Каждую получку они под руку с Настей ходили в магазин, чаще прицениваться, чем покупать. У них в новой квартире уже все было для тихого семейного счастья: хорошая кровать с горою подушек, славянский шкаф с зеркалом, дубовый буфет, патефон с пластинками, велосипед, радио… Теперь Очеретин подумывал о пианино. "Дети вырастут, учиться будут!" Детям, Любке и Наде, близнецам, было сейчас по два года.
Про Очеретина злые языки говорили, что он жадничает, старается в забое только ради денег. Но это была неправда. Не меньше денег нужен был ему и почет. Он привык к нему. Без почета теперь он не смог бы ни жить, ни работать. С тех самых пор как впервые увидел он свое имя – С. И. Очеретин – на красной доске у проходных ворот, он лишился покоя. Сперва он боялся, что записали его на доску "по ошибке" – ошибка выяснится, и его имя с доски сотрут, потом стал бояться, что другие забойщики перегонят его в работе, а он отстанет, и имя его опять же сотрут с доски. Он и теперь еще каждый день, приходя на шахту, поглядывал: висит ли еще его портрет. Дома, на буфете, на Настиных кружевных дорожках лежал пухлый плюшевый альбом с вырезками из газет и журналов и с портретами знатного забойщика шахты "Крутая Мария" С. И. Очеретина. Нет, не только ради денег старался в забое Очеретин. Научился он и на собраниях выступать. Умел с достоинством сидеть в президиуме. Ездил на слеты ударников. Только подмигивать он не отучился, хотя Настя за это его поедом ела. Ей все казалось, что это он девчатам подмигивает из президиума.
– Ну, слушаю вас, товарищ Очеретин! – ласково сказал Рудин, всем корпусом поворачиваясь к нему.
Очеретин откашлялся и начал:
– Правильно люди говорят, товарищ секретарь, про воздух, про лес, про порожняк. Вы на это обратите ваше внимание.
– Хорошо! – улыбнулся Рудин. – Учтем. Обязательно.
– Но про главное никто не сказал, – невозмутимо продолжал Очеретин. – Про главное. Про то, что у нас на "Крутой Марии" забойщику ходу нету!
Он остановился. Все вокруг внимательно слушали.
– Ты что это имеешь в виду? – не выдержав паузы, беспокойно спросил Карнаухов.
– А то я имею в виду, – сказал Очеретин, – что устарела наша система добычи. Устарела и портит нам кровь. Какая у нас система выемки угля? Короткими уступами. Так? Вот какая система.
– А как бы ты хотел, голубь? – насмешливо спросил Карнаухов. – Долинами?
– А я б хотел, – с достоинством ответил Очеретин, – чтоб забойщику простор был. Я против уступов не спорю. Не отрицаю я уступов. Но, обратите внимание, какая же может быть добыча у забойщика, если малый уступ? Да мне повернуться там негде, не то что… Вот спросите забойщиков: правильно ли я говорю…
Андрей и Светличный переглянулись.
– Нет, ты слушай, слушай! – прошептал Светличный. – Ай да Сережка-моргун!
"Значит, не мы одни про это мечтаем!" – радостно подумал Андрей и крикнул:
– Верно, Сережа!
– Всякий скажет, что верно! – спокойно закончил Очеретин. – Дай нам уступы длинные – в два раза больше угля дадим.
– В десять раз! – раздался вдруг звонкий, сильный голос.
Это сказал Виктор. Он стоял у окошечка.
– В десять? – переспросил Рудин. – А ну-ну, послушаем!
– Да, в десять! – возбужденно повторил Виктор. – Я слово зря на ветер не брошу. Тут Серега Очеретин говорил: дайте мне длинный уступ, я в два раза больше угля дам… Так? А я говорю, – тряхнул он головой, – дайте мне всю лаву, я один ее за смену пройду!
– Один? – ахнул Очеретин, изумленно глядя на Виктора.
– Да, один! – гордо повторил Виктор. В эту минуту он был способен на все.
Старик Карнаухов повернулся в его сторону и участливо спросил:
– А ты, голубь, трохи… не того? – и он постучал пальцем по лбу. – А?
– Того, того! – злобно подхватил Макивчук. – Рятуйте его, добрые люди, окончательно парень с глузду съехал от великой гордости!
Нарядная грохнула могучим шахтерским хохотом.
– Ай да Виктор! Высказался!
– Так он же Илья Муромец, богатырь, чи вы этого, хлопцы, не знали?
– Артист!
– Иван Поддубный!
– Иди в цирк, Виктор, большие деньги огребешь! – неслось из всех углов.
Наступил как раз тот момент, когда нарядная внезапно превращается в театр. А Виктор стоял, как провалившийся, но гордый актер, и только глаза его из-под шахтерской шляпы пылали желтым пламенем.
– Надо выручать Витьку! – прошептал Светличный и крикнул – Да дайте ж человеку до конца сказать!
Его голос услышал Рудин.
– Правильно! – снисходительно сказал он. – Пусть товарищ окончит свою мысль.
Все поутихли.
– Я говорю: в десять раз можно больше угля дать! – презрительно улыбаясь, сказал Виктор. – А мне не верите, спросите Андрея Воронька. У него и план есть.
– А-а, и Андрей!.. – удивленно пронеслось по нарядной. Андрея на шахте знали. Андрей был осторожный, вдумчивый, молчаливый человек.
– Просим товарища Воронька! – сказал Петр Филиппович Кандыбин.
Андрей, смущаясь, выступил вперед, в центр круга.
– Собственно, – запинаясь, сказал он, обращаясь главным образом к Рудину, – дело еще не проверенное. Но мысль есть. Правильно сказал Очеретин: вполсилы работаем. Называемся забойщиками, а много ли мы отбойным молотком работаем? Часа три в смену, не больше. А остальное время чего только не делаем! И лес тащим, и крепим, и убираем, – а молоток лежит, угледобычи нету. Оттого и заработки у нас небольшие. То есть обыкновенные… Как ни старайся – больше полторы нормы не дашь.
– Ох, верно! – громко вздохнул кто-то. В нарядной было тихо, этот вздох услышали. Услышал его и Андрей. Ему стало легче говорить. Тут же заметил он, как сквозь толпу осторожно, стараясь не шуметь, продирается запоздавший на наряд Нечаенко и издали улыбается ему. И Андрей в ответ тоже улыбнулся ему и уже с большей уверенностью стал продолжать свою неожиданную речь: – Вот мы и предлагаем лаву спрямить, уступы ликвидировать и дать всю лаву забойщику. Пусть он в полную силу рубает, а за ним крепильщики пускай крепят…
– То есть как это? – недоуменно перебил его старик Кандыбин. – Забойщицкую крепь препоручить крепильщикам. Так, что ль?
– Да. А отчего ж? – ответил Андрей. – Разделение труда.
– А заработок как же? Пополам али как?
– Почему ж пополам? Как же это можно забойщика равнять с крепильщиком? – обиженно сказал Сережка Очеретин. – Никак это невозможно!
– И я про то ж, что нельзя! – обиделся и Кандыбин. – Крепильщик – это, брат, первая квалификация в шахте!
– Это кто ж вам сказал такое, дедушка?
– Да постойте вы с заработками! – с досадой вскричал Митя Закорко. – Что у вас все про одно? Тут, может, человек хорошее дело для шахты предлагает, а вы "заработки"! – и тотчас же нетерпеливо обратился к Андрею: – Ты практически расскажи, Андрей, как ты это дело мыслишь. Не тяни!
Его поддержало несколько голосов:
– Поподробнее просим!
– Как-то непонятно нам…
– Больно мысль твоя, Андрей, удивительная. Ты ясней скажи!
Но Кандыбин с сомнением покачал головой.
– Э, что-то ты не то говоришь, Андрюша! – сказал он, страдальчески сморщившись, словно жалея молодого, горячего парня и сокрушаясь, что приходится его урезонивать. – Против смысла говоришь. Всю жизнь мы тут на шахте толчемся, а такого не слыхивали, чтоб крепильщик, например, забойщицкую крепь крепил…
– Так это ж одна его фантазия! – раздался резкий, насмешливый голос откуда-то от стены. – Ты б еще про синего зайца рассказал, Андрюша! – И там, у стены, засмеялись.
Но насмешки, сопротивление, отпор действовали на Андрея не так, как они обычно действуют на робкие души. Никогда они не обезоруживали его, а делали еще упрямей. И сейчас он только глубже втянул голову в плечи, словно сжался весь перед прыжком и приготовился к бою.
– Вы о заработках не беспокойтесь, дедушка Кандыбин! – сказал он. – Наш шахтерский заработок, он от угля идет. Сколько угля дадим, столько и заработаем. Так?
– Это справедливо! – согласился Кандыбин.
– Верно, верно, Андрей! – крикнул Светличный. – Ты расскажи людям, сколько угля можно дать.
– Вот и подсчитаем, – ободренный этим возгласом, продолжал Андрей. – Сейчас забойщик сколько угля рубает один? Ну, десять, ну, от силы двенадцать тонн. Верно? А тогда, на пару с крепильщиком, он и пятьдесят, а то и семьдесят тонн даст…
– Сколько?! – ахнули вокруг него.
– Семьдесят! – твердо повторил Андрей и посмотрел на Рудина. Но тот в это время о чем-то тихо говорил с Дедом. До Андрея донеслось:
– Балуются ребятки! – и он понял, что это о нем и о его предложении сказал Дед.
– Семьдесят? – даже побледнев от волнения, пролепетал Сережка Очеретин. – Ты как это, ты всерьез? Всерьез?
– А я так думаю, что и все сто можно взять! – возбужденно выкрикнул Виктор.
– А может, мильон? – спросил Карнаухов. – Ты уж прямо мильонами считай, парень, чего сотнями пачкаться-то…
– Ох, и фантазер народ пошел! – покачал головой Кандыбин.
– Та я ж вам говорю, хлопцы, это ж сказка про синего зайца! – донесся тот же насмешливый голос от стены, и там опять засмеялись.
Но тут раздался новый и властный голос:
– А вы, чем смеяться зря, прежде выслушали б! – и Нечаенко вступил, наконец, в круг, где стояли Андрей, Рудин и Дед. – Выслушали б, а потом и обсудили бы… – прибавил Нечаенко уже спокойно и подошел к Рудину поздороваться.
– Интересный у вас народ на "Марии", – улыбаясь, сказал ему Рудии. – Спорят, шумят, волнуются. А главное – думают! Вот что ценно! – Он вдруг посмотрел на часы и забеспокоился. – Эх, а я еще на "Софию" хотел успеть… Как фамилия этого паренька? – указал он на Андрея.
– Андрей Воронько.
– А-а! Спасибо… – Рудин сделал шаг вперед, и все вокруг сразу стихли, поняв, что он хочет говорить. – Вот что, товарищ Воронько! – ласково сказал Рудин, кладя руку парню на плечо. – С большим интересом слушал я твое предложение. И всех вас тоже с интересом слушал, товарищи! – обратился он уже ко всем. – Хорошо, что вы об угле думаете. О том, как бы его побольше взять, как бы побольше уголька дать нашему родному государству. Хорошо! Это святые мысли! Ваша шахта у нас передовая в районе. И народ у вас передовой. Хороший народ! Сознательный. Так что я вас агитировать не буду, – улыбнулся он. – А просто пожелаю не успокаиваться на достигнутом, а давать родине побольше донецкого уголька! А меня уж извините, придется мне сейчас к вашим соседям заехать. Боюсь, там у нас совсем другой разговор будет! – засмеялся он и шутливо крикнул сразу же: – Хоть бы вы, ребята, за своих соседей взялись! Пристыдили бы их по-шахтерски, по-соседски. Или на буксир взяли.
– А мы не против! – охотно подхватил Карнаухов.
– Вот-вот. Возьмите на буксир, большое дело сделаете! – сказал Рудин, помахал на прощание кепкой, которую все время держал в руке и почти не надевал никогда, и пошел к выходу. Шахтеры дружелюбно расступились перед ним.
– А как же… – растерянно пробормотал Андрей, но тотчас же сам остановился.
– Кончай митинг, товарищи! – зычно, на всю нарядную крикнул Дед. – Делай свое дело – да в шахту!
Шахтеры стали расходиться по бригадам. За окном рявкнула автомобильная сирена, было слышно, как тронулась машина, стуча стареньким мотором. Это уехал Рудин.
К Андрею, продолжавшему одиноко стоять посреди зала, подошли Светличный и Виктор.
И тотчас же вернулся Нечаенко, провожавший Рудина.
– Ну, вот! Дело и заварилось! – весело воскликнул он. – Обнародовали вашу идею, ребята. Теперь обсудим. А там…
– А отчего товарищ Рудин ничего не сказал?.. – запинаясь, спросил Андрей.
– А как же он мог сразу, тут же и высказаться? Такие дела, брат, скондачка не решаются! Придется еще и еще обсудить. Товарища Журавлева в это дело втянем… Вот… – возбужденно потирая руки, сказал Нечаенко. – Может, кое с кем придется и поспорить и подраться даже. Ничего-о!.. Только вы уж теперь не отступайте, ребята, – предупредил он.
– Мы не отступим! – тихо сказал Андрей. – Я, если что… я Сталину напишу!
15
Был такой случай в истории шахты «Крутая Мария»: у нее украли… гудок.
Случилось это давно, в 1921 году. С превеликим трудом восстанавливали тогда шахтеры "Марии" свою родную шахту, назначили уж и утро пуска, а за день до торжества хватились и выяснили: гудка нет. Шахта стала безголосой.
Сначала в кражу даже не поверили. Ну кому нужен свисток? Кто и зачем полезет ради него на трубу? Решили, что его просто сбило ветром. Надо ставить другой.
Но к вечеру выяснилось: гудок действительно украли. И украли его мальчишки с "Софии", украли из хулиганства, из шахтерского озорства, из коногонского молодечества и с торжеством принесли к себе на "Софию" и вручили старикам: вот, мол, какие на "Крутой Марин" ротозеи, свой гудок прозевали.
Узнав об этом, директор "Крутой Марии" пришел в ярость: он требовал, чтоб немедленно была поднята на ноги милиция, озорники арестованы, а гудок возвращен хозяевам. Инженер-технорук, пожимая плечами, сказал, что вся эта история выеденного яйца не стоит: поставим новый – и все!
Но старики-шахтеры только печально покачали головами.
– Э, нет! – говорили они. – Новый гудок – не старый! Не спорим: может, новый и лучше будет, и чище, и на звук приятнее. Да только будет он нам чужой. А мы к своему привыкли. Мы его, хрипушу нашего, бывало, поутру из всех гудков в окрестности отличим. Чужой гудок тебя и не разбудит, а свой запоет – сразу как молодой вскинешься…
– Мы ведь о чем мечтали? – прибавил от себя дядя Онисим, тогда еще не комендант общежития, а крепильщик. – Мы ведь о том мечтали, когда шахту восстанавливали, что вот придет-таки одно прекрасное утро и запоет наша кормилица на весь мир, как и раньше. А теперь – как же? Торжество, а "Крутая Мария" гудит не своим голосом! Обидно будет… И не узнают люди, что это именно "Крутая Мария" ожила…
– Я ж говорю, – вскипел директор, – надо милицию на ноги поднять.
– Э, нет! – опять не согласились старики. – И так не можно. Позвольте-ка нам самим дело уладить по-своему, по-шахтерски…
И они поступили по-своему. Тем же вечером старики (а были среди них люди и сорока лет, не старше; но "стариками" на шахтах зовут не тех, кто долго жил на земле, а тех, кто много лет протрубил под землей) надели свои парадные костюмы – самое лучшее, что у каждого в сундуках было: люстриновые "тройки", в которых еще под венец шли, тугие крахмальные воротнички или вышитые нежными узорами рубахи под пиджак навыпуск, а те, кто воевал, – аккуратные трофейные френчи с алым партизанским бантом над левым карманом; а сторож инвалид Мокеич даже георгиевский крест нацепил и ни за что не согласился снять этот старорежимный знак, объясняя, что добыл его кровью, – и торжественной процессией отправились на "Софию": кланяться соседям, просить обратно гудок, выкупать его несколькими ведрами самогона.
И ранним утром следующего дня загудел, раскатился над озябшей степью старый гудок "Марии" и поплыл над холмами, над туманами, над влажными от росы крышами, никого не разбудив, – ибо все ждали его и не спали, – и всех обрадовав. И, заслышав знакомый голос "Крутой Марии", со всех концов поселка побежали к шахте люди, счастливые и гордые. Стали собираться у ствола. Долго, хрипло и недружно, но от всей души кричали "ура". И бросали в ствол шапки и рукавицы.
А гудок все плыл и плыл над степью…
И старики крестились на звук гудка, как на звон церковного колокола, крестились не потому, что верили в бога, а потому, что не знали, как иначе выразить свои чувства. А шахтерские жены высоко поднимали ребятишек над головой и шептали им:
– Слушай, сынок, слушай!.. Это наша "Мария" гудит. Теперь хлебушко будет!..
Эту историю рассказал нашим ребятам все тот же неиссякаемый дядя Онисим, и теперь она вдруг припомнилась Федору Светличному, когда после всего, что случилось на наряде, поехал он в шахту, припомнилась неизвестно почему и в какой связи. А вспомнив, он уж невольно улыбнулся, тепло и растроганно, как улыбался и слушая рассказ дяди Онисима. И опять без всякой связи подумал: "А повезло мне, что я именно на "Крутую Марию" приехал и именно теперь!"
Казалось, разговор на наряде кончился ничем: пошумели, посмеялись и разошлись. И идее рекорда, так бессвязно и наспех изложенной Андреем в галдеже нарядной и не поддержанной никем, только и оставалось, что бесславно и тихо, без следа дотлеть, как полуобгоревшей спичке, небрежно брошенной на сырую землю. Но так только казалось. И Федор Светличный видел это лучше всех.
В этот день он, заменяя хворавшего Прокопа Максимовича, встречался со множеством людей, и все они, кто невзначай, а кто и прямо, заговаривали с ним о том, что произошло в нарядной. Никогда еще не видел Светличный "Крутую Марию" в таком волнении. Семьдесят, семьдесят тонн – эта цифра, смело брошенная Андреем, стояла у каждого перед глазами. Никакая самая зажигательная речь не могла бы вызвать такого смятения сердец, как эта простая цифра: 70. Семьдесят тонн может дать в смену забойщик, тогда как сейчас дает десять! И об этих цифрах только и думали люди, тяжко ворочаясь в своих карликовых уступах, показавшихся им теперь еще теснее, чем прежде, и каждый уже примеривал – с руки ль ему это дело, возможно ль оно, и кто – верил, кто – сомневался, кто – посмеивался и даже злился, но беспокоились все. И одни видели в этом славу родной шахте, другие размечтались о славе для себя, третьи лихорадочно прикидывали, сколько ж в таком случае сможет заработать забойщик. Парни пограмотней подсчитывали, сколько угля даст вся шахта, если метод Андрея окажется дельным, – цифры получались грандиозные, от них голова шла кругом. А нашлись и такие, которые во всей этой шумной, беспокойной затее только одно тревожно увидели: теперь вместо десяти забойщиков в лаве останутся один-два. И мне, стало быть, придется уходить с "Крутой Марии". А я тут обжился, привык. И огород у меня и вишенье в садике, около хаты. И старый, хриплый гудок "Крутой Марии" слаще для меня любых, самых заливистых новых гудков. Куда ж мне теперь от всего этого уходить с семьею?
В этот день десятник Макивчук специально приполз в уступ к Виктору поговорить.
– Бедовый ты парень, Виктор! – льстиво сказал он молодому забойщику. – Не сносить тебе головы!
– Ладно, ладно… – пробурчал Виктор. – Пугай робкого…
– Весь народ на вас с Андрюшкой озлился…
– Уж и весь?
– Весь! Как один! Обижаются люди: что, мол, эти двое – умней всех хотят быть, больше всех им надо? Остерегаю я тебя, Витька, потому что люблю… Неровен час… и пришьют. В шахте темных углов много.
– Ладно, не каркай!..
– Унялись бы вы, право.
– Тебе-то что?
– Мне? А мне ничего!.. – засмеялся Макивчук, но непонятной злобой заблестели его глаза. – Я любя говорю.
– Катись ты отсюда, петлюровская сволота? – вдруг рассвирепел Виктор. – А не то, – замахнулся он молотком, – раньше меня свою смерть найдешь.
– Ладно, ладно… – отползая прочь, пробормотал Макивчук. – Я по-хорошему. Андрюшку все-таки предупреди…
Но сам к Андрею в уступ лезть не рискнул.
Зато явился к Андрею совсем неожиданный гость – почти незнакомый ему забойщик Сухобоков, молчаливый шахтер, недавно появившийся на участке и вообще на шахте: он вернулся из армии, со сверхсрочной службы, люто затосковав по дому. Не поздоровавшись, он присел у стойки и стал молча глядеть, как крепит Андрей. Потом спросил:
– Свободная минутка найдется?
Андрей, не сказав ни слова, отложил топор в сторону и выжидательно посмотрел на Сухобокова. Тот ближе подполз к нему. Свет лампочки скупо освещал его худое строгое лицо, узкие, острые плечи и длинные, непомерно длинные руки.
– Агитации не надо, – предупредил Сухобоков. – Я грамотный. Практически расскажи, что ты предлагаешь. – И весь застыл, ожидая ответа.
А Митя Закорко, работавший на другом участке, на западе, перехватил Светличного уже на поверхности, у технической бани.
– Слушай! – сказал он. – Я тебя специально жду. У сторожихи спрашивал. Нет, говорит, еще не мылся.
– Вот как? – посмеиваясь, отозвался Светличный. – Зачем я тебе понадобился?
– Слушай! – нетерпеливо схватил его за руку Закорко. – Ты ж в курсе этого дела. Я ж чувствую. Я голову отрубить даю, что без тебя тут не обошлось.
– Ну, возможно…
– Так ты мне одно только скажи: фантазия это или возможный факт? Только одно скажи. С точки зрения техники, – умоляюще прошептал Митя. – Я тебя как друга прошу.
– Факт, – кратко ответил Светличный.
– Значит, будете осуществлять?
– Будем.
– А почему ж они? – ревниво вскричал Закорко. – Почему Андрей и Виктор? Почему ж именно им такое дело?
– А потому, что это их идея, это они сами придумали, – ответил Светличный. Но Митя взволнованно перебил его:
– Слушай, Федя! Ведь я ж здешний, коренной. Я ж с детских лет на этой шахте. И отца моего тут убили, так и не вытащили… Где-то там, может, и сейчас его косточки тлеют… Почему ж не я, а они? Нет, ты пойми, Федя, я ж тебя как старого друга прошу. Я ж теперь покоя навеки решился…
И Сережка Очеретин, придя с работы в свой новый, аккуратный домик, тоже чувствовал, что лишился покоя. Не радовали Настины цветистые дорожки на полу, и фикус в кадке, и свежая ветка пахучего тополя над зеркалом, и эта лютая чистота парадной комнаты, называвшейся по-местному "залою", где никто не жил, но куда с гордостью любил заглядывать Сережка, вернувшись из шахты, из пыльного забоя, и где принимал он гостей, соседей и приезжих, всегда в один голос хваливших Настю за аккуратность и домовитость, а хозяина – за шахтерскую хватку и хорошие заработки. Но сейчас не обрадовала Очеретина эта "зала" и гордости не было и не было даже обычного нетерпеливого аппетита, есть совсем не хотелось, хоть из кухни и доносились раздражающие ароматы: там Настя с ожесточением варила варенье на зиму и, заслышав, что муж пришел, немедленно выглянула, крикнула: "Сейчас, сейчас!" – и опять скрылась. А через минуту с торжеством пронесла куда-то мимо Сережки сладко дымящийся таз, вернулась и стала собирать на стол. И все это довольство, даже изобилие в собственном доме, казавшееся Очеретину особенно разительным и полным после стесненных лет житья на пайке, по карточкам, и вчера еще наполнявшее его добрым покоем и радостью, сейчас и не успокоило и не обрадовало его, как всегда, а даже почему-то еще больше встревожило, словно именно в них, в этих тазах и кадках, и была причина его сегодняшнего беспокойства.
"Семьдесят, семьдесят тонн! – думал он, шагая по дому, по двору, по садику и нигде не находя себе места. – Та невжели возможно? А как же я, выходит, в стороне от этого дела? Та невжели ж достигнут? А первый ударник Сергей Очеретин, значит, с доски долой?"
– Иди кушать, готово! – позвала Настя, и он неохотно пошел к столу, хмуро сел, рассеянно стал есть.
Глядя на его встревоженное лицо, испуганно притихла и Настя, но не посмела даже спросить хозяина, в чем дело. Она догадывалась, что думает он о шахте, значит на шахте что-то случилось.
Но и после обеда не вернулся к Сережке обычный покой. Помыкался по углам еще с часок, потом схватил кепку в кулак и выскочил на улицу.
– Ты куда? – ревниво крикнула ему вдогонку Настя, но он только с досадой махнул кепкой и побежал к ребятам в общежитие.
А там оказалось большое сборище. И весь вечер просидел Сережка в досиня накуренной комнате, слушал споры все о том же, о рекорде; сам спорил и под конец повеселел и немного успокоился.
Но, уходя, все же вызвал Светличного в коридор и стал шепотом просить, чтоб и его, Сергея Очеретина, от этого дела в стороне не оставляли, словно все это зависело от одного Светличного…
В этот вечер, как всегда, сошлись за семейным столом два брата Закорлюки – Закорлюка-старший, забойщик, и Закорлюка-мдадший, крепильщик. И старший Закорлюка, тот, что на наряде раздраженно говорил, что план шахты мал, перед соседями стыдно, стал выспрашивать младшего брата: пошел бы он с ним в паре работать, если б позволили осуществить то, что предложил на наряде Воронько. Что осуществить это вполне возможно, Закорлюка, старый, опытный забойщик, не сомневался ни минуты.
– Мы б вполне свободно управились! – убеждал он младшего брата. – Я б стал рубать, ты крепить… А? Можно и больше семидесяти тонн взять. Ты только прикинь в своем мозгу, ну? – И они беседовали так допоздна.
В эту ночь долго не мог уснуть Андрей Воронько. Он уже знал, что борьба будет яростная, и готовился к этой борьбе и знал, что отступления уже нет и что отступать он не будет… И совсем не спал в эту ночь Нечаенко. Верный своей привычке до всего доискиваться самому, он притащил к себе домой ворох книг, все, что нашел на шахте по горному делу: учебники, справочники, монографии, курсы лекций, и стал искать в них ответ. Разумеется, он ни слова, ни единого слова не нашел о методе, предложенном Андреем Воронько, но зато и возражений против этого метода не встретил и к утру вдруг окончательно уверился, что рекорд возможен, воодушевился и решил, что дело откладывать преступно, надо немедленно ехать в горком. Он понимал, что в одиночку ему с упрямым Дедом не справиться. Нужно найти сильного, властного, а главное – авторитетного в горном деле человека, который спокойно выслушал бы его, все взвесил и благословил!
Такого человека Нечаенко и надеялся найти в горкоме. Но Рудина он уже не застал – его вызвали в обком партии, зато встретил второго секретаря горкома Василия Сергеевича Журавлева, которому подробно и рассказал все.
16
Лицо человека в зрелом возрасте редко сохраняет ребячьи черты и изменяется до неузнаваемости, повторяясь потом только в детях. Но есть люди, которые и до седых волос остаются похожими на свои детские фотографии. Таким никогда не удается ни раздобреть, ни полысеть, ни надуться солидной спесью; как их ни корми, они все останутся тощими, какие чины им ни давай, они все будут в душе своей простодушными и застенчивыми ребятами. Такие люди почти всегда – хорошие люди.
Таким был и Василий Сергеевич Журавлев, второй секретарь горкома.
Я знал его много лет, и в последний раз видел совсем недавно – в 1950 году. Он не изменился, не постарел. Все тем же тихим, лучистым светом сияли его доверчивые глаза, даже когда он сердился или распекал кого-нибудь.
Есть у меня старая фотография времен 1922 года, фотография комсомольской ячейки шахты "Крутая Мария". Я люблю смотреть на нее. Я даже уже приметил, что историю любого моего современника надо теперь непременно начинать с его комсомольской юности: все начинали свою жизнь в комсомоле.
С простительным умилением смотрю я на эту фотографию: здесь все ребята мне знакомы. Вот они сидят или лежат на траве, в своих кожаных куртках, вихрастые, глазастые, бесшабашные – первые комсомольцы-шахтеры, отважно ходившие на бой с зеленобандитами в Гремячую Балку, в чоновский караул, на первый субботник, а затем на отчаянный приступ рабфаков и институтов – их они тоже брали с бою.
Я знаю историю каждого из этих ребят. Вот этот, в стареньком отцовском пиджачке, стал инженером, заведующим шахтой; этот, озорной, в расхлястанной, настежь распахнутой куртке без единой пуговицы, – генералом авиации; этот, в черной косоворотке, с откинутыми назад волосами, – профессором политэкономии; этот, сероглазый, – почетным шахтером; а этот, что в центре, вожак, с черными пламенными глазами, скрестивший руки на груди, – первым заместителем Председателя Совета Министров республики.
Иногда мы встречаемся: все здорово изменились, трудно узнать. И только один остался таким же, как на фотографии, – худеньким слесарьком с удивленными глазами: Вася Журавлев. Внешне он почти не меняется, не стареет, словно знает секрет вечной молодости. В тысяча девятьсот пятидесятом я нашел его почти таким же, каким оставил в тысяча девятьсот тридцать пятом.
Правда, теперь, в пятидесятом году, он, пристыженный женой и товарищами, надел наконец галстук и даже шляпу и очень быстро привык к ним, а тогда, в тридцать пятом, был он в кепке блином, в застегнутой до горла синей с белыми пуговицами косоворотке навыпуск, под пиджак, и в брюках, заправленных в сапоги. Но и тогда под кепкой, как и теперь под шляпой, в нем с первого же взгляда угадывался старый комсомольский работник, и не агитпроп, не политпросвет, а вечный экправ[4]4
Заведующий экономически-правовым отделом горкома или губкома.
[Закрыть], – то есть неугомонный защитник интересов рабочей молодежи, заступник «броне-подростков», организатор горнопромышленных училищ, постоянный представитель комсомолии в профсоюзе, деятель юношеской секции рабочего клуба – бич и язва хозяйственников, которые хоть и отмахивались от него, как от досадной мухи, а порой и гнали из своих кабинетов, но почти всегда уступали ему в его просьбах за молодых рабочих и по-своему любили его и уважали. Отказать ему было невозможно.








