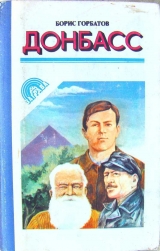
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Что у тебя? – тихо спросил он.
Андрей не сразу ответил. Его глаза, как всегда, когда он бывал непокоен, совсем сузились и потухли, они спрятались и прикрылись насупленными бровями – ничего нельзя было ни увидеть, ни тем более прочитать в них. Нечаенко не торопил с ответом.
– Николай Остапович! – наконец негромко сказал Андрей. – Я сейчас на "Красном партизане" был….
– Вот как? Зачем?
– А так… – словно нехотя отозвался Воронько.
– Ну и что ж там хорошего, на "Красном партизане"?
– Хорошего мало…
– Зачем же ходил?
Андрей опять не сразу ответил. Мял кепку в руке. Нечаенко осторожно следил за ним, еще не понимая причин его волнения.
– Сегодня Забара триста тонн вырубил… – не сказал, а скорее выдохнул Андрей.
– А-а, слышал! Ну и что же? – улыбнулся Нечаенко. – Обидно тебе?
– Почему обидно? – удивился Андрей.
– Ну, рекорд твой побит.
– А, это? Это пускай! – махнул он рукой.
– Так в чем же дело тогда? – сдержанно спросил Нечаенко. Он был терпелив. Да и по опыту знал, что Воронько торопить не следует.
– Я там с народом толковал, – сказал Андрей, – со знакомыми. С самим Забарой, правда, поговорить не пришлось. Его товарищ Рудин сразу с собой увез.
– Ну и что ж народ говорит?
– Разно…
– А все-таки?
– А что тут говорить? – пожал плечами Андрей. – Суточный план шахты – восемьсот. Ежедневно давали семьсот тридцать – семьсот семьдесят. А по случаю рекорда вместе с Забарой угля дали всего шестьсот. Рекорд есть, а угля нет! Как же это понимать, Николай Остапович? – спросил он и, впервые за всю беседу, поднял на Нечаенко глаза, – неожиданно большие и странно-печальные.
– А этого я и сам не понимаю… – смущенный не столько вопросом, сколько взглядом этих огромных глаз, пробормотал Нечаенко.
– Вся шахта на этот рекорд работала, – волнуясь, продолжал Воронько. – Один участок вовсе угля не качал: порожняка не было. Все под Забару отдали. Там, говорят, такое делалось! – он махнул кепкой в кулаке. – Я людей спрашивал: как же вы допустили? А они только в затылке чешут: товарищ Рудин, мол, приказал, чтоб было триста, хоть сдохни! – и он опять посмотрел на Нечаенко.
Но теперь Нечаенко промолчал, и Андрей, не дождавшись ответа, стал рассказывать дальше.
– Теперь товарищ Рудин требует, чтоб было пятьсот. На митинге тут же и сказал. Я сам слышал. Очень Забару хвалил, а нас срамил. Хваленая, говорит, "Мария" теперь у вас далеко в хвосте.
– А тебе, что ж, за "Крутую Марию" обидно?
– Зачем? Мне за их шахту обидно. Совсем шахту загубят. – Он помолчал немного, потом вдруг воскликнул, весь подаваясь вперед, к Нечаенко. – Николай Остапович! Что же это товарищ Рудин делает, а? – его голос задрожал. – Соревнование у нас или цирк? Как петухов стравливает… Разве ж это правильно?
– Неправильно… – не глядя на него, тусклым голосом ответил Нечаенко.
– Так что ж делать, а, Николай Остапович?
Нечаенко ответил не сразу.
– Ты говорил об этом с парторгом на "Красном партизане"? – наконец тихо спросил он.
– Нет.
– Почему?
– Я ему человек неизвестный… Еще скажут: зачем в чужие дела мешаешься? Знай, мол, свою шахту.
– Да кто же тебе такое может сказать?!
Андрей промолчал.
– Нет, мы будем вмешиваться в чужие дела! – сказал Нечаенко. – Для нас чужих дел нету.
– Так ведь товарищ Рудин!..
– Ну и что ж, что Рудин? А если б я, парторг ЦК, творил безобразия, ты, что же, молчал бы? Молчал?
– Нет… – чуть слышно прошептал Андрей.
– И правильно! И я не смею молчать!.. А если надо, так и в обком партии и в ЦК напишем!.. – он вдруг встал, быстро подошел к несгораемому шкафу, что-то взял там, вернулся и протянул Андрею какую-то бумагу.
– Читай! – приказал он.
– Что это?
– Телеграмма товарища Орджоникидзе. Сегодня получили. Читай вслух.
Андрей стал читать, но на первых же словах запнулся. В начале телеграммы перечислялись имена зачинателей нового движения. Это было и радостно и немного жутко читать… "Значит, товарищ Серго знает про нас? Знает?"
– Дальше читай! – сказал Нечаенко.
Андрей стал читать дальше:
– "Это замечательное движение героев угольного Донбасса, большевиков партийных и непартийных, – новое блестящее доказательство, какими огромными возможностями мы располагаем и как отстали от жизни те горе-руководители, которые только и ищут объективных причин для оправдания своей плохой работы, плохого руководства.
Теперь весь вопрос о том, чтобы… организовать работу по добыче угля и поднять на новую высоту производительность труда во всем Донбассе и во всех угольных бассейнах. Работа этих товарищей опрокидывает все старые представления о нормах выработки забойщика. Нет сомнения, что их примеру последуют машинисты врубовых машин и электровозов, а также навальщики и коногоны, а инженерно-технический персонал возглавит и организует это дело.
Надо сейчас же взяться за организацию откатки и подготовительных работ, чтобы это не сорвало работу забойщиков. Я не скрою, что сильно опасаюсь, что это движение встретит со стороны некоторых отсталых руководителей обывательский скептицизм, что на деле будет означать саботаж. Таких горе-руководителей немедленно надо отстранять".
– Слышишь? – крикнул Нечаенко. – Ну, что теперь скажешь?
– Тут товарищ Серго об откатке предупреждает нас, – сказал, морща лоб. Андрей. – Сколько раз уж мы про эту откатку говорили, Николай Остапович! – прибавил он с упреком.
– Он не только об откатке нас предупреждает. Понял ты слова об обывательском скептицизме? Что такое "скептик", знаешь?
– Ну… это, которые – маловеры. Так, что ли?
– Да-а… – засмеялся Нечаенко. – Всякие бывают! Бывают даже скептики-энтузиасты. Вернее, прикидывающиеся энтузиастами. Вот мы на скептиков в бой и пойдем. Так, что ли, Андрей?..
Только через час Андрей ушел от Нечаенко. В поселке было уже совсем темно: погасли огни в окнах; луна схоронилась за тучами; собирался дождь, но собирался как-то нерешительно, нехотя, задумчиво.
И ветра не было для того, чтоб вытрясти из туч влагу на землю либо вовсе тучи разогнать и очистить небо.
Андрей пошел домой. Шел он не торопясь. Надо было подумать, медленно и спокойно перетереть события дня, а их было много. Вот телеграмма Серго… Андрей больше всего о ней думал. "Значит, там подробно знают о наших делах, о каждом из нас знают… И если я завтра выступлю на партийном собрании против Рудина – там тоже узнают. А если смолчу? – вдруг спросил он себя. – Рудин уж, небось, отрапортовал о рекорде Забары. И обманул товарища Серго. Как же молчать? Но почему я должен выступать? Я ж свое сделал – довел до Нечаенко… Да и на "Красном партизане" свои коммунисты есть, они тоже молчать не будут". Но он уже чувствовал, как легла на его душу ответственность за соседнюю шахту, и знал, что, рассказав обо всем Нечаенко, он не сложил той ответственности с себя, а только признал, что она есть и что он сам это понимает…
Думал Андрей об этом и на следующий день. А за час до собрания чуть было не поссорился с Виктором.
В общежитие принесли сегодняшний номер районной газеты. Виктор нетерпеливо схватил его – теперь он газету читал жадно, – прочел и скривился.
– Вот полюбуйся! – крикнул он Андрею. – Мудрите вы все с Нечаенко… А нам вже ворота дегтем мажут.
– Покажи, что там? – тихо попросил Андрей. Он брился у зеркальца.
Виктор швырнул ему развернутую газету. Сразу бросился в глаза большой заголовок: "Мировой рекорд Забары!" Дальше можно было не читать. Андрей стал спокойно намыливать щеку.
Но его спокойствие только пуще взбесило Виктора.
– Так вот не буду ж я больше молчать! – бешено закричал он. – Отчего вы мне условий не даете? Та я б… Вот сегодня прямо все и скажу на собрании.
– И неправильно сделаешь!
– А мне плевать, правильно или нет. Я передовик, я должен свою марку поддерживать. Раз вы за шахту не болеете…
– Нет, мы болеем за шахту.
– Та где же болеете? – зло захохотал Виктор. – Допускаете, чтоб соседи над нами смеялись.
– А может, соседи не смеются, а плачут от этого рекорда? Ты почем знаешь?
– Что? – удивился Виктор. – С чего бы им плакать? – потом посмотрел на товарища – тот продолжал все так же невозмутимо бриться – и печально махнул рукой. – Не пойму я тебя, Андрей!
Он действительно не понимал приятеля. Ему казалось, что Андрей – все тот же, прежний Андрей, как и все тот же, прежний Виктор. А они оба были уже не те парни, что месяц назад. Про Андрея можно было сказать, что он растет "не по дням, а по часам". Многое уже переменилось в нем, иное еще только менялось. Но этот рост шел естественно и непрерывно, и сам Андрей его не замечал, как юноша не замечает того, что он еще на два вершка вытянулся, а в голосе появились новые, мужские нотки.
Андрей окончил бриться и пошел умываться. Он всегда собирался на партийное собрание, как на праздник, как раньше на комсомольское собрание, а еще раньше – на пионерский сбор. Может быть, с пионерского сбора это и повелось?
Сейчас, после разговора с Виктором, Андрей твердо решил, что выступит на собрании…
На собрание неожиданно приехал Рудин. Андрей видел, как появился он в президиуме, когда Нечаенко уже заканчивал свой доклад. "Ну что ж! – нахмурив брови, подумал Андрей. – Все равно".
Нечаенко сделал хороший доклад; прения обещали быть оживленными. Первым выступил Прокоп Максимович Лесняк. Чуть раскачиваясь всем своим большим и грузным телом на маленькой для него, утлой и скрипучей трибуне, он доложил собранию, что его участок – весь – переходит на стахановский метод. А для этого, по зрелому, хозяйскому размышлению, решено покончить с карликовыми уступами, вместо восьми оставить только четыре и везде ввести разделение труда. А чтоб нигде и ни в чем задержки не было, коноголов и лесогонов тоже перевести на индивидуально-прогрессивную сдельщину.
– А как же? – сказал он. – У каждого человека свой интерес должен быть. А лесогоны, что ж они, разве не человеки?
Все, что предлагал сейчас Прокоп Максимович, было обдумано им совместно с Андреем, обсуждалось и партийной группой участка и шахтпарткомом. Сейчас, слушая старика, Андрей только молча и согласно кивал головой.
– А с производительностью как будет? – вдруг перебил Лесняка Рудин. – Вот Забара уже триста тонн дал. Слышали?
– Слушок есть… – сдержанно ответил Прокоп Максимович.
– По секрету вам скажу: этот слушок верный! – засмеялся Рудин. – Ну, а вы что же?
– Обещаем удвоить добычу на участке.
– На участке? – переспросил Рудин. – Ну-ну, подождем, посмотрим.
Он был в приподнятом, радостном настроении, это все заметили. Все время добродушно улыбался, шутил, перебивая ораторов веселыми репликами, вопросами, и, увлекаясь, говорил много и долго. Есть люди, для которых процесс говорения есть самый активный, самый творческий процесс их жизни. Они верят во всемогущество слова, даже когда за ним нет ни дел, ни поступков. Для них произнесенная речь уже и есть дело. Таким был и Рудин. Он умел и любил говорить. Он говорил непременно громко, веско и вкусно, будто не слова произносил, а рубли чеканил. Он тщательно выговаривал каждую букву в слове и, видно, сам наслаждался музыкой своих речей. А оратор, которого он перебил, в это время тоскливо маялся на трибуне, неловко улыбался, не зная, что делать, и ждал, пока Рудин выговорится.
Наконец слово дали Андрею Воронько. Он быстро, как-то нетерпеливо даже, поднялся с места и торопливой, не своею походкой пошел через зал, – значит, нервничал. Рудин приветливо, как знакомому, улыбнулся ему, а потом наклонился к Нечаенко и стал что-то шептать. Нечаенко вежливо слушал, а сам тревожно косился на Воронько. Он был непокоен за него. Как-то он выступит? Станет ли говорить о "рекорде" Забары? Затронет ли Рудина? Нечаенко давно чувствовал, как в нем самом зреет недовольство секретарем горкома. Он уже понимал, что рано или поздно столкнется с ним. Но на чем? Пока фактов было немного для настоящего боя. А личные симпатии или антипатии к делу не идут.
Странно, что, взойдя, почти взбежав на трибуну и увидев перед собою зал, Андрей вдруг успокоился. В зале сидели его товарищи. Он знал каждого из них. Он увидел, как улыбается ему дядя Прокоп. Заметил в первом ряду Ланцова, того самого, что говорил: "Коняге теперь за забойщиком не угнаться". На президиум Андрей не оглянулся. Он знал: там Рудин. Но и Нечаенко там.
Он оперся обеими руками о борт трибуны, подался лбом вперед и сказал:
– Вот тут товарищ Рудин про рекорд Забары вспоминал. Скажу и я об этом рекорде.
Заинтересованный, Рудин всем корпусом повернулся к нему.
– Ишь, как Забара всех за живое задел! – довольно проговорил он и засмеялся. – Ну-ну!
Андрей никак не отозвался на эту реплику. Спокойно продолжал говорить:
– Знаю я про этот рекорд. Вчера сам был на "Красном партизане". Верно, рекорд есть, а угля нету, вот беда! – усмехнулся он. – Я не против рекордов, сами понимаете… Об этом что говорить? Но желательно нам, чтоб рекорды были честные…
– А у Забары, что ж, не честный рекорд? – ревниво вскричал Рудин.
– Я и про Забару ничего не говорю! – по-прежнему не глядя на Рудина, ответил Андрей. – Он забойщик честный. Он добросовестно рубал. Это я признаю. А вот вокруг него все делалось нечестно, неправильно…
– Ну, это уж из зависти! – сердито нахмурившись, сказал Рудин. – Нехорошо, нехорошо! – и покачал головой так, чтоб все это видели. – А ты бы нам лучше о своей работе рассказал, чем кумушек считать трудиться… – и все поняли, что Рудин всерьез рассержен на Андрея, хоть и не знали, за что и почему.
Андрей смутился. В самом деле, не подумают ли товарищи, что он просто из зависти к Забаре высунулся сюда? Он затоптался на трибуне, не зная, как теперь продолжать речь; на его крутом лбу выступила испарина.
– Да-а… Зазнались, зазнались вы тут маленько! – меж тем, успокаиваясь и снова приходя в прежнее, победоносно счастливое расположение духа, продолжал Рудин. – Вчерашней славой надеетесь прожить, на соседей обижаетесь, что обгоняют… Нехорошо! Некрасиво! Ты бы лучше, товарищ Воронько, – уже примирительно, даже ласково обратился он к Андрею, – рассказал собранию, как сам думаешь свою работу организовать. Вот это дельно было бы!..
Андрей стал нервно перелистывать свой блокнот.
– Я и об этом скажу! – пробормотал он. – Тут товарищ Лесняк уже докладывал… Я, как парторг участка, со своей стороны… – он запнулся. Всем сделалось неловко за него. "Укоротили-таки парня!" – с горечью подумал Прокоп Максимович и хотел уже подыматься на помощь. Но Андрей вдруг решительным движением отодвинул блокнот в сторону и сказал глухо, но твердо: – Нет, я сперва скажу про то, что хотел. А там – судите!
– Говори, товарищ Воронько, обо всем, что находишь нужным! – громко сказал Нечаенко. – Ты на партийном собрании.
– Вот именно! – подхватил Рудин. – И помни, что ты на партийном собрании, а не на базаре… – он ожидал, что эти слова вызовут веселый смешок в зале, но собрание заворчало, задвигалось; чей-то голос недовольно произнес:
– Да дайте же человеку до конца сказать. Зачем сбиваете?
– Ничего! – сказал Андрей. – Я не собьюсь.
– Говори, Андрей.
И Андрей стал рассказывать, как всякими правдами и неправдами "организовывался" рекорд Забары. Как из-за этого рекорда был расстроен режим и порядок в шахте и как ценою срыва суточной добычи этот "рекорд" был, наконец, достигнут.
– И все это делалось по команде товарища Рудина. Товарищ Рудин всех подменил: и начальника шахты, и главного инженера. Говорят, он и за диспетчера был, за начальника движения… Сам вагонетками руководил – какую куда…
В зале засмеялись, и этот непочтительный, как показалось Рудину, недостойный по отношению к нему смех оскорбил и взорвал его больше даже, чем слова Воронько.
– Но-но, поаккуратней! – вскричал он, уже теряя власть над собой. – А не молод ли ты учить меня, как руководить?! Сам-то в партии без году неделя, а…
– А для выступления с критикой стаж не установлен… – спокойно возразил Нечаенко, и коммунисты опять засмеялись.
– А это не критика! Это демагогия, мальчишество, хулиганство! – невольно вскочив с места, крикнул Рудин и тут же пожалел, что крикнул это. Невнятный гул разом прокатился по залу, словно ветер прошумел, и что-то грозное послышалось Рудину в этом ветре…
24
Рудин был недоволен собой. Пожалуй, никогда еще в жизни не был он так собой недоволен. После партийного собрания на «Крутой Марии» он приехал прямо в горком и прошел в кабинет, раздраженно бросив на ходу секретарше, чтоб она никого к нему не пускала.
– И чаю, чаю мне! – прикрикнул он уже в дверях. – Да покрепче! – затем вошел и запер за собой дверь.
Ему уже было ясно, что на "Крутой Марии" он сделал ошибку. "А-а… – досадливо морщился он. – Как я себя глупо вел!" Как всегда, особенно болезненно припоминались мелочи и стыднее всего было именно за них. "Я, кажется, даже взвизгнул… – скривился он. – Бездарность! Истеричка!" Он сердито ткнул окурок в пепельницу и тотчас же закурил новую папиросу, стал жадно ее сосать. В последнее время он вообще много курил, это скверно! По утрам появилась тошнота, во рту все время отвратительный привкус кислого и металлического. "Вообще все расклеилось в последнее время: и сердце и нервы… – думал он, бродя по кабинету. – Все стало скрипеть, шататься, дергаться. Отсюда и ошибки. Вот теперь – зажим критики. Этого только не хватало!"
Да, это была ошибка. И все, что предшествовало ей, было тоже ошибкой, целой цепью ошибок. Сейчас Рудин уже не отмахивался от них самоуверенно и беспечно, как делал еще вчера, а с каким-то непонятным злорадством разыскивал все новые и новые и складывал их одну к другой, в ряд. "А главной ошибкой, – неожиданно подумал Рудин, – было то, что я вообще приехал в Донбасс!"
Кто-то робко не то постучался, не то зацарапался в дверь.
– Ну, кто там еще? – нервно крикнул Рудин.
Но это секретарша принесла чай. Пугливо вошла, робко поставила стакан на стол – она видела, что ее начальник сегодня не в духе. Пятясь к дверям, чтоб уйти, она все-таки пробормотала, желая смягчить его:
– Кушайте, товарищ Семен, чай крепкий, по вашему вкусу! – и он действительно несколько смягчился: он любил, когда его звали "товарищ Семен". В этом было что-то от подполья: предполагались годы конспирации, явок, тюрем, может быть, даже каторги.
Между тем Семен Рудин никогда подпольщиком не был. Правда, в девятнадцатом году он был где-то около одесского комсомольского подполья: в гимназии у него были друзья, он догадывался, что они причастны к комсомолу, и оказывал им кое-какие услуги; если б не отец, он наверняка бы в подполье втянулся. Потом он долго и горько жалел о том, что это не случилось. В комсомол он вступил только в двадцать первом году.
Впрочем, Рудин тоже не было его настоящим именем. Подлинная его фамилия была не менее звучна, чем эта, тургеневская, однако он ненавидел ее: то была фамилия отца, крупного торговца хлебом. Вплоть до последних лет нэпа ее можно было прочесть на вывесках Одессы. С семьей Рудин порвал давно и круто, тогда же, когда ушел в комсомол. Когда-то он до боли ненавидел отца-лабазника за проклятое наследство, испортившее ему биографию. Сейчас отец был тихим служащим кооперативной сети. Связи с ним Рудин не поддерживал, даже матери писал очень редко и неохотно.
В Донбасс он приехал пять лет тому назад. До той поры работал в центре, в наркоматах, около больших людей, чаще всего в качестве помощника, референта или заведующего секретариатом. Однажды это прискучило ему. Вдруг увидел он, что молодость прошла, а он еще ничего не добился. Он испугался – неужто всю жизнь так? Вечно сидеть в канцелярии, готовить рефераты да отказывать посетителям? Он отпросился в "низы". В Донбасс. Донбасс представлялся ему Клондайком неограниченных возможностей. Уж здесь-то он развернется, тут-то покажет себя! Ему казалось, что, уезжая из центра, он даже совершает героический поступок, и очень гордился своей отвагой.
Его послали на советскую работу. Уже в поезде по дороге в Донбасс прикидывал он, чем он прежде всего займется. Благоустройством города? Жилищными де-лами? Нет, это не годилось для Рудина. На этом громкой славы не наживешь. Нет, ему нужно было дело, о котором заговорили бы все вокруг, ему нужна была – дозарезу нужна – "светлая идея", и она счастливо явилась к нему сама собою в первый же вечер на шахте, когда он сидел в палисаднике и пил чай со своим временным квартирным хозяином, стариком-камеронщиком.
В палисаднике цвели розы. Почему-то раньше Рудину представлялось, что роз на руднике не бывает. Он смотрел и умилялся. Тут его и осенила "светлая идея": розы! Да, розы на шахте – вот что он сделает, вот чем прославится. Он перевернет весь район, взбудоражит всех людей, он самого себя вывернет наизнанку, но у него будут цвести розы на руднике. И тюльпаны, и мальвы, и астры осенью… И не только в палисадниках, где они скромно ютятся и сейчас. А именно – на шахте! У проходных ворот. На дворе перед конторой. Подле нарядной и ламповой.
И он не ошибся – об этом заговорили! Об этом должны были заговорить: цветы действительно украсили жизнь шахтера. Что-то трогательное было в этих клумбах у террикона. Рудин стал кумиром всех домохозяек. Сотни их с заступами на плече являлись в цветоводство за рассадой и затем, разбившись на отряды, высаживали ее в клумбы на площадях и вдоль улиц. Соседние районы стали перенимать опыт Рудина. Приехали корреспонденты и фотографы. Один не в меру восторженный очеркист даже назвал Рудина "шахтерским Мичуриным". В его кабинете теперь постоянно толклись цветоводы, агрономы, коммунальники…
Однажды явился к Рудину на прием и некий старичок-любитель с узелками и пакетиками. Он скромно сознался Рудину, что "давно этим делом балуется", и хоть садик у него крохотный, а вывел он-таки у себя на грядке тюльпаны необыкновенных расцветок и теперь хотел бы посоветоваться с товарищем Рудиным как со знающим и ученым человеком.
Бедный старичок ошибся, ожидая встретить в Рудине родственную душу любителя. Рудин быстро переотправил его в коммунхоз, и старичок, собрав свои пакетики, ушел смущенный и несколько обиженный тем, что "ученый человек" не захотел поделиться с ним, простым любителем-самоучкой, своими знаниями и секретами. Старичку и в голову не могло прийти, что товарищ Рудин ни аза в цветоводстве не смыслит, что он просто равнодушен к цветам, как равнодушен он и к людям. А любит он только себя, одного себя, Семена Рудина.
Целое лето не было отбоя от журналистов, экскурсантов и делегатов. Потом поток схлынул. Шум затих. И не потому, что с осенними заморозками увяли последние астры, а потому, что теперь везде, на всех шахтах, были свои цветы.
Ну что ж! Рудин не обижался. Ему самому до смерти надоела эта затея. Теперь он ждал награды. Каждое утро и каждый вечер ждал он телеграммы или звонка: назначения на новую работу. Прикидывал варианты; заранее уже решал кое от чего отказаться, главное – не продешевить себя. И не дождался.
Да, не удалась жизнь, не удалась! Потом он еще два или три раза пытался поднять шумиху – ничего, кроме конфуза, из этого не вышло. Так однажды, в лютую прорывную зиму 1932/33 года, затеял он "штурмовые воскресенья".
– Отдадим все свои выходные дни родной шахте! – гремел он на пленуме. – Все пойдем в забой! Покажем пример! Рубанем уголек. Я первый пойду! – кричал он, зажигая всех и самого себя пламенной речью.
И в первое же воскресенье отправились в шахту работники аппарата горкома и горсовета, редактор газеты, районный прокурор, врачи из горздрава, управляющий отделением госбанка, директор пивоваренного завода и во главе всех – сам товарищ Рудин, в новенькой шахтерке, в резиновых сапогах, в каске-надзорке и с именной лампой, преподнесенной ему когда-то. На поверхности все это выглядело очень картинно – фотографы суетились, – а в забое вышло нелепо и смешно. Одно дело грузить уголь или дрова на субботнике, мостить дорогу или сажать деревья – для этого особой квалификации не надо, доброй охоты достаточно; совсем иное дело – добывать уголь в забое. Но Рудин понял это, только взяв в неумелые руки отбойный молоток.
– Вы мне только покажите, как тут управляться, а уж я сам… – неуверенно, но еще бодро сказал он забойщику. Ему показали. Он попробовал. Ничего не вышло. Он попробовал еще… Шахтеры добродушно посмеивались. К концу смены он с грехом пополам нарубил неполную вагонетку угля. На вагонетке торжественно написали мелом: "Уголь, добытый товарищем Рудиным". Он так и не понял – всерьез это сделали или в насмешку. В следующее воскресенье он в шахту уже не поехал.
Скоро он вообще отказался от затей, притих, опустился, заскучал. К технике душа у него не лежала, в повседневной будничной работе горкома не было для него ни красоты, ни радости; он еще шумел и горячился по привычке, произносил пламенные речи, но это был уже не огонь, а пепел. Рудин давно потух.
Да, Донбасс не стал для него Клондайком. Уже пять лет он здесь, пять лет передвигается из района в район, нигде долго не приживаясь. Это движение не в гору, а с холмика на холмик. А все вокруг обгоняют его. У других секретарей и удачи и победы. Они и не добиваются славы, она сама к ним приходит. "Отчего это? – завистливо думал он. – Отчего одному мне так фатально не везет?" Он не мог понять, разумеется, что ответ заключен в нем самом, что, кроме него, виноватых нету, что партийное дело нельзя творить равнодушными, барскими руками, нельзя работать с людьми, не любя людей, никого, кроме себя, не любя. Не сознавал он и того, что не только от соседей – он и от жизни уже давно отстал, что и держится-то он на своем посту непрочно, случайно, как держится на дереве последний лист – желтый, сморщившийся, мертвый – до первого крепкого ветра…
Он не сознавал этого и с унылой надеждой все ждал, все верил, что придет и к нему в конце концов "светлая идея" и выручит и возвеличит его. А когда эта идея вдруг явилась перед ним в образе Андрея Воронько в нарядной "Крутой Марии" – он ее просто не заметил, не угадал.
Этого он себе до сих пор простить не мог. "Как я с моим чутьем мог это проворонить?" – думал он. А когда рекорд Абросимова все-таки состоялся и Рудин узнал об этом – он не обрадовался, а пришел в ярость. "Как? Без меня?!" Только это и было в нем. В том, что произошло в ночь на первое сентября на "Крутой Марии", он увидел не трудовой подвиг шахтера, а только хитрую интригу против себя; за горами добытого угля разглядел не Абросимова и Воронько, а Журавлева и Нечаенко. "А-а! – негодовал он. – Карьеру делаете за коей спиной? Подсидеть меня хотите?" Иначе он и представить себе не мог смысла участия Журавлева и Нечаенко в этом деле.
Тогда-то он и обозвал рекорд Абросимова очковтирательством. Хотел даже комиссию для разбора дела создать. Но тут пришла "Правда" с известием о рекорде Стаханова, и Рудин понял, что он опять попал впросак. Однако он даже не извинился перед Абросимовым, ему это и в голову не пришло, он просто сделал вид, что ничего не было, а сам судорожно заметался, забеспокоился, как бы наверстать упущенное, как бы изловчиться и на ходу вскочить в поезд, на который он было опоздал. И, как всякий отстающий человек, он стал шуметь и суетиться больше всех.
Теперь и он чуял, что на шахтах Донбасса настало необычайное время. Он говорил себе: ну, теперь уже не зевай! Теперь только греми! Сколько вырубал Стаханов? 102 тонны? Значит, надо дать 200! 300! 500! Эти цифры заплясали в его воображении, ничего, кроме них, он уже не видел. Теперь он и день и ночь носился на своем газике по району, организовывал новые рекорды (он называл их "мои бомбы"), не ел, не спал, охрип, но чувствовал себя прекрасно. Он даже помолодел, повеселел; явилась прежняя энергия, а с нею и старые надежды. Скептик стал энтузиастом. Когда Забара вырубил 300 тонн, Рудин ликовал больше всех, больше самого Забары, больше фотографов и репортеров, которых он притащил с собой на шахту.
И вот – выступление Андрея Воронько на партийном собрании. Опять Воронько. Опять Нечаенко!..
"Да, скверная, скверная история! До обкома дойдет. А может быть, и до ЦК. Кажется, на собрании газетчики были. Как же я-то не сдержался? Да, плохо… Надо поскорее выпутываться… пока не поздно… Но как? Как? Как?" – беспорядочно думал он, блуждая взглядом по знакомым стенам кабинета и дольше всего задерживаясь на телефонных аппаратах и кнопке звонка. Но кому позвонить? Кого позвать? Кто выручит?
Он машинально нажал кнопку звонка.
– Что, Василий Сергеевич здесь? – хрипло спросил он у секретарши, когда та явилась.
– Здесь. Только что пришел. Позвать?
– Нет, – подумав, сказал Рудин. – Не надо.
Но когда секретарша ушла, пожалел, что так сказал. Вскочил, быстрыми шагами выбежал из кабинета, пересек приемную и вошел к Журавлеву.
Журавлев был одни. Рудин сразу же цепким взглядом впился в него: знает или не знает Журавлев о том, что произошло на "Крутой Марии"? По лицу Журавлева этого нельзя было понять. С обычной вежливостью приподнялся он навстречу; обычный холодок в глазах… "А с другими людьми у него и лицо другое!" – неожиданно и ревниво подумал Рудин: прежде он вообще не обращал внимания на то, какое у Журавлева лицо. Дружбы между ними не было. Рудин ни с кем не дружил здесь. "Дружба бывает только между равными!" – объяснял он себе, а кто же здесь мог быть равным Рудину? А сейчас он пожалел, что дружбы не было. Неизвестно, как начать разговор. Откровенно говорить невозможно. Как вообще держаться с Журавлевым? А Журавлев молчал.
– Да-а… Веселенькие истории происходят у нас в организации… – сказал Рудин, опускаясь в кресло; он хотел это сказать как можно беспечней, натуральней, попробовал даже засмеяться, но смех не вышел, слишком много злости клокотало сейчас в Рудине. – Веселенькие, нечего сказать…
– А что? – глухо спросил Журавлев.
– Да мне сегодня на "Крутой Марии" форменную обструкцию учинили… Не постеснялись…
– Я слышал о собрании…
– Вот как! – подозрительно вскинулся Рудин. – Быстрая же у тебя информация! – скривил он рот.
Журавлев промолчал.
– Ну и что же ты думаешь об этом?
– О чем именно?
– Ну, о том, что произошло на собрании? – нетерпеливо вскричал Рудин.
Журавлев пожал плечами:
– А что ж тут думать? Человеку нельзя запретить выступать с критикой.
– Но как? Как выступать?
– А как? Говорят, неплохо выступил… – невольно улыбнулся Журавлев.
– Кто это говорит? Нечаенко? Так он первый бузотер и демагог в районе. Его давно прогнать следует.
Журавлев ничего на это не ответил, только усмехнулся уголками рта: прогони, мол, попробуй! И Рудин вдруг с тоской почувствовал свое бессилие и свое одиночество.
Но сдаваться он еще не хотел.
– Демагогия! – проворчал он. – Только, брат, не на того напали. Знаю я эти номера! Не выйдет! Рудина знают! Кто этим бабьим сплетням поверит?








