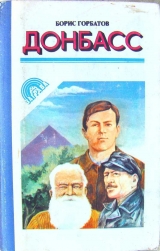
Текст книги "Донбасс"
Автор книги: Борис Горбатов
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 26 страниц)
– Овчинный тулуп надевали шерстью вверх. И водой шерсть густо смачивали… – глухо сказал Дед, и всем стало ясно, что и он некогда ходил газожогом.
– Да… И тулуп, – продолжал Тарас Заноза. – А в руке – зажженный факел. Ползешь с этим факелом по выработкам, ищешь газ, а факел, факел-то вперед вытягиваешь… Жутко!.. Словно сам добровольно смерти в хайло лезешь! Да еще дразнишься… Ну, найдешь газ – и сразу взрыв, гром, глыбы летят… Ух! Вспомнить – и то страшно. Зато утром в шахте чисто. И людям уж не так опасно работать.
– Ради товарищества шел человек на такое дело, – строго и даже как-то сумрачно-торжественно проговорил Прокоп Максимович. – Исключительно ради други своя…
– Да. И ради товарищества.
– И случалось – погибали? – спросил Вася, захваченный рассказом.
– И погибали. Обыкновенное дело! – ответил Иван Терентьевич. – Вот о севастопольском солдате Кошке, который бомбу руками отшвырнул, сколько прекрасного написано! А тут сотни таких героев были… А погибали – и креста не оставалось.
Все помолчали.
Потом Пастушенко с сожалением сказал:
– Нет, газожога я не помню. А саночника застал. Самому еще довелось санки потягать на пологом падении. Тоже не сахар была работа.
– Каторжная.
– Даже не в том дело, что тяжелая, – сказал Пастушенко. – А какая-то она… обидная. Словно тебя, че-ло-ве-ка, вдруг в собаку превратили и на четвереньки поставили.
– Да-а… – постукивая палкой оземь, сказал Дед. – Газожоги, санки, обушок… А теперь вот – коногоны… А там, глядишь, скоро и нам на покой.
– Ну, начальники-то всегда на шахтах будут! Даже при коммунизме, – засмеялся парторг.
– Только, видать, другие тогда будут начальники… – хмуро пробурчал Дед, но тотчас же спохватился, словно сам устыдившись своей слабости, закричал властно и по-хозяйски: – Ну чего, чего стоим? А ну давай, веди коней к стволу! – и, сердито махнув рукой, пошел к выходу.
5
В конюшне все сразу пришло в движение. Радостно рванулся с места Вася – «ну, наконец-то!» – схватил своего жеребца за повод и повел к дверям. Встрепенулись застоявшиеся кони, задвигались, заржали на разные голоса: жеребцы – трубно, молодо, как в былые годы, старые клячи – хрипло, с дребезгом, похожим на кашель, но все одинаково весело и нетерпеливо, словно вдруг догадались и они, зачем убирали их лентами и бантами коногоны, зачем с утра щедро кормили овсом и о чем шептали на прощание… Вслед за Васей и его Стрепетом тронулись в дорогу коногон Семен Нечитайло с гнедым Маркизом, за ним пошла тихая, кроткая, полуслепая Маруся, затем каурый Шалун и хромая, трясущаяся от старости Барышня. Как всегда, забаловал у двери Купчик, встал на дыбки, но его водитель, молчаливый, хмурый Загоруйко, на этот раз не огрел его, как обычно, ладонью по шее, а только досадливо потянул повод, и Купчик сразу успокоился. Пошел, наконец, и Бобыль с Чайкой. Бобылю не требовалось вести в поводу свою лошадь; он просто сказал ей чуть слышно и почему-то грустно: "Пошли, что ль, Чайка! – и лошадь послушно потянулась за ним, пошла, как всегда, низко опустив морду, словно что-то разыскивая или вынюхивая на мокрой земле.
Последними вышли из конюшни Прокоп Максимович Лесняк и Сергей Пастушенко. Они как бы замыкали это необыкновенное шествие.
А оно и в самом деле было похоже на шествие. И кони и люди шли гуськом, как всегда ходят в шахте, небыстрым, сторожким, каким-то напруженным шагом, который теперь выглядел торжественным, почти церемониальным. И, может быть, потому, что очень уж необычной была эта процессия, и все в ней было необычно, не буднично; даже простые шахтерские лампочки казались сейчас лампадами, нарочито зажженными для этого случая; они колыхались как-то особенно таинственно и величаво. И по-особенному звонко падала капель со свода; и по-особенному цокали о рельсы кованые копыта… Люди шли молча, и в тишине штрека было слышно, как они дышат, как посапывают кони, как журчит в канавках подземная вода и где-то далеко впереди, во тьме, ржет неугомонный Стрепет…
– А Дед наш совсем плох стал… – вдруг негромко сказал Прокопу Максимовичу Пастушенко. – Совсем, совсем плох.
– Старое старится… – уклончиво отозвался Прокоп Максимович; он Деда не любил.
– Ты-то вот не стареешь, дядя Прокоп!
– Старею и я. Только виду не показываю.
– Вот то-то и есть. Я так приметил: одинокий человек и стареет рано. Молодеют на людях…
– Что ж? Это верно…
– А не любит меня Дед… Ох, не любит!..
Он никого не любит.
– А Андрея Павловича уважал. Даже боялся…
– Тоже не сразу, не вдруг…
– Эх, жалко – Андрея Павловича нет!.. – вздохнул Пастушенко. – Вот бы посмотрел, порадовался. Давно он об этом часе мечтал…
– Что-то ты больно часто Андрюшу-то вспоминаешь, – усмехнулся старик.
– Да как же не вспоминать, Прокоп Максимович?! – пылко воскликнул Пастушенко. – Ведь он мой "крестный" – он меня в партию рекомендовал. Разве это забудешь?
– Он тебя, а я его в партию рекомендовал. Значит, выходит, ты мне внуком доводишься…
– Я это признаю, Прокоп Максимович!..
– Да? Это хорошо, что ты родством не гнушаешься…
Некоторое время шли молча.
– Я ведь так понимаю, Прокоп Максимович, – снова начал парторг. – Я на этом месте временно сижу, пока Андрея Павловича нет. Он всегда называл своего "крестного" по имени-отчеству, хотя и был лет на пять старше его. – А вот Андрей Павлович вернется…
– А вернется ли?
– Да отчего ж нет?
– Оттуда не все возвращаются.
– Ну, а наш Андрей Павлович непременно вернется!
– Тут слух прошел… нехороший… – вдруг шепотом сказал старик. – Будто уж и в живых Андрея нету…
– А ты не верь, не верь слухам! Я от Андрея Павловича письмецо получил.
– Да-а? Ишь ты! – ревниво протянул Прокоп Максимович. – А мне не пишет…
– Не до писем ему сейчас, ты-то пойми, Прокоп Максимович. Он и мне всего три строчки написал…
– Ну и что ж пишет он? – ворчливо спросил Лесняк. – Как он там? Вояка!..
Пастушенко с охотой стал рассказывать о письме Андрея. Прокоп Максимович слушал его, не перебивая, но вспоминался ему сейчас не товарищ Воронько, не Андрей Павлович, бывший парторг "Крутой Марии", а тихий сероглазый мальчуган Андрюшка, хлопчик из неведомых Чибиряк, вот такой, каким он десять лет назад впервые пришел с товарищем в дом Лесняка: в отцовском пиджаке и, видно, в отцовских же брюках, заправленных с напуском в хромовые сапоги, в косоворотке, вышитой голубыми васильками и подпоясанной крученым пояском с кистями, в старенькой клетчатой кепке. Каким робким, пугливым хлопчиком был он тогда! Как конфузился за столом! А потом вдруг отважился, храбро встал, попросил всех выпить за здоровье шахтерской бабушки и – смутился. А Прокоп бросился к нему, схватил его в свои лапы, жарко обнял, прижал к сердцу и крикнул дрогнувшим голосом: "А что, мамо, берете этого шахтарчонка себе во внуки?" Всем показалось тогда, что это застольная шутка гораздого на шутки старого Прокопа, не больше, – а вот поди ж ты!.. Десятки шахтарчат прошли через крутые руки мастера, наставника, но только эти двое – Андрей и Виктор – так прочно вошли в его душу и чуть не вошли в его семью. Что греха таить, он хотел Андрея, но дочка, Даша, выбрала Виктора. А сейчас нет ни Виктора, ни Андрея. Нет их в семье Лесняка. Нет их в Донбассе. И Даша вернулась домой одна…
Между тем нетерпеливый Вася со своим Стрепетом уже вышли на рудничный двор. Было десять часов вечера – самое людное время у ствола. Менялись смены. Подъемник то и дело выбрасывал в шахту новые партии рабочих. Шахтеры проворно выпрыгивали из клети, попадали под ливень, отряхивались и спешили дальше.
Обычно люди тут не задерживались. Но сейчас, заметив подходивших к стволу коней с алыми лентами в гривах и разузнав, в чем дело, они не стали расходиться по своим забоям и штрекам, столпились на рудничном дворе. Рабочие дневной смены тоже не торопились на-гора. Всем было любопытно посмотреть, как будут выдавать последних лошадей из шахты. Захотелось проводить их. Явилось чувство праздника.
Так часто бывает в шахте. Тяжек труд под землей, но есть и у горняка свои радости, свои часы торжества. Так бывает у проходчиков на сбойке штреков, когда после долгих месяцев войны с каменной громадой, которую они взрывали, долбили, ломали, откалывали по куску, наконец пробиваются они навстречу друг другу; наступает чудесный миг: руки, одни только руки протискиваются в узкую щель и ищут во тьме другую пару рук, чтобы схватиться с нею в жарком, шахтерском рукопожатии. Так бывает у забойщиков, когда выдают они на-гора первую вагонетку угля из новой проходки или последнюю вагонетку в счет годового плана – последний сноп на дожинках. Так бывает, когда спускают в шахту первый образец новой горной машины; волнуется конструктор, суетятся механики и слесари, а шахтеры молча и почтительно расступаются, дают дорогу умной машине, которая никого из них не лишит заработка и всем облегчит труд. Так было и сейчас, когда провожали шахтеры последних копей из шахты…
Старому рабкору Тарасу Занозе были знакомы и дороги эти минуты шахтерского торжества. Присев на опрокинутую вагонетку, он стал жадно приглядываться к тому, что происходило у ствола, стараясь не пропустить ни одной подробности и все записать в свои блокнот: зачем – он и сам не знал. Заметка все равно должна быть короткой.
На рудничном дворе в ожидании порожняка стыли два электровоза: один – мощный, тяжелый, другой – маленький, марки "Лилипут", бегающий в промежуточных штреках. Эта юркая, пронырливая машина и докопала конную откатку на "Крутой Марии". Подле "Лилипута", сложив по-бабьи руки на животе, стояла его молодая хозяйка, которую все, однако, уважительно называли Катериной Афанасьевной, – худенькая женщина в замасленном комбинезоне; ее легко можно было бы принять за мальчугана, если бы не большой шерстяной платок, которым она, как и все женщины в шахте, плотно закутывала голову, чтобы угольная пыль не набилась в волосы.
Вася Плетнев немедленно направился к ней: завтра Катерина Афанасьевна уходила в отпуск, и Вася заступал на ее место. Вслед за Васей потянулся и верный Стрепет; подошел, ткнулся мордой в железное брюхо машины, понюхал, полизал шершавым языком железо и недовольно, обиженно заржал.
– Что? – сказала Катерина Афанасьевна. – Силен конкурент? Не укусишь?
Все засмеялись. Улыбнулся и Иван Терентьевич и записал в блокнот и этот эпизод.
Появились Бобыль с Чайкой. Их тотчас же окружили шахтеры. Чайку все знали. Старики еще помнили ее историю. Теперь каждому захотелось проститься с Чайкой, погладить, потрепать ласковой рукой ее холку, сказать доброе слово на прощание. Некоторые знали, что вместе с лошадью уходит на конный двор и Бобыль.
– А много ж ты, Чайка, моего уголька из-под лавы повытаскивала!.. – сказал сильно постаревший за последние годы Матвей Закорлюка, старший забойщик с "Дальнего Запада". – Ну, спасибо тебе, работница, спасибо тебе, труженица!
– Вам спасибо, добрые люди! – ответил за Чайку растроганный Бобыль. – Не поминайте лихом! – прибавил он, словно уходил не на конный двор, а куда-то прочь с шахты.
Только сама Чайка равнодушно принимала все эти ласки и приветы; она уж давно и навсегда притихла и угомонились, давно погас свет в ее очах, давно пропала резвость; Чайка даже хвостом отучилась помахивать: в шахте ни мух, ни слепней нету.
Прокоп Максимович добродушно похлопал ее ладонью по спине, словно товарища по плечу.
– Ничего, ничего, Чайка! Теперь отдохнешь на воле, поправишься!
– Глаза-то не воротишь! – тихо сказал кто-то.
– Эх, молодость бы воротить! – проговорил Матвей Закорлюка. – Теперь в шахте только и работать! – Он произнес эти слова не с грустью, а с завистью, и Тарас Заноза понял его. Он сам порой чувствовал похожее. Вся молодость, вся шахтерская силушка ушли на обушок, на санки, на "лимонадку", а теперь шахта иная, теперь – машины, теперь только бы и работать, а уж молодости нет, и ее не воротишь…
Несмотря на свой язвительный псевдоним, взятый еще в двадцатых годах, по моде, существовавшей тогда у рабкоров, Тарас Заноза был человек добрый и сентиментальный. С годами он стал даже слезливым. Со слезами умиления наблюдал он перемены, совершавшиеся вокруг него; немолодой человек, он знал им настоящую цену. У него появилась стариковская привычка по каждому случаю припоминать былое. Но таково уж свойство современных стариков – былое припоминалось не со вздохом сожаления, а с горькой укоризной; оно и вспоминалось-то только для того, чтобы прославить век нынешний и проклясть век минувший.
"Молодежь этого не понимает, не чувствует. Молодежь все берет как должное: ей сравнить не с чем. Она даже ворчит порой на "неполадки". И права!" Но даже воздух, которым она дышит в шахте, сейчас уже не тот, каким дышали Тарас Заноза и его товарищи. Теперь не скупятся на вентиляцию.
Много раз втайне от всех, даже от товарищей по редакции, принимался Тарас Заноза за повесть из шахтерской жизни. Запирался в своей одинокой, холостяцкой келье, раскладывал блокноты на столе, истово чинил карандаши – по стародавней рабкоровской привычке он любил писать карандашом и в блокнотах, – закуривал трубочку.
И тотчас же знакомый холодок пробегал по его спине, словно Тарас выходил на "свежую струю". Он слышал шорохи, давно забытые голоса, потрескивание крепежных стоек. Лава играла, пела на все лады. Он узнавал эту песню. Пахло углем, пылью, гниющей сосной, ржавой подземной водой, плесенью, пороховым дымом… Возникала в памяти старая шахта: ее мрачные галереи, ее узкие ходки, крутые уклоны, все ее глухие, слепые и далекие закоулки… Здесь, в старых выработках, бродил, пугая людей, шахтерский леший Шубин. Здесь "глазоедка" ела глаза. Здесь полз в вывороченном овчинном тулупе газожог и зажженным факелом дразнил саму смерть… Картины, одна другой ярче, теснясь, толпились в памяти старого рабкора, набегали, заслоняя друг дружку, – а слова не являлись, слов не было!
Напрасно выкуривал Тарас трубку за трубкой, напрасно до боли тер виски и шагал по комнате, тычась в углы, – картины приходили, а слова – нет. Он мучительно искал, призывал их, ему нужны были слова задушевные, верные, точные, но он не находил их и злился на себя: "Я – как та лошадь: все чувствую, а высказать не могу". У старика была широкая, большая душа, а таланта не было. Но он не знал этого.
Между тем коногоны уже завязали лошадям глаза. Делалось это затем, чтобы кони не ослепли, вдруг попав на свет, на дневную поверхность. Для того же и выдавали их из шахты ночью. Только Чайка да Барышня не нуждались в шорах – бедняги были слепые.
И опять горько посетовал на себя, на свое косноязычие старый Тарас Заноза: "Нет у меня, нет настоящих слов, чтобы все это описать! А какая картина! Рудничный двор весь залит ярким электрическим светом… Красные, зеленые, желтые сигнальные огни… Светофоры… Электровозы… Подземные поезда… Ну, чем не столичный вокзал? И тут же – кони. А? Слепые, последние кони… Обломки империи… А? Ведь это что ж? Ведь это – символ! Ведь это у меня на глазах, вот тут, у ствола, кончается один век и сразу же начинается другой, новый… И все это – глубоко под землей. В недрах!.. А наверху сейчас – зима. Снег. Много в эту лютую зиму выпало снега… Снег, снег… И где-то далеко-далеко отсюда, в снегах Карельского перешейка, кипит война… И в Европе – война. Где-то – Гитлер… Где-то – Чемберлен… И все это прямо относится к тому, что происходит сейчас здесь, на рудничном дворе. А я не могу, не умею описать это человеческими словами!" – И он морщился от сознания своего косноязычия, как от зубной боли.
Наконец выдача лошадей на-гора началась. Первым повел коня в клеть Вася Плетнев. Стрепет шел послушно, не шалил, не дурачился, словно тряпка на глазах сразу укротила и даже припугнула его. Шахтеры следили за ним и его движениями с той доброй улыбкой умиления и жалости, с какой взрослый человек всегда смотрит на слабое, бессловесное существо – на ребенка, птицу или комнатную собачонку.
Вася ввел коня в клеть. Все! Теперь как раз время прощаться. Дальше, на-гора, Стрепет уже поедет один.
– Ну, бывай здоров, Стрепет! Гуляй! – чуть дрогнувшим голосом сказал Вася. Потрепал в последний раз лохматую гриву коня, погладил, а потом вдруг обнял и поцеловал Стрепета прямо в мокрые губы. И, сам смутившись, поспешно выпрыгнул из клети.
Однако никто не засмеялся.
Молоденькая стволовая, похожая в своем мокром, блестящем от воды резиновом плаще с капюшоном на моряка в шторм, стала устанавливать деревянные щиты в клети. К ней подошел Дед.
– Ты вот что, Фрося! – негромко сказал он. – Просигналь-ка в машинное отделение: пусть осторожно качают. Поняла? Как людей… – прибавил он и невольно подумал при этом: "Вот так и меня скоро… как старую лошадь…" Но тут же испугался: не вслух ли подумал? В последнее время с ним это случалось. Он оглянулся: рядом никого не было. Неподалеку, в группе шахтеров, стоял Бобыль. Тяжко опираясь на свою суковатую палку, Дед пошел к нему.
– Слыхал я, на конный двор уходишь? – спросил он, чтобы спросить что-нибудь.
– Да, выходит так… – виновато отозвался Бобыль.
– А может, в шахте останешься? Работу найдем.
– Нет, Глеб Игнатович. Не приходится…
– Заработки на конном дворе не те, что в шахте.
– За этим я не постою.
– Вот как? – покосился на него Дед. – Ну-ну! Так я скажу, чтоб тебя с Чайкой поставили на подвозку крепежного леса. Там – ничего, там – заработаешь…
– За это спасибо вам, Глеб Игнатович!..
Фрося отбила сигналы в машинное отделение: четыре удара – люди! Двухэтажная клеть вздрогнула, дернулась, сначала опустилась вниз, а потом плавно пошла вверх. В последний раз мелькнула морда Стрепета и исчезла. Стрепет уехал на-гора…
– Гуляй, Стрепет! – тихо проговорил Вася вслед.
Больше никто ничего не сказал, – молчание лучше и полнее всего выражает чувства мужчин.
Через несколько минут клеть вернулась. Теперь была очередь Чайки. Бобыль ехал на-гора вместе с нею. Ему это было разрешено в виде исключения: Чайка – лошадь смирная, послушная коногону, она в клети не заскандалит.








