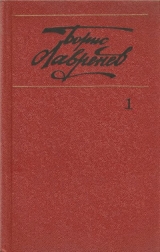
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 42 страниц)
На втором году семейной жизни грянула война. Модест Иванович пошел призываться, но на приеме от страха впал в то же состояние нервного коллапса, какое бывало с ним в гимназии, и получил белый билет. Война прошла мимо Модеста Ивановича, не задев его своими шумными, обагренными крыльями.
В день, когда до уездного города докатились первые полошащие, вихревые телеграммы революции и в ломбард, в мертвый воздух, сочащийся острым ядом нафталина, ворвался с улицы ошалелый человек с листком в руке и криком «революция», – Модест Иванович смертельно испугался. И когда все сослуживцы бурлящей толпой побежали на улицу, побросав дела, Модест Иванович один остался сидеть за своим столом, продолжая машинально писать последнюю фразу бумаги, которой был занят.
Обеспокоенная Авдотья Васильевна пришла в ломбард в десятом часу ночи. Ей отпер сторож Авдей и на вопрос, где Модест Иванович, ответил, сплюнув:
– А где ж ему быть? Сидит, пишет.
Авдотья Васильевна прошла тяжелой походкой (она расплылась за эти годы и напоминала опару, стремящуюся перелиться через край квашни) за загородку и увидела низко склоненную над столом голову мужа. Вокруг него валялись листки писчей бумаги. Он не ответил на оклик, и глаза его замерзли и остекленели. Авдотья Васильевна подняла один листок и прочла бесконечно повторенную каллиграфическим почерком мужа казенную фразу:
«К сему имеем честь присовокупить…»
Она усмехнулась и, подняв супруга за воротник, увезла его домой.
После Октября ломбард закрылся. Модест Иванович засел дома, скучал, томился без привычного дела, читал с утра до ночи свои любимые описания путешествий и трепетно прислушивался к постоянно гремевшим, с наступлением темноты, в городе выстрелам. И каждый выстрел отмечался мгновенным вздрагиванием плеч Модеста Ивановича, как бы далеко он ни прозвучал, едва донесенный до флигеля ветром.
Вскоре один из сослуживцев по ломбарду, занявший место комиссара финансового отдела уисполкома, пригласил Модеста Ивановича к себе в отдел, и он сел на стул в нетопленном и прокуренном здании исполкома так же скромно и робко, как десять лет просидел на таком же стуле в ломбарде. Кругом все грохотало, рушилось, разваливалось, вновь строилось, рушилось и снова упрямо и, казалось, явно нелепо восстанавливалось, чтобы опять разрушиться.
Вокруг уездного городка металлическим коклюшем надрывались пушки, горели села и деревни, тысячами ложились в снег, грязь и пыль человеческие тела, но даже кончина мира не могла бы изменить позы Модеста Ивановича за столом и круглых, приятных завитков его почерка на ордерах.
Он не замечал ни голода, ни холода, ни все растущего озлобления и ругани Авдотьи Васильевны и писка двоих ребят, – не замечал ничего.
Пробираясь бочком вдоль облупленных стен, через грохочущий и полыхающий город, сквозь пулевые свисты и ледяные метели, он поднимался во второй этаж уисполкома, садился на свой стул и писал, писал.
Жизнь протекала мимо него, вздернутая на дыбы, клокочущая, безрассудная в разрушительном натиске, не изменив ничуть замысловатого хвостика у буквы «ц» и веселой завитушки у «к». Модест Иванович не видел жизни за прочной стеной робости и скромности. От года к году Модест Иванович писал, зябко вжимая голову в плечи и не видя, что все вокруг меняется, приобретает прежний вид, бодреет и воскресает.
Механически, каждый месяц он получал жалованье, которое немедленно отбиралось Авдотьей Васильевной с животной свирепостью и скупостью. Она яростно вцеплялась в каждый грош.
В июле тысяча девятьсот двадцать пятого Авдотья Васильевна обнаружила, что облигация второго государственного займа, выданная некогда Модесту Ивановичу в счет зарплаты и вызвавшая тогда у Авдотьи Васильевны приступ неистового озлобления, выиграла в майском тираже тысячу рублей.
Это неслыханное и нежданно свалившееся счастье давало возможность заделать все изъяны в хозяйстве и отложить еще запас на черный день. Облигация была вручена Модесту Ивановичу, и он, предупредив начальство, в первый раз в жизни манкировал служебным временем и поехал в банк за деньгами.
……………………………………
4
Выбежав из подворотни в горячую от солнца щель улицы, Модест Иванович замедлил шаги только на другом конце квартала и трепетно оглянулся, не преследует ли его Авдотья Васильевна.
Но улица была пуста. Посредине, взбивая копытцами белую, медленно оседавшую пыль, брел только старый серьезный козел, потряхивая выцветшей бородой.
Модест Иванович остановился и перевел дух. Внутри него все трепетало и билось, и он с каким-то испугом прислушивался к необычному биению крови. Он был взволнован, потрясен и рассержен – и это было самое необычайное. Все его существо бессознательно протестовало против незаслуженного и горького оскорбления, вырвавшего из его уст неслыханные и дерзкие слова, которые он бросил, убегая из дому, в лицо Авдотье Васильевне.
Глубоко и тяжело вздохнув, Модест Иванович бессознательно побрел по улице куда глаза глядят. Для него было ясно, что возвратиться домой нельзя. Ни сейчас, ни после, – может быть, даже никогда. Случившееся было катастрофой, и Авдотья Васильевна никогда не простит. Модест Иванович зажмурился, словно пухлый и тяжелый кулак жены уже навис над его безмерно виновной головой.
Улица спускалась вниз к базару. Модест Иванович, ничего не видя, добрел до первых лотков и пошел между ними, толкаемый и затираемый базарным людом. Он прошел зеленной и мясной ряды и погрузился в пахнущую сыростью и солью солнечную полутьму рыбного ряда.
Идя по проложенным вдоль ларьков мосткам, он поскользнулся и, падая, уперся в край большой лохани, наполненной водой. Рыбы, плававшие в лохани, всполошенно заметались и забрызгали водой. Модест Иванович поднялся, и глаза его приковались к мечущимся рыбам со странным жестким и упрямым выражением.
Он протянул руку, сунул ее в воду и ухватил пальцами скользкое, бьющееся и холодное тело семивершкового окуня, вытащил его из лохани и, заглянув в бессмысленно выпученный испугом рыбий зрачок, крепко сжал окуня, разевавшего рот.
Продавец бросился к Модесту Ивановичу, наваливаясь животом на оцинкованный прилавок.
– Эй-эй, – закричал он, – гражданин! Зачем жмешь! Рази можно так? Рыбу задушишь. Купить не купишь, а окунь пропал. Пусти, слышь.
Модест Иванович странно взглянул на продавца, разжал пальцы. Раздавленный окунь шлепнулся в лохань, а Модест Иванович вдруг быстро пошел, не оборачиваясь, смотря прямо перед собой, поверх людей и натыкаясь на встречных, прочь от лотка, провожаемый руганью разозлившегося лоточника.
Он почти пробежал базар, свернул в переулочек и вышел на запыленную кленовую аллейку, носившую название бульвара Марата.
На бульваре он опустился на скамью, вынул из кармана клетчатый фуляр и вытер выступивший на лбу пот. Спрятав фуляр, он уронил подбородок на упертые в колени руки. По шевелящимся и прыгающим губам, по ушедшим в себя глазам было ясно, что мозг его проделывает напряженную и мучительную работу.
Бегавшая по бульвару рыжая собачонка уселась напротив скамьи и, свесив одно изорванное ухо к земле, сострадательно смотрела на задумавшегося человека.
Вдруг она отскочила, заворчав. Модест Иванович встал, словно подкинутый, со скамьи и, сунув руки в карманы, зашагал по бульвару. Рыжая собачонка увидела в зрачках идущего, почуяла собачьим своим чутьем опасность, может быть даже смерть, свою или чужую, все равно; но она знала всем опытом бездомной и бродяжьей своей жизни, что от человека с таким взглядом нужно бежать подальше. И она помчалась, поджимая хвост, в противоположном направлении.
Солнце уже цеплялось за печные трубы, тронутое розовым закатным тленом, когда Модест Иванович подошел к своему дому. Шел он осторожно по противоположной стороне улицы, надвинув каскетку на лоб.
У ворот в пыли возилась и визжала дворовая детвора и среди нее старший сын Модеста Ивановича – Ленька.
Модест Иванович окликнул Леньку. Ленька примчался, вздымая босыми ногами тучи пыли.
– Мать дома? – спросил Модест Иванович.
– Дома.
– А… ну ладно, беги играй.
– Мама на тебя серчает, – ух! – сказал восторженно Ленька. – Пусть, говорит, придет только, я ему покажу, я ему, говорит, ноги отдеру…
– Ну иди, иди, – повысив голос, сказал Модест Иванович и добавил: – Не будет больше мать мне ничего показывать. Я ей сам отдеру.
Ленька, недоверчиво ухмыльнувшись, понесся назад к ребятам, а Модест Иванович зашел за кусты бузины, росшие вдоль дома, у которого он стоял, и сел на скамеечку у чужих ворот, не спуская глаз со своих.
Вскоре в воротах появилась дебелая фигура Авдотьи Васильевны. На левой руке у нее качался жестяной бидон: она шла в лавку за керосином. Модест Иванович низко пригнулся и сидел так, пока спина Авдотьи Васильевны не скрылась за угловым домом. Тогда он вскочил и с мальчишеской легкостью и живостью перебежал улицу.
Поднявшись по лестнице, он открыл дверь, прошел в спальню и подергал ящик комода. Он был заперт.
С тем же упрямым и острым блеском в глазах Модест Иванович сбегал на кухню и принес топор. Он вставил край лезвия в щель и нажал. Перемычка затрещала, и ящик открылся. Модест Иванович залез рукой под бельё и вытащил десять сторублевых билетов. Он усмехнулся и положил их в карман. Так же нажимая топором, закрыл ящик снова и отнес топор на кухню. Из шкафа достал осеннее пальто и надел его. Окинул задорным взглядом комнату и вышел.
На улице опять увидел Леньку. Мгновенная тень прошла по его бледному лицу, по детским пухлым губам бутончиком. Он поднял Леньку с земли и крепко поцеловал. Не привыкший к нежностям, Ленька удивленно вытаращился на отца.
– Не говори матери, что я здесь был, – сказал Модест Иванович, опуская Леньку наземь.
– Не скажу. Зачем мне говорить? Она меня поколотит за то, что я с тобой разговаривал, – степенно сказал Ленька вдогонку уходящему Модесту Ивановичу.
Над городом уже серел сумеречный дым, когда Модест Иванович появился на вокзале. Он шел по вестибюлю, рассеянно озираясь, пока не увидел на стене карту железнодорожных путей. Он подошел к ней и долго стоял, шевеля губами. Взгляд его сползал по карте все ниже к югу, пока не уперся в сплошное голубое поле с рваными краями.
Модест Иванович сжал веки, и перед ним встало розоватое утро, сизая пелена блестящей воды, нежное покачивание баркаса.
Открыв глаза, он окликнул проходящего носильщика.
Носильщик подошел, вытирая нос концом фартука.
Модест Иванович сказал сурово и властно:
– Слушайте! Мне нужен билет.
– Куда, барин? – осведомился носильщик.
Модест Иванович на мгновение замялся и опять повернулся к карте. Его вытянутый палец черкнул по бумаге и уперся в маленький кружок возле синего поля.
– Вот сюда.
– В Севастополь? – сказал носильщик и покачал головой: – Трудновато, барин: сезон сейчас, – переполнено. Меньше десятки…
– Ну, пожалуйста… Мне очень нужно, – сказал Модест Иванович с умоляющей дрожью голоса, – я заплачу.
Носильщик сдержал усами растопырившее его рот удовольствие.
– Ну, разве уж для вас, барин, как-нибудь столкуемся с кассиром. Пожалуйте деньги.
Модест Иванович вынул одну сторублевку и торопливо сунул ее в руки носильщика.
– Вы обождите, барин, в буфете. Касса откроется минут через двадцать, я тогда к вам приду.
Модест Иванович вошел в буфет. Под потолком шумел электрический вентилятор; сияя, подрагивали лампочки в люстре над столом; пахло пивом и жареным мясом. Свет, шум, запах кухни – все это приятно ошеломило Модеста Ивановича и словно опьянило его. Он присел за стол. Подошедший официант выжидательно остановился. Модест Иванович нерешительно поглядел на него.
– Угодно карточку? – спросил официант.
Модест Иванович пробежал глазами поданную карточку и молчал.
– Из напитков ничего не прикажете? – подсказал официант.
Модест Иванович удивленно взглянул на склонившегося официанта.
В последний раз он пил вино на своей свадьбе. Оно было налито в узкий и длинный стакан на тонкой ножке и было холодное, пенящееся и приятно кололо язык. С тех пор у него не было во рту ни капли вина, и он не знал никаких напитков, кроме чая. Но здесь, среди шума и света, в тревожно бодрящей суматохе вокзала, ему захотелось опять испытать то колкое веселящее ощущение, которое он испытал за свадебным столом. Он пожевал губами и сказал официанту:
– Вы мне дайте этого… как его, ну желтого… шипит. Его на свадьбах пьют.
В узких татарских щелках официанта мелькнул на мгновение изумленный блеск, но долгая ресторанная выдержка тотчас выключила его. Он сказал:
– Шампанское? Какое прикажете?
– А разные есть? – осведомился Модест Иванович.
– Разное-с. Есть русское Абрау и заграничное Редерер.
– А какое лучше?
– Конечно-с, Редерер. Только оно дороже.
– Тащи Редерер, – приказал Модест Иванович, чувствуя подступающее головокружение. Он уже хмелел без вина первозданными, никогда не испытанными чувствами.
Он выпил натощак три бокала Редерера. Шампанское случайно залежалось в дрянном буфете уездного вокзала, где никто никогда не требовал его, и поэтому оказалось выдержанным и крепким. Когда пришел носильщик с билетом, Модест Иванович расплатился, трудно поднялся и заплетающейся походкой, бессмысленно и дерзко улыбаясь, пошел на перрон.
– Чудной гражданин, – сказал официант носильщику, провожая взглядом Модеста Ивановича.
– Не иначе, как без винтика, – подтвердил носильщик.
Поезд, шипя и фыркая, веселый, пыльный и запыхавшийся, шумно влетел наконец на вокзал, зовя и радуя белоосвещенными окнами. Модест Иванович, раскачиваясь и толкая встречных, долго толкался во все вагоны, пока не разыскал свой.
Проводник указал ему место номер девятый на нижней полке.
– Куда едете, гражданин?
– К ч-черту на кул-лички, – ответил Модест Иванович, грузно садясь на койку. Ослабевшие ноги не держали тела.
– А где ваши вещи? – спросил профессионально-привычно проводник.
Модест Иванович засмеялся и поводил пальцем у носа проводника.
– В-вещи?.. Нет… Н-нет у меня вещей… Я нал-легке, п-понимаешь?
– Он налегке и навеселе, – раздался голос из соседнего отделения.
Сверху пролился тихий женский смех.
Проводник опять наклонился к Модесту Ивановичу.
– Вы бы легли, гражданин. Вам постель дать?
– Дать, все дать!.. – отвечал Модест Иванович засыпающим голосом.
Проводник принес подушку и матрац и, перевертывая самого Модеста Ивановича, как матрац, уложил его. Модест Иванович вытянулся на спине и мгновенно заснул.
Лицо его, с выпяченным, как у ребенка, пухлым раскрывшимся ртом, в темноте нижней койки казалось юным и трогательно-привлекательным.
Худенькая пассажирка с ярко накрашенными губами, лежавшая на верхней койке и смеявшаяся при появлении Модеста Ивановича, перегнулась, опираясь на локоть, и долго смотрела в это лицо со странным, как бы оценивающим выражением.
Поезд тронулся. Пассажирка отвернулась и, достав сумочку, мазнула алым карандашиком по нестерпимо ярким губам.
5
Поезд летел в золотой степной ныли, стуча и звеня сцепами, словно вырвавшийся конь оборванными удилами.
Белое степное солнце вливалось в открытое окно купе непалящим приятным жаром.
В голове у Модеста Ивановича была смутная тяжесть и звон. Он спустил ноги на пол и, подставив лицо упругим толчкам несущегося навстречу поезду ветра, задумался.
Вчерашний день показался ему отошедшим безвозвратно далеко, небывалым, только приснившимся. На мгновение сердце его сжалось, когда он вспомнил покинутый родной очаг, детей, свой пустой стул и стопку ожидающих его в здании финотдела ордеров.
Охнув, он даже привстал от испуга и жалости и сделал такое движение, словно хотел выскочить через стенку вагона, но тотчас же сел, весь покрывшись холодной испариной.
Сквозь золотеющую пыль степи приблизилось и встало, заслоняя окно вагона, жирное, с расквашенными губами и колючим взглядом, лицо Авдотьи Васильевны, и сразу сквозь тяжесть и звон, сквозь разорванные мысли, пробилась и всплыла с новой силой боль вчерашнего, незаслуженного оскорбления. Модест Иванович замотал головой и даже сказал вслух:
– Нет… нет!..
Чувства испуга и жалости поспешно отступили перед ненавистью и обидой.
Но все же Модест Иванович чувствовал сосущее смущение и неловкость. Он вспомнил, что в доме не было денег, что, кроме тысячи, вынутой им из комода, у Авдотьи Васильевны оставалась мелочь, всего около трех рублей, – месяц был на исходе, доживали остатки жалованья.
Модест Иванович пощупал борт пиджака – сторублевки тихо и вкрадчиво захрустели под материей. Этот хруст подсказал Модесту Ивановичу решение.
Он окликнул появившегося в купе проводника:
– Скажите, вот… мне нужно послать деньги. Как это сделать?
Проводник, подметая пол, не спеша ответил:
– Как?.. Известно. Очень даже просто, гражданин. На станции пойдете в отделение и отправите. Вот через час Лозовая будет, там стоянки пятнадцать минут.
Модест Иванович отвернулся лицом в угол, бережно вынул деньги и пересчитал. После покупки билета и вокзального кутежа у него оставалось еще девятьсот двадцать пять рублей в бумажках и немного серебра. Модест Иванович почесал нос, соображая, и, отсчитав восемь десятичервонных бумажек, отправил их во внутренний карман пиджака. Сто двадцать пять с мелочью сунул в карман брюк и, пододвинувшись к окну, высунулся в него, разглядывая мелькавшие мимо сжатые хлебные поля с правильно расставленными в шахматном порядке пирамидками снопов, стрельчатые перья тополей и сахарно-белые, в жирной и густой зелени, мазанки.
Он простоял у окна до Лозовой. Когда паровоз, фыркнув в последний раз, остановил бег у приземистого вокзала, Модест Иванович надел каскетку и, вышедши на перрон, спросил у железнодорожника в красной фуражке, где почта.
Идя по указанному направлению, он остановился в дверях вокзала, вынул приготовленные восемьсот рублей, отслюнил еще три сторублевки и отправил их в брюки к прежним ста двадцати пяти. У окошечка он попросил бланк перевода и, нагнувшись над конторкой, вывел своим каллиграфическим почерком цифру 500.
Но, не успев написать адреса, он отнял перо от бланка и опять пожевал губами. Со смущенным и извиняющимся выражением он протянул руку в окошко и попросил второй бланк.
Торопливо, словно боясь, что кто-то укоризненно смотрит через его плечо, прикрывая бланк ладонью, он написал новый перевод, но уже сумма была не пятьсот, а двести. Горько вздохнув, Модест Иванович положил перо и подал бланк телеграфисту.
Получив квитанцию, он вернулся в вагон, купив по дороге у мальчишки пирожок с мясом. Разложив на коленях вытащенный из кармана обрывок газеты, он принялся уплетать пирожок, не замечая, что худенькая пассажирка с верхней койки наблюдает за ним.
Он доел пирожок, тщательно подобрал с газеты все крошки и откинулся на спинку сиденья, сложив руки на груди.
Им овладела легкая и нежащая бестревожность; голос совести больше не мучил его.
Внезапно он увидел над своей головой свесившуюся с верхней койки женскую ножку в телесно-розовом шелковом чулке. На ней, вися только на пальцах, покачивалась, поблескивая, лакированная туфелька.
Модест Иванович инстинктивно отвел глаза; однако ритмическое покачивание туфельки неотвратимо приковывало его внимание. Он покраснел и хотел выйти в коридор; но ножка вздрогнула, туфелька сорвалась и с сухим кожаным стуком ударилась об пол.
Модест Иванович, захолодев, услышал капризно-жалобный голос:
– Ай, моя туфелька!
Он не шевельнулся, он сидел, растопырив руки и не отрывая взгляда от лежащей на полу бочком туфельки.
Капризно-жалобный голос сказал опять:
– Будьте добры, если вас не затруднит… Мне очень неудобно слезать.
Модест Иванович стремительно, словно хотел упасть рядом с туфлей, нагнулся, неловко схватил ее и, не подымая головы, ткнул вверх.
Пассажирка сказала:
– Ах, простите, что я затрудняю вас, но эти жесткие вагоны – такой кошмар. Я даже повернуться не в силах. Не сможете ли вы мне надеть туфельку? Тысячу раз извините…
Модест Иванович затрепетал, смотря в сторону, пытался одной рукой насунуть туфельку на спущенную ступню. Но туфелька не надевалась.
Пассажирка засмеялась:
– Ах, какой вы неуклюжий! Неужели вы никогда не надевали туфель дамам? Да не так же. Возьмите одной рукой за щиколку, а другой надевайте. Ну, ну, так.
Модест Иванович несмело сунул и другую руку и коснулся теплого скользкого шелка, обжегшего его пальцы. Это ощущение словно пронизало его щекотной и горячей дрожью с головы до пят, и было одновременно страшно и сладостно. Так сладостно, что, уже надев туфельку, он не отнимал пальцев, как будто нога была металлом, к которому прилипает кожа в жестокий мороз.
Пассажирка, прищурив длинные томные глаза, с усмешкой смотрела на Модеста Ивановича.
– Ай, ай, какой увалень! – сказала она. – Сколько вам лет?
– Тридцать пять, – сухим хрипом выжал из себя Модест Иванович.
– Неужели? И вы до сих пор не научились надевать дамам туфли? Какой стыд! Или вы умеете только снимать? Вы женаты? А ваша жена не сердится, что вы не умеете надевать ей туфли? – забрасывала пассажирка вопросами под хохот соседей.
Модест Иванович выпустил наконец ногу пассажирки и бессмысленно топтался в узком пространстве между койками, не зная, что делать.
– Боже, какой симпатичный медведь! – вскрикнула пассажирка, всплеснув руками и зазвенев надетыми на них браслетами. – Вас, я вижу, надо дрессировать. Помогите мне слезть.
Она положила руку, пахнущую духами, на плечо Модесту Ивановичу и спорхнула вниз, навалившись на Модеста Ивановича хрупким и ясно ощущаемым сквозь легкую летнюю блузку телом.
– Пойдемте на площадку. Здесь такая давка и духота. Ненавижу ездить в жестких, – сказала она, продевая руку под локоть Модеста Ивановича, и, блеснув глазами, спросила. – А как вас зовут?
– Модест Иванович.
– Очень мило… очень. Ну, пожалуйте.
Модест Иванович вздохнул и покорно пошел за пассажиркой по проходу, вдыхая запах духов и пудры, дразнивший и волновавший его.
В тамбуре пассажирка открыла дверь и села на ступеньку вагона. Ветер затрепал ее газовый шарф, шлепнул его концом по коленям Модеста Ивановича. Он вздрогнул от чуть слышного прикосновения ткани и покраснел.
Пассажирка запрокинула голову назад и, показывал мелкие беличьи зубы, сказала:
– Знаете ли, Модест Иванович, вы меня ужасно заинтересовали. Ужасно! У вас такой милый вид. Я очень боюсь в дороге знакомиться. Теперь развелось столько ужасных людей. Но вы произвели на меня самое лучшее впечатление. Я чувствую, что вам можно верить. Вы едете на курорт? Вы служащий?
Она щебетала быстро, с лукавым прищуриванием глаз, и ее голос, фигура, глаза, улыбка очаровывали Модеста Ивановича с каждой минутой все прочнее. Он немного помедлил с ответом на ее последние вопросы, обдумывая, что сказать такой милой, ласковой и прелестной женщине.
– Видите… – Он замялся. – Простите, я не знаю, как вас называть?
– Меня зовут Клавдией, – ответила пассажирка.
– А по отчеству?
– Нет, нет! Называйте меня без отчества: просто Клавой. Я маленькая, и мне хочется, чтобы со мной обращались, как с маленькой. Я люблю, чтобы мои друзья звали меня Кла-авой, – протянула она нараспев.
Модест Иванович беспомощно потупился.
Голос, вкрадчиво-нежный, томительный и льстивый, это требование звать полчаса назад еще совершенно чужую женщину уменьшительным именем – наполняли его предчувствием необычайного. Он провел языком по пересохшим губам.
– Да что же вы стоите, садитесь тут, – предложила Клава, отодвигаясь к поручням вагона.
Модест Иванович неловко, цепляясь за поручни и зажмурившись, – у него кружилась голова от мелькания шпал под вагонами, – сел рядом с ней.
– Ну, рассказывайте! Вы лечиться или отдыхать?
Модест Иванович прокашлялся.
– Собственно говоря, я даже не знаю, как вам объяснить… Я совсем не на курорт. И не лечиться, и не отдыхать… Я, как бы это выразиться… я… ну, беглый!
– Как! – вскрикнула изумленная Клава. – Вы беглый? Боже, как это интересно! – Она теснее придвинулась к Модесту Ивановичу. – Беглый! Откуда вы бежали? Из тюрьмы? Вы убили кого-нибудь? Вашу жену? Из ревности?
Модест Иванович вспыхнул и сделал протестующий жест.
– Нет, вы меня не поняли. Я никого не убивал.
– Ах, простите. Я глупая, я не поняла. Вы бежали. – Она оглянулась и, понизив голос, приближая губы вплотную к уху Модеста Ивановича, шепнула сквозь лязг колес. – Вы бежали из гепеу. Вы, вероятно, бывший граф или князь… Я сразу угадала. У вас такое лицо.
Модест Иванович нахмурился.
– Я честный гражданин, – ответил он почти сурово, – никакой не граф, и фамилия моя – Кутиков. И бежал я вовсе не из тюрьмы и не от гепеу.
– Ну вот! От кого же еще можно бежать? – Разочарованно проворковала Клава, выпятив губы.
Модест Иванович испугался, что она встанет и уйдет от него.
– Я бежал от жены, – вставил он поспешно.
Глаза Клавы округлились.
– От же-ены? Что вы говорите? Это тоже восхитительно. Тогда мы с вами прямо товарищи. Я тоже почти бежала от мужа. Собственно, он мне даже не муж, а так… Но он мне надоел, и я убежала от него месяца на два. Конечно, с его согласия. Но это дела не меняет. Расскажите, почему вы бежали от вашей жены? Это так меня интригует! Ужасно!
Модест Иванович помолчал, подбирая мысли, чтобы начать рассказ. Клава торопила его, теребя за рукав:
– Да ну же, ну! Рассказывайте. Экий копун!..
И, подстегиваемый восхищенными, беспрерывными понуканиями соседки, Модест Иванович, на ступеньке вагона, над уносящимися назад шпалами, рассказал ей историю своей жизни от начала и до последнего дня в родном городе.
– Ну, вот и еду. Даже не знаю куда… Наобум! Только знаю, что туда, домой, я не возвращусь. Ни за что, – решительно закончил он.
– Бедненький, – сказала Клава, похлопав его по руке. – Как мне вас жаль!.. Вам нужен сейчас друг. Да, да, именно друг и именно женщина. Мужчины такие бесчувственные… Хотите, я буду вашим другом?
Модесту Ивановичу показалось, что вагонная подножка оторвалась и он с бешеной быстротой летит в звенящую пропасть.
Клава дотронулась до его щеки.
– Ну, что же?.. Хотите?
– Спасибо!.. Но только… боже мой! – вскрикнул Модест Иванович. – Я – такой… скучный, неинтересный, а вы такая… такая… – он захлебнулся, – такая чудная.
Клава сняла с Модеста Ивановича каскетку и, трепля его соломенные волосы, прощебетала:
– Вы мне очень нравитесь, очень. Мы – друзья.
6
Пообедав в Александровне и распив для крепости дружеского союза бутылку «Шато-Икем», Модест Иванович, после отхода поезда, опять устроился в тамбуре вместе с Клавой.
Клава смеялась, нежно глядела, пела вполголоса песенки Вертинского слабым глуховатым голоском.
Модест Иванович стоял и таял. Клава казалась ему неземным существом, и вся она, от стриженой сухощавой птичьей головки до острых кончиков лакированных туфель, была особенно желанно милой, но коснуться ее было страшно.
В оловянное ваше сердце
До сих пор не попал никто… —
вкрадчиво пела Клава, опуская на щеки густо начерченные ресницы и вскидывая из-под них на Модеста Ивановича неизъяснимый взгляд.
Внезапно прервав пение, она сказала:
– Боже мой! Вы опять стоите? Вот чудачок? Здесь же есть место.
Она подвинулась.
Модест Иванович затоптался. Ему и хотелось сесть, и какой-то внутренний голос невнятно предостерегал.
– Ха-ха-ха! – брызнула капельками смеха Клава. – Вы боитесь? Это вас так напугала ваша жена? Но я же не похожа на нее? А может быть, похожа? Ай, какое несчастье!
– Нет, нет, что вы?! Разве можно сравнить? – задохнувшись набежавшей в рот слюной, пролепетал Модест Иванович.
– Да ну? Значит, я лучше? Да? Какой вы милый! Ну, садитесь же.
Модест Иванович сел.
На узеньком сиденье было тесно. С одной стороны от двери вагона продувал острый ветерок, с другой мягкой теплотой давило сквозь дым батиста бедро Клавы, и у Модеста Ивановича было ощущение, словно к одному боку приставили пузырь со льдом, а к другому горчичник. От этого он заерзал и не смел поднять глаз.
– Вам неудобно? Возьмите меня за талию! – приказала Клава.
Модест Иванович послушно и неловко положил пальцы на ее спину.
– Итак, вы, значит, не знаете даже, куда ехать? Бедненький! Но ведь нужно же вам придумать место назначения, – продолжала Клава и, помолчав, предложила. – Хотите ехать со мной? Я еду в Балаклаву. У меня там дело, мне обязательно нужно туда. А вам ведь все равно. А я не хочу расстаться с вами. Я так к вам привязалась, вы такой ми-ивый, – протянула она, ставя «в» вместо «л» в слове «милый».
Модест Иванович вздрогнул и быстро взглянул на Клаву. Неужели он не ослышался? Неужели? И торопливо, чтобы она не успела передумать, вскрикнул:
– Конечно! Конечно, мне все равно куда. Я тоже хочу… быть возле вас, – тихо и стыдясь сказал он.
Клава подняла к его губам свою ладонь, и Модест Иванович клюнул ее носом. Клава замолчала.
Звон и лязг под полом вагона редел, поезд замедлял ход.
Клава лукаво пропела:
Огонек синевато-звонкий,
И под музыку, шум и гам
Ваше сердце на нитке тонкой
Покатилось к его ногам.
Грохоча роликами, откатилась дверь тамбура, и в нее протиснулся широкоплечий обер поезда. Увидев Модеста Ивановича и Клаву, он приветливо осклабился.
– Задержка, граждане. На полустанке простоим два часа. Так что, ежели желаете, можете погулять по степу при луне.
– А что случилось? – спросила Клава, вставая, и в ее вопросе Модесту Ивановичу послышалась тревога.
– Да ничего такого. Платформа впереди опрокинулась. Убирають, – ответил обер, проходя в вагон.
Клава вздохнула.
– Пойдемте, в самом деле, погуляем. Ночь чудная такая, не стоит сидеть в вагоне.
Модест Иванович спрыгнул на дощатую платформу полустанка, едва остановился поезд, и подхватил Клаву.
Они прошли мимо красной добродушной водокачки и станционного баштана – и вышли в степь.
Вдоль путей тянулись шпалеры желтой акации. Ее вырезные листики дрожали в сумраке с тонким шелестом, словно бесчисленные крылья стрекоз. Рельсы блестели лентами серебряного серпантина, брошенными в степное марево. Ковыли бледно пушились под ногами, переливаясь волнами… Волнующей горечью плыл полынный запах.
Далеко за мягкими шапками курганов горела широкая полоса искрами рассыпанного сахара. Искры дрожали, плыли, мельтешили в глазах.
– Сиваш, – шепнула Клава, указывая на этот мелькающий блеск. – А завтра увидим настоящее море.
Она крепче прижала поддерживающую руку Модеста Ивановича и заглянула снизу ему в лицо дикими козьими глазами.
В них был такой же дрожащий блеск, как в далекой воде Сиваша. Он тревожил, томил и лишал сил.
Модест Иванович остановился.
– Вы устали? – спросила Клава.
Модест Иванович с усилием повернул присохший к зубам язык.
– Н-нет, – сказал он, заикнувшись и подрагивая нижней челюстью, – н-нет. У меня голова кружится.
– Ну? Неужели? – прошептала Клава, придвигаясь еще ближе. – Отчего же? Это, наверное, от полыни, – безжалостно-наивно сказала она, с такой же одичалой, как глаза, улыбкой.








