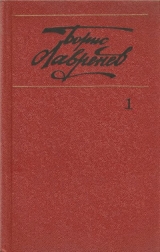
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 42 страниц)
– Ты!.. Передай этому нехристю – ежели так, пущай сам копается. А не хочет – придется трубу выламывать.
Лейзер, оцепенев, перевел.
ОʼХидди тряхнул головой.
– Хорошо! Я пойду доложу капитану.
Он взбежал по трапу и исчез в люке. Пров Кириакович хотел потянуть еще раз, но канадец со шрамом угрожающе поднял стиснутый кулак, и Быков остался недвижим.
В люке снова появилась голова ОʼХидди.
– Мистер Цвибель, поднимайтесь и попросите с собой мистера Бикофа. Капитан желает говорить с вами.
Пров Кириакович плюнул, чертыхнулся и полез наверх.
Капитан Джиббинс стоял у люка и смотрел на Быкова холодными прищуренными глазами. Он попросил объяснить ему, что случилось, и, выслушав рассказ Лейзера, сказал неторопливо и скучающе:
– Выломать трубу я не могу позволить без согласия владельцев груза и хозяина. Я пошлю сейчас срочную телеграмму в Нью-Орлеан. А пока пробуйте так или иначе освободить мальчишку.
Быков в бешенстве полез вниз. В трубу лили еще масло, пробовали тянуть то быстрыми рывками, то медленно и осторожно, но каждое дерганье причиняло Митьке невыносимую боль, и кочегарка снова оглашалась дикими воплями. Митька рыдал и просил лучше убить его сразу.
Так тянулось до вечера. Вечером Быков, исчерпав весь запас ругани, ушел на берег. Кочегары тихо переговаривались, прислушиваясь к глухим всхлипываниям.
– Он долго не выдержит, – мрачно сказал канадец, – я говорю, что надо распиливать трубу ацетиленом.
– Джиббинс не позволит, – отозвался другой кочегар.
– Сволочь! – хрипнул канадец и ударил кулаком по трубе!
8
Утром капитан Джиббинс получил ответ на срочную телеграмму.
Он прочел его у себя в каюте, и лицо его каменело с каждой строчкой. Хозяин телеграфировал, что он не допускает никакой задержки из-за какого-то паскудного русского мальчишки и возлагает всю ответственность за последствия опоздания на Джиббинса.
«Мы всегда найдем в Америке капитана, который сумеет более преданно соблюдать интересы фирмы», – кончалась телеграмма.
Капитан Джиббинс закрыл глаза и, как наяву, увидел жену и двоих ребят. Его лицо дернулось. Резким движением он разодрал листок телеграммы и вышел на палубу. Там перед ОʼХидди стоял Быков и, размахивая руками, что-то горячо объяснял Цвибелю. Цвибель увидел капитана и впился в него жалким, оробелым взглядом.
– Мистер капитан, вы уже имеете ответ из Америки?
– Да, – сухо ответил Джиббинс, – переведите мистеру Бикофу, что я не задержусь ни на один час. Сегодня вечером топки должны быть зажжены, а завтра утром мы уйдем. Если по вине мистера Бикофа этого не случится – ему придется оплатить все убытки компании и мои.
Быков стиснул кулаки и пустил крепчайшую ругань.
– А ты ж, треклятый ублюдок! Хоть бы ты сдох в трубе, сукин сын.
Лейзер отшатнулся.
– Что такое вы говорите, Пров Кириакович, что даже совсем страшно слушать. Разве на ребенке есть какая вина, чтоб он помер в таком нехорошем месте?
– Пошел ты к черту! – рявкнул Быков.
Капитан Джиббинс хотел уйти в каюту, но его остановил кочегар со шрамом, вылезший на палубу из машинного люка.
– Извините, сэр, – сказал канадец, – люди просят разрешения разрезать трубу. Больше ждать нельзя, мальчик едва дышит. Мы…
Бритые щеки Джиббинса слегка порозовели. Не повышая голоса, он ответил:
– Запрещаю.
– Но это убийство, сэр, – угрожающе надвинулся канадец, – мы этого не допустим. Мы разрежем трубу без вашего согласия.
– Попробуйте! – еще тише сказал Джиббинс. – Вы знаете, что такое бунт на корабле, и знаете, что по этому поводу говорит закон. Прошу вас… Я не дам двух пенсов за вашу шкуру. Понятно?
Шрам на щеке канадца налился кровью. Он обжег Джиббинса горячим взглядом, круто повернулся и скрылся в люке.
– Приглядите за людьми, ОʼХидди. Вы отвечаете за машинную команду, зло бросил механику Джиббинс и ушел в каюту.
Быков и Цвибель спустились в кочегарку. Митька уже не отвечал на оклики и только чуть слышно стонал. Колокол позвал команду к обеду. Кочегарка опустела. Быков нагнулся к трубе и долго прислушивался. Потом выпрямился и решительным движением надвинул картуз на брови.
– Идем к капитану, – приказал он Цвибелю и полез наверх.
Капитан Джиббинс жевал бифштекс и уставился на Быкова и Цвибеля спокойными, бесстрастными глазами.
– Вытащили? – спросил он, отрезав кусок сочащегося кровью мяса.
– Ничего не выходит, мистер капитан. Ой, какой страшный случай, – начал Лейзер, но Быков оборвал его. Он оперся руками на стол, и бурачное лицо его внезапно побледнело.
– Ты скажи ему, Лейзер, – заговорил он тихо, хотя-никто не мог понять его, кроме Цвибеля, – скажи ему, что вытащить стервенка нельзя, а я платить протори не могу. Откудова ж у меня такие деньги? – Быков остановился, шумно вобрав в грудь воздух, и с воздухом глухо выдохнул: Пусть затапливает топки с им вместе.
Лейзер охнул:
– Ой, Пров Кириакович! Разве можно такие шутки? Как я скажу такое американскому капитану, чтоб убить ребенка жаром? Лучше вы сами делайте что хотите, а я не могу. От меня и детей моих бог откажется за такое дело.
Быков перегнулся через стол.
– Слушай, Лейзер, – прошипел он, – я не шутю с тобой. Я не хочу пойти по миру из-за выскребка. Вот мое слово: если не скажешь капитану, кладу крест, расскажу господину приставу, как ты в запрошлом году ходил по Дерибасовской с красным флагом и кричал против царя.
Лейзер почувствовал холодное щекотание мурашек, пробежавших по спине, но попытался еще сопротивляться.
– Ну и что такое? – сказал он с жалкой и больной улыбкой. – Господин пристав ничего не скажет. Какой еврей тогда не ходил с красным флагом и не кричал разные глупости?
– Глупости? Про орла забыл? Думаешь, я не знаю.
Лейзер отшатнулся. Это был оглушительный удар. Значит, Быков знает об этом. О том, что Лейзер тщательно скрывал все время и думал, что это поросло травой забвения. О том, что он, Лейзер Цвибель, вместе с разгоряченными студентами сорвал лепного орла с аптеки на Маразлиевской и в забвенном исступлении топтал ногами его черные крылья. Это было гораздо страшнее красного флага. Лейзер закрыл глаза, а Быков продолжал шипеть:
– А Шликермана помнишь?
Цвибель простонал. Он вспомнил изуродованное тело Шликермана, до смерти забитого городовыми в участке, горько и глубоко вздохнул и решился.
– Грех вам, Пров Кириакович… Ну хорошо… Я скажу капитану.
Пока он переводил капитану Джиббинсу слова Быкова, у него тряслись руки и дрожали губы. Джиббинс выслушал молча. Ни одна черточка не шелохнулась на его гладком лице. Он вынул изо рта трубку и медленно ответил:
– Скажите мистеру Бикофу, что это его дело. Мальчишка его и предприятие его, Пусть устраивается, как знает… если сумеет сохранить все в тайне от моей команды и как-нибудь обмануть людей. Я ничего не слыхал и ничего не знаю. Но вечером топки будут зажжены.
Быков поджал губы и вышел с Цвибелем на палубу. Бирюзовые тени вечера ложились на штилевой рейд. Стояла вечерняя тишина, разрываемая только криками чаек, дерущихся на воде из-за отбросов. Быков повернулся к Цвибелю и, наливаясь кровью, прошептал дико и грозно:
– Если одно слово кому – запомни: со света сживу.
9
В кочегарке не было никого, кроме мальчишек. Американцы еще не вернулись с обеда. Мальчишки, перешептываясь, стояли около трубы, в отверстие которой засунул голову Петька.
Быков схватил Петьку за оттопыренный на спине брезент и рванул к себе. Петька вытаращил в испуге глаза, белые, как пуговицы, на черном лице.
– Ты чего тут засунулся, стервец? Опять лайдачите? Всех поубиваю к чертовой матери! – зарычал Пров Кириакович, приподняв Петьку на воздух.
– Дак мы пошабашили, Пров Кирьякич! – взвизгнул Петька. – Зараз все трубы кончили, ей-же-ей. Кабы не «Крыса», все б раньше часу сробили.
Пров Кириакович оглянулся на квадратную дыру люка вверху, над которой синело небо, подтащил Петьку к себе и забормотал:
– Чичас полезай в трубу к «Крысе». На, завяжи веревку себе на ногу и полезай. Как гличане с обеда придут, я тебя тащить оттеда буду, а ты кричи в голос. Неначе ты не Петька, а «Крыса».
– Зачем, Пров Кирьякич?
– Ты еще поспрашивай!.. А как вытащу – реви коровой, будто с радости. Ну, марш! А то в два счета к чертовой матери! А вы – молчать в домовину, бо десять шкур поспускаю! – крикнул он трем остальным.
Петька исчез в трубе, из которой свисала веревка. Отверстие люка наверху потемнело, и по перекладинам трапа загремели шаги спускающихся американцев.
Цвибель шумно вздохнул и осмелился притронуться к локтю Быкова.
– Пров Кириакович, – выдавил он, дрожа, – ужели ж вы себе хотите так загублять невинное дите?
Быков взглянул на него.
– И до чего ж вы жалостливая нация! – сказал он с презрительным недоумением. – Должно, с того вас и бьют во всех землях… – И вдруг вскипел злобой, прикрикнул: – Твой, что ли? Твое какое дело? Я его нашел я за него и ответчик. Все одно у него никого – бездомный, никто не спросит. А спросят – скажу: сбег, уехал с гличанами. Пшел!
Лейзер отпрянул. Спустившиеся кочегары приблизились к трубе. Быков, крякнув, ухватил веревку и, натужась, потянул.
Петька в трубе завыл. Веревка стала подаваться.
– Тащи!.. Тащи! – заорал Быков, и кочегары, поняв, тоже ухватились за конец. Показались Петькины ноги, зад, и наконец выскользнуло все тело. Растопырив руки, Петька грохнулся лицом в железный пол, усеянный острыми комьями шлака.
Он сильно расшиб лоб и разревелся уже непритворно. Кочегары, загалдев, подхватили его и поволокли по трапу на палубу.
Канадец платком стер кровь с расшибленного Петькина лба и хотел вытереть все лицо, покрытое жирным черным налетом смазки, но Быков вырвал мальчика из его рук и потащил к сходне. По дороге он наткнулся на вышедшего на шум ОʼХидди.
– Что случилось? – спросил механик.
Канадец, торопясь, объяснил ему, что мальчика удалось вытащить.
ОʼХидди подошел к Быкову. Ему захотелось сказать спасенному что-нибудь ободряющее и ласковое. Он прикоснулся ладонью к слипшимся Петькиным волосам. Петька повернул голову, открыл рот, и механик увидел черные испорченные зубы, нисколько не похожие на блестящий частокол зубов Митьки. ОʼХидди отнял руку и с недоумением проследил за Быковым, стремительно сбежавшим на пирс, таща за собой Петьку. Когда тот скрылся за углом пакгауза, механик отошел от борта и спустился в кочегарку.
Мальчики, собрав инструмент, тоже собирались уходить.
ОʼХидди подождал, пока они взобрались наверх, взял багор и глубоко просунул его в трубу. Багор наткнулся на мягкое препятствие, и ОʼХидди услыхал чуть слышный звук, похожий на жалкое мяуканье.
Он отбросил багор и в несколько прыжков одолел трап. На палубе он умерил шаги и постучался в дверь капитанской каюты.
Джиббинс удивленно посмотрел на механика, на бледное лицо с расширенными васильковыми глазами, на капли пота на лбу.
– Что с вами, Дикки? – спросил он.
Механик задыхался.
– Фред!.. Совершено преступление. Этот негодяй Бикоф обманул нас. Он вытащил из трубы другого мальчика. Тот остался там. Он уже почти умер, он не может даже ответить…
Капитан Джиббинс вертел в руке трубку. Лицо его стало очень неподвижным и тяжелым.
– Я так и думал, – медленно произнес он.
Механик отшатнулся.
– Как? Вы знаете это?
– Не знаю, но я предполагал. – Джиббинс зажал трубку в зубах и, чиркнув спичкой о подошву, медленно разжег табак. – Но это все равно. У нас нет выхода. Мы должны уйти завтра утром, как только погрузим последний мешок жмыха. В десять вечера вы разожжете топки.
– Вы с ума сошли! А ребенок?
Капитан Джиббинс поднял голову. Глаза у него стали зеленовато-холодными, как кусочки льда.
– Выслушайте меня, приятель! Если я не исполню приказа хозяина, меня вышвырнут и занесут в черный список. Ни одна компания не возьмет меня на работу. Вы холостяк. У меня есть дети и жена. Я знаю, что совершено преступление, если смотреть на вещи с точки зрения общей морали. Но в данном случае я смотрю с точки зрения личной морали. Я человек и не хочу, чтобы моя семья подохла под забором. Мне дороги мои дети. Может быть, вы не поймете этого, но, когда я думаю о том, что будет с моими детьми, я принимаю на себя ответственность… И вы не захотите сделать моих детей такими же отщепенцами и нищими, как этот мальчишка…
– Но команда…
– Команда не узнает ничего, если вы ей не скажете. А вы не скажете потому, что не захотите смерти моим детям. Мальчика все равно уже не спасти. Еще два-три часа, и он задохнется… В десять мы засыпаем уголь в топки. Это приказ!
ОʼХидди стиснул виски. Ему показалось, что голова у него раздувается, как резиновый шар, и сейчас лопнет.
– Хорошо!.. Я буду молчать. Да простит господь мне и вам, Фред!
«Мэджи Дальтон» вышла из одесской гавани ровно в полдень, взяв полный груз. На пирсе было пустынно, и только у пакгауза жалась скорченная фигура в длинном потертом сюртуке. Лейзер Цвибель пришел проводить пароход, потому что у него было девять голодных детей и жалостливое к детям, никому не нужное сердце. Когда «Мэджи» свернула за выступ мола, он ушел с пирса, унося на согбенной спине никому не видимый страшный груз.
10
«Мэджи» благополучно прошла Босфор и Гибралтар. Машины работали хорошо, взятый в Одессе уголь был отличного качества, люди работали превосходно, и только старший механик ОʼХидди с утра напивался до одурения и лежал у себя в каюте опухший и страшный.
За Гибралтаром «Мэджи» вступила в Атлантику на путь, проложенный пять веков назад упрямым генуэзцем, и в первую же ночь механик ОʼХидди на глазах вахтенных матросов прыгнул со спардека за борт. Погода была свежая, ветер гнал тяжелую волну, и шлюпки спустить было рискованно. Капитан Джиббинс отметил этот печальный случай короткой записью в вахтенном журнале.
Одиннадцать дней «Мэджи» резала океанскую волну и на двенадцатый встала у родного причала в гавани Нью-Орлеана.
Хозяин вместе с главой фирмы Ленсби, сухим джентльменом в белом цилиндре по летнему времени, взошел на палубу поблагодарить капитана Джиббинса за удачный рейс и образцовую службу.
– Мы даем вам, кроме премии, еще специальную награду, и мистер Ленсби, со своей стороны, тоже нашел нужным премировать вас за усердие… Кстати, как вы развязались с этой заминкой в Одессе?
Капитан Джиббинс поклонился.
– Благодарю вас. Это пустяк. Не стоит и вспоминать, – ответил Джиббинс.
На нем, как всегда, была синяя фуражка с галунами и в зубах капитанская трубка с изгрызенным мундштуком. Лицо капитана Джиббинса было гладким и спокойным.
Ночью, когда отпущенная команда съехала на берег и на пароходе остался лишь один вахтенный, капитан Джиббинс спустился в кочегарку. Задраив люк на все барашки, он взял длинную кочергу и запустил ее в отверстие трубы. Он долго ковырял ею в глубине трубы. На железный решетчатый пол выпало несколько обгорелых костей, потом с гулким и пустым стуком вывалился кругляшок маленького черепа. Запущенная еще раз кочерга выволокла что-то звонко упавшее на пол.
Джиббинс нагнулся и поднял небольшую железную коробочку, в каких упаковываются дешевые леденцы. Коробка была покрыта темным нагаром. Капитан вынул нож и, подсунув под крышку, открыл коробку. На дне ее лежало несколько медных пуговиц и черный от огня доллар. Джиббинс захлопнул коробку и сунул ее в карман. Потом опустился на колени, разостлал платок и собрал в него кости и череп. Выйдя на палубу, он подошел к борту и бросил связанный узлом платок в черную, чуть колышущуюся воду.
В каюте он подошел к столу, взял бутылку виски, налил полный стакан и поднес ко рту, но не выпил. Постоял минуту, провел рукой по лицу, как будто стирая дрожь мускула под скулой, и, подойдя к открытому иллюминатору, выплеснул виски за борт.
Утром, съехав на берег, капитан Джиббинс зашел к знакомому ювелиру и попросил впаять темный обожженный доллар в крышку своего серебряного портсигара.
– Откуда у вас эта штука, Джиббинс? – спросил ювелир, вращая доллар в пухлых пальцах.
Капитан Джиббинс нахмурился.
– Мне не хочется об этом рассказывать. Неприятная история. Но я хочу сохранить эту монету на память.
Он вежливо простился с ювелиром и вышел на улицу. Он шел домой, радуясь тому, что сейчас увидит жену и детей и осчастливит семью известием о премии, полученной за срочный фрахт. Он был спокоен и уверен в завтрашнем дне и твердо шагал среди шума и грохота улицы мимо домов, за зеркальными стеклами которых, прикрытыми до половины зелеными шелковыми занавесками, закипала сухая, щелкающая костяшками счетов, размеренная работа человеческой жадности.
Сочи, август 1925 г.
ТАРАКАН
1
По коридору, мимо двери в бывший кабинет, нужно проходить на цыпочках, с осторожностью, уподобляясь крысе, пробирающейся через чулан за кусочком сыра, завернутым в промасленную бумагу на полке. За дверью, в кабинете, новый жилец Степан Максимыч, коммунист и большая шишка в городе.
До Степана Максимыча в кабинете жила регистраторша отдела благоустройства, Анна Павловна. Прожила три года, за три года вписала для процветания государства в толстые книги сорок одну тысячу входящих, по утрам, перед уходом на службу, пудрила большеглазое лицо, любила обливаться холодной, леденящей водой и по вечерам, когда не ходила в кинематограф, пела под гитару интимные песенки со всем жаром девятнадцати полнокровных лет. Вообще же была тихая и уютная.
И вдруг бросила толстые книги и уехала в Москву с ассистентом знаменитого режиссера, заехавшим на неделю в древний губернский город заснять обросшие мхом крепостные стены для боевого фильма.
Нашел ассистент у Анны Павловны замечательную фотогеничность в лице, а вернее, понравилась ему, кургузому, Анны Павловны высокая грудь и крепкие ножки. Так хозяин квартиры, Сергей Сергеич Бегичев, думает, но ассистент говорил Анне Павловне о звездном пути экрана, а о груди и ножках не упоминал. А мною ли нужно для обмана неопытной невинности?
Уезжая, Анна Павловна по просьбе знакомого работника губкома передала свою комнату приезжему из Питера красному директору спичзавода Степану Максимычу.
Сергею Сергеичу об этом сказала только накануне отъезда, укладывая вещи в продранный холщовый чемодан. Сергей Сергеич растерялся, затряс бороденкой и усиками, похожими на вываренную вермишель, прилипшую из супа на губы и подбородок, и сказал, расстроясь:
– Вот этого, Анна Павловна, извините, от вас не ждал. Считал вас за интеллигентную барышню с правилами и не думал, что мне свинью подложите. Не нужно мне в дому коммуниста. Один беспорядок и беспокойство от них, ровно как от тараканов. Благодарю покорно.
И посмотрел с укоризной на большеглазое лицо Анны Павловны, но она как будто и не слыхала. Видела уже перед собой звездный путь экрана, опьяняющее потрескивание аппарата и свое лицо с выражением нежной печали на крупном плане перед тысячами зацепившихся за волшебное полотно глаз.
А жена Сергея Сергеича, Кира, помогавшая Анне Павловне укладываться, передернула жаркими и прекрасными своими плечами и проронила с ленивой досадой:
– Оставь ты Нюту в покое, скрипка несчастная. Не до тебя.
Сергей Сергеич обиделся. Стал было доказывать степенно и неторопливо, что человек скрипкой быть не может, потому что скрипка неодушевленный музыкальный предмет, а человек подобие творца вселенной и наделен частицей святого духа, но Кира взяла его за плечи, подвела к двери, захлопнула за ним и заперла на задвижку. Сергей Сергеич постоял секунду у двери, хотел было рассердиться, но заметил на полу лоскут суконки, подобрал его и отправился на кухню.
– Возьми, Марфутка, спрячь, – сказал он, подавая суконку стряпухе, – пригодится на штиблеты лоск навести. Швыряетесь суконками. Шалыганы!
Анна Павловна уехала утренним поездом, а к вечеру, приехал из гостиницы, с двумя кожаными чемоданами, новый жилец. Степан Максимыч долго звонил у парадного, Сергей Сергеич нарочно велел Марфутке подольше не отпирать, а Киры дома не было. Наконец приехавший прошел с черного хода. Сергей Сергеич встретить жильца не вышел. Сидел в столовой, набивал вторую тысячу папирос и злорадно думал:
«Повозись, повозись… Ты думаешь, я так тебе сейчас навстречу побежал: позвольте, мол, многоуважаемый красный директор, ваш чемоданчик… дозвольте я вам постельку застелю. Нет, ты сам все сделай. Не трудящийся не ест. Сами придумали. И звание тоже – красный директор. Все у них красное. Даже завод „Красная синька“. Синька – и красная. Эх, непутевые!»
Папиросы шурша валились из-под машинки в коробку. За стеной было слышно, как новый жилец возил чемоданы по полу, передвигал мебель. Марфутка прошлепала туфлями по коридору к двери жильца. Сергей Сергеич положил машинку, встал, тихонько открыл половинку двери, высунул нос, прислушался.
Глуховатый голос прожурчал из кабинета: «Вот тут и тут, товарищ Марфуша. Вытрите почище, а то пыльно».
Сергей Сергеич вздыбил вермишель над верхней губой и визгливо позвал:
– Марфу-у-тка!
Марфутка выбежала из кабинета с подоткнутой юбкой и тряпкой в руках. Сергей Сергеич поманил ее пальцем в столовую, плотно припер за ней дверь.
– Ты ж у кого служишь, у меня или у него? Тебе кто позволил пыль стирать?
Марфутка недоуменно мигала белесыми ресницами и смотрела на лоб Сергея Сергеича испуганным взглядом. Переступила с ноги на ногу и прошептала:
– Так ежели ж оны просют.
Сергей Сергеич всплеснул руками.
– Оны просют!.. Вот дуру и видно. Себя не жалко.
Марфутка еще испуганнее впилась в лоб барина.
– Ты знаешь, лопоухая, кто он? Знаешь? Коммунист он. А они все на девок лакомы. У каждого мандат есть любую девку портить. Он тебе про пыль зубы заговаривает, а потом, глядишь, и затяжелеешь. Куда с ребенком денешься?
Марфутка уронила тряпку. Сергей Сергеич добавил:
– Ты скажи ему, что барин в лавку посылает, не могу, мол, вытрите сами. А когда звать будет комнату убирать, ты на юбку свячёной водой брызгай. Он этого боится и не тронет.
Марфутка подобрала тряпку, с ужасом опустила подоткнутую юбку и выбежала. Сергей Сергеич услышал, как, открыв дверь кабинета, но не входя, она сказала жильцу:
– Сами подтирайте. Меня барин в лавку посылает, – и быстро пробежала на кухню. Сергей Сергеич ласково усмехнулся и вставил в машинку новую папиросу.
К чаю вернулась Кира. Сергей Сергеич хотел рассказать ей, как задал острастку красному директору, но почему-то удержался и только на вопрос Киры, приехал ли новый жилец, ответил с ядовитой усмешечкой:
– Изволили прибыть.
После трех чашек чая Сергей Сергеич ушел в спальню, сбросил заячьи туфли, снял брюки. Посидел несколько секунд, размышляя, на кровати в розовых триковых кальсонах и, откинув одеяло, залез в кровать. Придвинул ближе лампочку и взял со столика истрепанный том юмористического приложения к «Родине» за 1895 год. Кира сидела в столовой, шила узор на шелковой салфетке.
Сергей Сергеич пробежал глазами привычные анекдоты и смешные стишки про атлета, уронившего гири в пятом этаже, отчего гири провалились сквозь весь дом. Каждый день прочитывал эти стишки перед сном. Отложил книгу и зевнул. Повернулся, позвал Киру:
– Кирочка! Иди спать!
Кира ответила недовольно и сурово:
– Ну, и спи, если тебе хочется. А ко мне не лезь.
Сергей Сергеич вздохнул, перекрестился на икону Ивана Воина, подоткнул под себя аккуратно одеяло и погасил лампу.
2
Люди женятся по-разному. Кто из любви, из бешеной, не рассуждающей, не знающей преград и препятствий бури, родившейся в сердце, другие по здравому и осторожному голосу расчета, иные от скуки, некоторые от тоски одиночества и от того, что некому пришить третий год как оторвавшуюся пуговицу на жилете.
Сергей Сергеич женился из самолюбия. В древнем губернском городе, где по наследству от папаши владел Сергей Сергеич крупнейшим мануфактурным магазином «Бегичев и сын», росла гимназисточка Кира Соловьева. И не успел город опомниться, как к семнадцатой весне распустилась девчонка Кира в ослепительную красавицу. Посмотрят на нее люди и глаза даже зажмуривают, как от солнца. И стали на Киру зариться губернские лоботрясы, чиновники особых поручений, молодые судейские, офицеры кавалерийского полка. Всякому лестно оборвать первые лепестки с такого бутончика. Попрыгали, попрыгали кругом и отошли. Не подпускала Кирина мать близко любителей розанчиков, а жениться на Кире никому было не в охоту. Была Кирина мать, вдова Соловьева, бедна, как старый облезлый шимпанзе, сидевший в клетке городского сада, и даже гимназию Кира кончила только благодаря начальнице, выпросившей для нее стипендию у городского головы. Расчетливых это отпугнуло, а бешеных, любящих ради любви, не нашлось в осторожном городе.
Однажды прогуливался Сергей Сергеич в воскресный вечер в городском саду с покровительным приятелем своим, чиновником особых поручений при губернаторе, Жоржиком Лонгиновым. Мимо, в скромном платьице, прошла Кира. Жоржик взглянул вслед и засвистал.
– Хороша Маша, да не наша. Даже в оскомину бросает. Никакой надежды нет. Не родился еще счастливчик.
Сергею Сергеичу запали на ум Жоржиковы слова. Навел через знакомую сваху справочки, однажды вечером отправился в гости в дом, где бывала вдова Соловьева. Подкатился к вдове со всем уважением, проиграл ей в преферанс два рубля семь гривен, домой отвез на своем рысаке. После несколько раз заезжал, привозил, как будто ненароком, всякие вкусные вещи в подарок. А на пятом визите выложил вдове честные намерения насчет Киры. Вдова вздохнула радостно, закраснелась и пошла к Кире. Сказала тихо:
– Я думаю, Кирочка, что отказывать не стоит. С виду не герой, неумен немножко, но тихий, порядочный. И тебе будет за ним спокойно, и я на старости вздохну свободно.
А Кира повела прекрасными жаркими плечами своими и совсем не взволнованным голосом ответила матери:
– А мне все равно, мама. Не он, так другой. Этот возьмет – по крайней мере благодарен будет, а другие норовят слопать и на улицу выгнать. Выбирать мне не из чего.
На мальчишнике Сергей Сергеич, высоко задрав вермишель бороденки, взглянул с сожалением на приятелей и хвастанул:
– Приуныли? Ау, Кирочка! Вот и благородные и образованные, а розочку сорвать не умели. В писании сказано: «Последние да будут первыми».
Приятели промолчали, только Жоржик скосоротился и похлопал Сергея Сергеича по плечу: «Женимся, брат».
После свадьбы в новенькой спальне подошел Сергей Сергеич поцеловать нареченную, она глаза закрыла и так до утра не открывала. И всю жизнь потом принимала любовь Сергея Сергеича с закрытыми глазами. Но Жоржа Лонгинова, после трех визитов в отсутствие Сергея Сергеича, выгнала из дому со следами пяти пальцев на вздувшейся щеке. Не оправдалась Жоржина надежда.
И только когда загудели багряным набатом сумасшедшие годы, стряслось что-то с вечно спокойной, как будто заснувшей в летаргии, Кирой. Начала запоем читать тоненькие книжки, коряво и наспех отпечатанные на царапающей пальцы бумаге, и на третий год пришла внезапно к Сергею Сергеичу и объявила, что уходит к комиссару дивизии Гордону и будет с ним жить.
Сергей Сергеич обомлел, задергался, стал доказывать священным писанием страшный Кирин грех: «Еже бог почета, человек не разлучает», – но Кира только плечами повела.
– Враки… Сказки ханжеские. Не хочу! Не могу больше с тобой разлагаться. Будто не с человеком живу, а с пилюлей.
Тут Сергей Сергеич обиделся и пригрозил Кире дедовским купеческим обычаем, шелковой плеточкой. И сам испугался. Подошла Кира бледная, схватила за воротник и выбросила из спальни, как щенка. А сама ушла к комиссару Гордону, в чем была.
Но оказался комиссар Гордон не настоящим. Запутался в каких-то казенных деньгах, и расстреляли его на рассвете за городом у известковой печи. Осталась Кира опять одна бедовать, как бедовала в детстве. Ходила прозрачная, голодная, оборвалась, но, как ни ждал Сергей Сергеич, к нему назад не шла.
Наконец не выдержал Сергей Сергеич – сам пошел. Приняла в нетопленной клетушке, кутаясь в платок, долго слушала нудную Сергея Сергеича речь и разрыдалась в заключение. Вытерла глаза и, не сказав ни слова, ушла с Сергеем Сергеичем на старое пепелище. Стала вновь Сергею Сергеичу женой, но еще плотнее глаза закрывала. Но Сергей Сергеич рад был. Вернулась в дом хозяйка, и соблазну на имени Бегичевых не стало.
3
Первый раз встретив нового жильца на следующее утро, в коридоре, вдавился Сергей Сергеич услужливо в стену, уступая проход. Жилец поравнялся и вежливо поздоровался:
– Будем знакомы. Мосолов.
Сергей Сергеич робко положил вялую руку в крепкую ладонь жильца. Жилец взглянул на него, оглядел сверху донизу, усмехнулся и прошел на кухню. А Сергей Сергеич, направляясь в свою лавку на базаре, не прежний магазин «Бегичев и сын», а крохотную лачугу, которую открыл после объявления свободной торговли, вспоминал облик жильца. Высокий и прямой человек. Складки темно-серого костюма тоже прямые и жесткие, а брюки спереди так заглажены, что, стоя против жильца в коридоре, Сергей Сергеич поджимал свои ноги. Казалось, что такими брюками можно подрезать встречному коленки, как косой.
В тот же вечер, когда легла Кира спать, прошел Сергей Сергеич проверить запоры на парадной двери. Не доверял новому жильцу, вдруг да что-нибудь случится. Возвращаясь на цыпочках мимо двери в кабинет, увидел в щелке свет, и потянуло неудержимо заглянуть, что делает этот человек в брюках-бритвах, чужой и враждебный. Сергей Сергеич нагнулся и прицелился глазом на замочную скважину. И едва взглянул в комнату, попятился, прилип к стене и быстро закрестился. Когда наклонялся, казалось, что увидит в комнате что-нибудь необычное, как в паноптикуме в стекле панорамы: «Битву русских с кабардинцами» или «Взятие Смоленска Баторием». И вправду увидел страшное, о чем рассказать лучшему другу было заказано. Прямо против двери, на стуле, широко расставив ноги, сидел жилец. На заглаженные, как ножи, складки брюк падал свет лампы, а в руке жильца колебался, поблескивая тусклым, вытянутый к двери тяжелый черный револьвер. Колебался и глядел в самое сердце Сергею Сергеичу безжалостным глазом дула.
Сергей Сергеич оторвался от стены, захватил обеими руками взбесившееся сердце и быстрой бесшумной иноходью добежал до постели и зарылся в одеяло. Его забила лихорадка.
А жилец, спрятав вычищенный револьвер, мушку которого проверял на кнопке, издавна вколотой в белую пленку, спокойно улегся, не думая даже, что вогнал хозяина в окончательный ужас. С того вечера стало законом жизни для Сергея Сергеича мимо двери в бывший кабинет пробираться без шума, сторожкой мышью. И хоть шла уже вторая неделя, Степан Максимыч был вежлив и не причинял никакого беспокойства, но Сергей Сергеич вздрагивал каждый раз, когда слышал его шаги или голос.
Уже в исходе третьей недели, вернувшись домой, Сергей Сергеич, как обычно, прокрался мимо двери и, облегченно вздохнув, взялся за дверную ручку столовой, как был поражен звуками мужского разговора. Он остановил вытянувшуюся руку и прислушался в недоумении.








