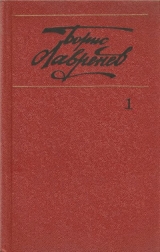
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 42 страниц)
«Кто бы это в неурочный час? – подумал он. – Может быть, дядюшка Артем Матвеич или благочинный Андрей, по дороге в собор на всенощную, удостоил посещением?»
Но голос не походил ни на старческое пришепетывание Артема Матвеича, ни на елейную речь отца Андрея. Крепкий и тугой, он отщелкивал слова, как метроном такты. Все еще недоумевая, Сергей Сергеич потянул дверь на себя и шагнул в столовую.
Шагнул и замер. Вермишель зашевелилась, а старые просторные штаны сами собой сползли еще ниже на порыжевшие ботинки.
На столе брызгал паром серебряный кофейник, янтарем желтело в хрустальной масленке масло, на тарелке пожали аккуратно нарезанные треугольники голландского сыра с алой оторочкой корки, а в конце стола, разбросав широкие угловатые плечи, сидел жилец Степан Максимыч и прихлебывал из чашки.
Сергей Сергеич шевельнул губами, пытаясь что-то сказать, но вместо этого жалобно не то икнул, не то пискнул.
Кира, сидевшая в кресле, привалясь к спинке, бросила на него рассеянный взгляд, а Степан Максимыч вдруг поднялся во весь рост и, показалось Сергею Сергеичу, надвинулся на него, как падающая гора. Сергей Сергеич даже руку поднял к груди, как будто защититься хотел от удара, и услышал неожиданно вежливые и простые слова Степана Максимыча:
– Простите, что вторгся в вашу столовую. С утра нездоровится, на завод не смог проехать, а голод дает себя знать. Взял смелость просить вашу супругу покормить меня. Простите.
И совсем ласково протянул руку. Сергей Сергеич свою с опаской подал, а вдруг нарочно притворяется добрым, да как сожмет, пальцы перекалечит. Но жилец чуть сжал и продолжает стоять и говорить Сергею Сергеичу:
– Сделайте одолжение, присядьте, а то что ж мы стоим? Мне неловко сесть, когда хозяин на ногах.
Так любезно сказал, будто и не коммунист, а покойный председатель казенной палаты Дуб-Щепилло.
Сергей Сергеич, будто в гостях, присел на краешек стула, а гость, напротив, свободно и тяжело опустился на свое место; допивая чашку, досказывал Кире о своей поездке за Полярный круг. Был послан устанавливать радиостанцию на каком-то шаре. И об оленях, белых медведях, песцах, моржах, северном сиянии, незаходящем солнце. Интересно рассказывал, но Сергей Сергеич сидел неспокойно, ерзал по сиденью, голову вытягивал и дышал с присвистом. У некоторых это всегда при волнении бывает, – дышит, а вокруг свист идет. Таких на войне на разведку не посылают, – неприятель за три версты дых слышит.
Жилец заметил, заторопился, бутерброд с сыром доел и вежливо откланялся.
– Извините за беспокойство. Поверьте, что только нездоровье заставило…
А Кира из кресла отозвалась:
– Почему же только нездоровье? Очень рады будем вас чаще видеть. Заходите вечером, когда свободны, или обедать приходите запросто. Вы много интересного видели и можете рассказать, а я люблю слушать. Жадная на впечатления. Своих в жизни почти не было, так я из других высасываю.
Жилец улыбнулся, еще раз откланялся и вышел. А Сергей Сергеич, вскочив, бочком подкатился к двери, прижал ее и повернулся к Кире. Даже руки у него заметались, как крылья.
– Кирочка! Как он сюда попал?
Кира, собирая посуду на столе, медленно разжала полные губы:
– Как? Просто. Пришел и попросил поесть. Не голодать же человеку, когда он болен.
Сергей Сергеич замотал головой.
– Я не про то. Почему не накормить? У них желудок тоже пищи просит. Только зачем в столовую пустила? Можно было в комнату подать.
Кира вздернула соболиные брови:
– А почему в столовой нельзя?
Сергей Сергеич запнулся:
– Ай, как же ты не понимаешь? Бог весть, кто он. Увидит вот, что у нас обстановочка приличная, хрусталь сохранился, серебро, едим по-человечески. Скажет в какое-нибудь гепеу или фининспектору: Бегичев нэпман, Бегичев богач. Сразу налогами задавят, обстановку отберут и с квартирой ему и отдадут. Куда пойдем? У них это просто – экспроприация грабежа.
Кира молчала, перемывая посуду, смотрела в окно на черную росталь улицы, закутанную туманом. Сказала как бы про себя:
– Он хороший человек.
Сергей Сергеич исподлобья взглянул на нее и уловил в лице, в фигуре, во всем что-то необъяснимое и пугающее. Он скривил губы в усмешку и проскрипел:
– Коммунистка… Одного Гордона мало, другого…
Он не договорил. Кира стремительно обернулась к нему и ожгла зрачками.
– Дурак! – сказала она без всякой злобы, и потому еще оскорбительней было это слово. – Упругий ты дурак, Сергей Сергеич!
Сергей Сергеич обиделся, захлопал ресницами и ушел в спальню. Лег на кровать и взял приложение к «Родине». Атлет на рисунке высоко поднял гири, и… ах, вот проламывается один, другой потолок, разбегаются испуганные люди и улыбается Сергей Сергеич.
4
Гепеу не приходило с обысками, фининспектор не давил налогами. Степан Максимыч не устроил Сергею Сергеичу никакой пакости по торговому делу, не отнимал обстановки и квартиры, но заходил и изредка обедал. Сидел и рассказывал Кире свою жизнь и чужие, непонятные Сергею Сергеичу шумливые и беспокойные жизни.
Сергей Сергеич в таких случаях скорехонько допивал свой чай, мелкими шажками уходил в спальню и, прикрыв дверь, ложился в кровать под одеяло из разноцветных шелковых лоскутьев, располагавшихся узором калейдоскопа. Одеяло сшила перед смертью покойница теща в благодарность Сергею Сергеичу за спокойные последние земные дни.
Сергей Сергеич лежал под одеялом, пробегал страницы приложения к «Родине», слушал четкий, как метроном, крепкий голос жильца, стучавший в дверь, и думал:
«Почему нужно людям беспокойство? Кажется, что может быть проще и приятней существования в собственном домике, изо дня в день одинаково, сытно, безмятежно и бестревожно. От этого удлиняется срок человеческий, и медленнее подходит старость, и на душе всегда ясность и определенность. Так нет же. Пришли вот такие нелепые, недотепы, шалопуты. Перевернули все, переворошили, перетревожили. Сами покоя не знают и знать не хотят и другим не дают. Несет их какая-то жесткая непокорная внутренняя сила от мягких кресел, от пружинных матрацев, от жарко натопленных печей, щей и пирогов в неизвестные тартарары. Гонятся за громом, треском, сумятицей, зачем, сами не знают. Сначала мир перевернем, а там снова строить будем по-новому… Разве ж так делают? Хороший хозяин, пока в новый дом не переедет, старого не развалит. А когда и построит новый, то старый норовит внаймы сдать подороже, а не разваливать. А они? Шалые! Непутевые! Моржи, тюлени, северное сияние. Ну, кому все это нужно? Только разве для музеев. Чудилы!»
С этими мыслями и засыпал, воркующе похрапывая.
А Кира в столовой за полночь слушала рассказы Степана Максимыча, и разгорелись Кирины глаза мечтой. Вставала, взволнованная, тревожная, подавала жильцу дрожащую, теплую, туго налитую живыми соками ладонь, не обернувшись уходила в спальню. А он по коридору несомневающимися шагами – к себе, в бывший кабинет Сергея Сергеича.
Еще полтора месяца ждал Сергей Сергеич, что красный директор подложит ему свинью по торговле и отнимет квартиру с дубовым буфетом. После успокоился и даже презирать жильца стал.
– Не настоящий коммунист. Только усами шевелит. Таракан.
В первую субботу великого поста Сергей Сергеич пошел к вечерне, облегчить сердце. Подойдя к дверям собора, убедился, что они заперты. Недоумевая, спустился с паперти и, обходя собор, наткнулся на соборного сторожа Акинфия.
– Почему, Акинфушка, службы нет?
Акинфий поправил шапку на взъерошенной голове.
– Отец Андрей брюхом занемог. Не будет службы. Просился живчик от Покрова отслужить, да прихожане не хочут. Потому ежели живца в церкву пустить, хоть веник алтарный, а стырит, прохвост, – степенно объяснил он и почесал низ живота.
Сергей Сергеич разочарованно поплелся домой. Открыл заморским ключом парадную и, тихой мышкой по коридору, мимо комнаты жильца к себе. В столовой услыхал из спальни легкое бормотанье. Обрадовался, подумал, что Кира молится тоже. Угнетало, что с революциями от веры отошла. Приблизился к двери тихо, чтобы не беспокоить, заглянул.
В розовом свете фонаря увидел Киру на постели в беспорядке. Одна Кирина нога согнута, и над черным чулком отливает нежным блеском голое, круглое колено. А Кирины руки сплелись вокруг шеи жильца, и он целует Кирины прекрасные, жаркие плечи и бормочет, а глаза у Киры не закрыты, а распахнулись во всю ширь, глядит на Степана Максимыча, и в них выражение, какого никогда не видел Сергей Сергеич.
Заклохтало наседкой сердце, сразу опустел живот, как будто выпали кишки в огромный ножевой прорез. Сергей Сергеич постоял минуту, прижав пальцами живот, и, задом выпятившись из столовой, добрел до парадного, распахнул дверь на улицу.
В тумане скупо журчала в трубах подмерзающая капель. Сергей Сергеич долго бесцельно бродил в тумане, черпая лужи галошами и шепча что-то. Наконец направился домой. Отворяя парадную, нарочно громко стучал и кашлял, топотал по коридору. Когда вошел в столовую, – жилец и Кира сидели за чаем. На Кирином лице еще трепетало возбуждение, жилец спокойно отпивал чай. Волосы его были особенно гладко причесаны и лежали на упрямом черепе, как гладкая пепельная броня.
«Железные люди, неуютные, – подумал Сергей Сергеич, – подойдешь и ударишься. Мою жену целовал, а сам причесался и меня презирает. Матерьялист».
Он отказался от чая, прошел в спальню и долго рылся в конторке. Нашел бумагу, окунул перо в полувысохшие чернила и сел писать, морща лоб. Кира, простившись с жильцом, вошла в спальню и, лениво потянувшись, стала раздеваться. Переменяя сорочку, задумалась и опомнилась, только заметив, что Сергей Сергеич пристально смотрит на ее плечи, груди, круглые, как яблоко, нежные, как из пены, бедра и живот. Покраснела, быстро набросила рубашку и зло спросила:
– Что это ты писать вздумал? Писатель, тоже!
Сергей Сергеич не ответил. Кира повернулась к стене, заснула. Только перед рассветом Сергей Сергеич положил перо и зевнул. Он вспотел от напряжения, и рубашка прилипла к вдавленной груди. Поднес листок к глазам и прочел:
Многоуважаемый товарищ, красный директор!.. От чистого сердца, желая вам благополучия, осмеливаюсь предупредить от превратных поступков вашей жизни по поводу гражданки, жены Бегичева, Киры Андреевны. Я вас, коммунистов, не уважаю, но ваша личность мне симпатична, и потому решаюсь. Гражданка Бегичева с которой вы состоите в телесном соглашении, – опасная соблазнительница. У нее была любовь с вашим товарищем, комиссаром дивизии Гордоном, и этот уважаемый товарищ через нее пошел на казенную растрату и покончил жизнь свою расстрелом. Потому и желаю вас упредить, что знаю вашу партийную слабость насчет женщин. Вам по вашему делу приходится больше иметь сношения с женщинами грубого вида, и потому вы легко поддаетесь буржуазным мессалинам и падки на наслаждения старого строя. И женщине без правил легко вас оплести, потому вы люди прямоугольные, без хитрости. А у нее и духи, и чулки с ажуром, и кофточка батист. Гляди, любуйся на мою красоту, будто все и прикрыто, а как на ладошке. А вы с непривычки хуже, чем с водки, пьянеете. Пишу вам из одной симпатии, жалко мне, что хороший человек из-за стервы покончит жизнь от партийной пули но высшему приговору.
Незаметная, но благородная душа.
Перечитал, со вздохом положил в конверт, погасил свет и прилег вздремнуть, а утром, попивши чаю, по дороге в лавку опустил в почтовый ящик, оглянувшись, не видит ли кто.
Возвращаясь из лавки, зашел в часовню, стал перед богородицей на колени, долго и истово молился о спасении рабы божией Киры от неправильного пути и о сохранении домашнего спокойствия. Пришел домой успокоенный и за чаем даже шутил с жильцом. Ложась спать, игриво пощекотал Киру и сам испугался. В устремленных на него глазах было бешенство и жаркая ненависть. Скорее закрылся одеялом.
5
Рано утром проснулся от настойчивого шепота, звавшего его из столовой. Приподнялся на постели, тревожно взглянул на Киру, она спала крепким сном. Надел туфли и вышел. Увидел одетого жильца. Лицо у него было странно закаменевшее, как будто налитое воском, и глаза смотрели упорно и недвижно.
– Идите за мной, – не то просил, не то приказывал Сергею Сергеичу.
Бегичев послушно побрел за ним, вздрагивая спиной, как пес на морозе. Жилец ввел его в комнату и, взяв со стола листик бумаги, поднес к лицу Сергея Сергеича.
– Это вы писали? – спросил он, растягивая голос, как резиновую плеть.
Сергей Сергеич втянул голову в плечи и закрыл глаза. Вермишель бороденки царапала ему голую грудь, и Сергей Сергеич думал: «Куда ударит? По голове или в живот?»
От ожидания во рту пересохла слюна.
– Вы писали? – переспросил жилец.
Сергей Сергеич отчаянно мотнул головой.
– Не врите! – крикнул Степан Максимыч и дернул Сергея Сергеича за руку. Сергей Сергеич, как кукла, повалился на бок, но жилец толчком привел его в вертикальное положение.
– Мерзавец! – процедил он и, помолчав, добавил. – Ну, шевелитесь! Помогите мне уложиться.
Сергей Сергеич открыл глаза и потрясенно взглянул на жильца. Посреди комнаты стояли жильцовы чемоданы, раскрыв пасти. Жилец стал бросать Сергею Сергеичу вещи, приказывая, куда класть. Ошеломленный, он послушно укладывал чемоданы и первый раз вздохнул, когда все было упаковано.
Жилец вышел в коридор и вернулся в пальто и фуражке.
– Помогите вынести! – грубо, как дворнику, сказал он Сергею Сергеичу.
– Вы разве уезжаете? – осмелился наконец выдавить Сергей Сергеич. Жилец повернулся к нему.
– Молчи, гад! Делай, что велят, – оборвал он.
Сергей Сергеич, вздрогнув, поднял тяжелые чемоданы и вынес их за жильцом на крыльцо. Холодный утренний ветер ударил под халат, и зубы Сергея Сергеича стали выбивать двойную дробь холода и страха. Жилец сошел с крыльца, скрылся за углом и сейчас же вернулся с извозчиком. Он взвалил чемоданы на пролетку и повернулся к Сергею Сергеичу:
– Ни слова Кире Андреевне. Скажешь, что уехал в командировку. Понял? А вот тебе, сукин сын, на прощанье!
Жилец набрал воздуху, вдруг смачно плюнул в лицо Сергею Сергеичу и быстро вскочил в пролетку. Сергей Сергеич остался на крыльце. Плевок стек по щеке и повис на вермишели.
Ветер беспокойнее завозился под халатом. Сергей Сергеич запахнул полы и вошел в квартиру. В передней он стер плевок и побрел по коридору, понурив голову, но все в нем пело и ликовало.
– Поверил… поверил, – шептал он, входя в спальню и ложась в постель.
За утренним чаем он сидел как на иголках. Кира прошла мимо него в умывальную. Он сидел и ждал с застывшей улыбкой. Услышал, как ее шаги задержались у кабинета. Донесся удивленный голос:
– Сергей Сергеич! Почему у Степана Максимыча вещей нет и комната открыта?
Встревоженная Кира стояла в дверях. Сергей Сергеич сделал равнодушное лицо и проронил:
– Я и забыл тебе сказать, Кирочка. Он рано утром уехал в срочную командировку.
Краска сбежала со щек Киры, она закусила губу. Сергей Сергеич почувствовал, что настала пора реванша. Он глубоко затянулся папироской и сказал:
– Расстроилась? Ничего! Вернется, натешишься еще над мужем. Нацелуешься.
Кира подняла голову. Сколько ненависти может быть в женском взгляде! Дернула губой и ответила без волнения:
– А, сам уже знаешь. Ну и хорошо! Говорить не нужно.
Прошла и заперлась в спальне. Сергей Сергеич подкрался, послушал. Кира плакала. Он покачал головой и пошел в лавку.
Из лавки зашел к дядюшке Артему Матвеичу, рассказал. Посмеялись оба над доверчивым красным директором. Сергей Сергеич презрительно приврал:
– Дурак! Еще благодарил даже. Благородный вы человек, Сергей Сергеич. Спаситель мой от партийного позора и окончательной смерти. Даже место обещал в Питере, если захочу.
– Нетвердая у них башка на семейные тонкости, – буркнул старик.
– Самое и есть! Если б свой брат, коммерческий человек, или из благородных, – прощай, Кирочка. А тут уехал, да еще и благодарил.
Идя от дяди домой, Сергей Сергеич бережно нес в руке сверточек с парижскими духами и модными перчатками.
– Успокоится! Поплачет – и все придет в порядок. Настанет мир и благочиние в дому. Выжил таракана, слава те, господи.
Дома нарочно громко протопал мимо пустой комнаты жильца, вошел в спальню. Марфутка, возившаяся у буфета, осклабилась:
– Барыня сказали, чтоб вы сами обед кушали. Они в церкву пошли.
Сергей Сергеич почувствовал новый прилив радости.
«Взыскал господь и размягчил грешное сердце. Теперь все будет хорошо», – подумал он, садясь за стол. Пообедав и выпив даже на радостях стакан вина, ушел в спальню и взялся за приложение «Родины». Раскрыл на стихах об атлете. Из книги выпала сложенная бумажка, Сергей Сергеич неохотно поднял ее, думая, что это закладка.
Но в глаза бросилось жирно написанное карандашом слово: «Негодяю».
Дрогнувшими пальцами развернул бумажку, уткнулся в нее, прочел:
«Сейчас за мной приехал Степа. Он рассказал все. Мы едем в Питер. Как я тебя ненавижу, жаба, гнус!
Жалко, что Степа не позволяет убить тебя, а то с радостью изничтожила бы погань».
Сергей Сергеич держал перед глазами записку и почувствовал, как по омертвевшей щеке ползла горячая капля. Как-то глупо, нечаянно, вспомнилась фраза из старой медицинской книги, виденной у знакомого букиниста на базаре: «Слезы вызываются нервическим раздражением особых железок, находящихся во внутренних углах нижних век».
Сквозь стекла окна долетел с вокзала высокий свист уходящего поезда. Сергей Сергеич скомкал в руке записку, отогнал ненужную фразу и, оглядев карточку Киры, забытую на стене, сказал вслух:
– Недостойная Мессалина!
<1926>
ГРАФ ПУЗЫРКИН
Они уже уходят из памяти, эти годы, пронесшиеся ревущим водопадом. Обрушив на нас свой пенный водоворот, они вынесли нас в тихое озеро, и на его сонной глади мы понемногу забываем песни бури. Память роняет звенья воспоминаний, события уплывают в небытие, как налитая в решето вода.
Скоро мы забудем все, и вот почему мне хочется рассказать эту простую историю трогательной мужской любви, преданности и верности и женского легкомыслия и непостоянства. Я вспомнил о ней только потому, что вчера встретил эту женщину в модном ресторане. С безразличным выражением фарфорового лица, отклонив назад голову, она выделывала однообразные на фокстрота, зажатая в красных, волосатых лапах какого-то иностранного жулика, приехавшего поглядеть на страну диких совдепов.
Я слышал, как за соседним столиком лощеный молодой человек сказал шепотом своей даме, показывая движением головы на танцующую: «Бывшая графиня С…».
И память перебросила меня на семь лет назад, в украинские степи под Киевом, в зиму, которая стала зимой победы. Свистящий суховей швырял нам в лица метелью и звенящим колючим снегом. Мы наступали к югу, а перед нами, оставляя на пути сотни трупов и замерзающих, катилась раненная насмерть Добровольческая армия.
Это случилось после боя под селом Ковалевкой, почти на том месте, где сто лет назад орудия генерала Гейсмара вихрем картечей разметали по снегу дерзкое каре декабриста Сергея Муравьева.
В этот день история уплатила проценты по столетнему векселю, сметая картечью наших трехдюймовок конную лаву волчанцев.
После боя, проходя по лесу, мои кавалеристы наткнулись на брошенную в чаще телегу без лошадей. В телеге под грудой попон и другой рвани лежала полузамерзшая женщина. Ее с трудом удалось привести в себя, и в маленькой хате Ковалевки я нашел ее уложенной на лежанку, закутанной в полушубок и напоенной чаем.
Возле нее дежурил наш кашевар Пузыркин, маленький, рябой человечек с необычайно нежной и жалостливой душой.
Увидя меня, входящего в хату, Пузыркин привстал и отрапортовал:
– Так что, товарищ начальник, оны обмерзли было, но вже пьют чай и кушают.
Женщина слабо и болезненно улыбнулась. Глаза ее с благодарным выражением остановились на рытвинах пузыркинской физиономии.
– Ах, я так благодарна, – она замялась на мгновенье, – госпо… товарищу Пузыркину. Он просто чудесная нянька, так он ходил за мной.
Я промолчал и после короткой паузы задал официальный вопрос, к которому меня обязывало положение командира:
– Разрешите узнать, кто вы такая?
Ресницы женщины опустились на ее серые зрачки, легли тенью на фарфоровые щеки. Лицо осунулось и посерело. Некоторое время она молчала, и только вздрагивала ее маленькая и пухленькая нижняя губа.
– Вы не расстреляете меня? – сказала она наконец глухо.
Я пожал плечами.
– Странное у вас понятие о частях Красной Армии. По поведению вашей няньки вы имели время убедиться, что мы не воюем с женщинами.
Она вскинула глаза.
– Но может быть, это потому, что никто не знает моего имени.
– Не имя, а дела принимаются нами в расчет при решении судьбы человека. Если за вами нет темных дел, вам нечего бояться.
Она пристально следила все время за моим лицом, ловя на нем правду.
– Я графиня С…, – наконец сказала она, и снова ресницы бросили тень на дрогнувшую щеку.
– Как вы попали в лес? – спросил я, не обращая внимания на ее волнение.
– Я вышла из Киева вместе с волчанцами, чтобы догнать мужа в Одессе. Но в минуту паники, когда волчанцы наткнулись на вас, мои спутники обрезали постромки и ускакали на упряжных лошадях, бросив меня в лесу.
– От сволочи… – брякнул вдруг молчавший до сей поры Пузыркин.
Горячая краска волной хлынула в щеки женщины. Я обрушился на Пузыркина:
– Пузыркин! Ты с ума сошел? Так ругаться при женщине?
Пузыркин вскочил и испуганно захлопал рыжими глазами.
– Виноват, товарищ командир. Осерчал. Разве ж это люди, чтоб самим наутек, а бабу в лесу кинуть волкам на съедение.
Я усмехнулся. Улыбнулась и женщина, почувствовав себя в безопасности.
– Что же нам с вами делать? – машинально вслух спросил я.
Она жалобно смотрела на меня.
– Только не бросайте меня. У меня ни копейки денег и на пятьсот верст ни одной близкой души. Довезите меня до Одессы, там у меня родственники.
– Сударыня. Мы же не беженский транспорт и на можем подбирать всех застрявших. А потом, мы подвержены всем случайностям войны. До Одессы, может быть, нам придется принять еще десяток боев, а мы не можем ни подвергать вас опасности, ни возиться с окарауливанием вас.
– Я даю слово, что не убегу. Куда мне бежать? В степь? Чтобы замерзнуть или быть съеденной волками?..
Я задумался на мгновенье, но мои помыслы прервал Пузыркин:
– Товарищ командир, если разрешите сказать… Я их сберегу. Вы мне только доверьте. А оны не без пользы при нас будут. Сами жаловались, что похлебка всегда грязная, известное дело – без бабы чисто не сваришь. А бросить их, товарищ командир, дюже жалко… Оны без силы, пропадут не за грош…
Я едва сдержал взрыв хохота. Графиня, помогающая Пузыркину варить красноармейскую баланду. Это зрелище было достойно внимания.
Но женщина вдруг легко и просто сказала:
– Правда, товарищ. Я с удовольствием помогу, чем можно и что в моих силах. Лишь бы мне добраться до родных. А если вы меня бросите здесь, это будет более жестоко, чем если бы вы меня расстреляли.
Я махнул рукой и пошел к комиссару. Комиссар полка, старый ижевский слесарь, выслушал мой доклад и хмыкнул в усы:
– Черт с ней, пусть едет. На подводе место найдется. А работа будет. Хоть красноармейцам рубахи поштопает. Не трудящий да не ест.
Так и осталась графиня при красноармейском кавалерийском полку в подчинении у кашевара Пузыркина. Но в Одессу попасть нам удалось не скоро. Нас бросили наперерез пробивающейся в Польшу армии генерала Бредова. И только через две недели мы вернулись на прежнее направление.
А за эти две недели и случилась история. Рябой Пузыркин влюбился в графиню до помрачения рассудка. Он ходил за ней, как за малым ребенком, поил и кормил ее чуть не с ложечки, устраивал ей лучшее место на ночлегах, оказывал тысячи мелких услуг и, не отрываясь, смотрел ей в глаза, как преданная собака.
У нее мерзли ноги. Пузыркин, заметив это, добыл ей шведские высокие валенки. Где он достал их, некогда было разбираться, но если бы разобраться, протоколы трибунальских дел о мародерстве, верно, увеличились бы еще одним.
А она принимала все эти знаки внимания, как настоящая королева.
Обнаружить окончательно пузыркинскую влюбленность удалось мне случайно.
На отдыхе в каком-то селе Пузыркин пришел в полковую канцелярию и робко попросил бумаги. Усевшись с нею в углу, он погрузил ручку вместе с пальцами в плошку, служившую чернильницей, и просидел до ночи над бумагой. Волосы его слиплись от пота, губы беспрерывно шептали. К ночи он исчез. Проходя через канцелярию, я увидел под столиком, где сидел Пузыркин, груду изорванной бумаги. Не знаю почему, но я заинтересовался, поднял с полу несколько лоскутков и с первого взгляда обнаружил, что Пузыркин занимался составлением любовного письма в разных вариантах. Я приказал деловоду позвать Пузыркина.
Он пришел ко мне в хату смущенный и недоумевающий.
– Ты что же, дьявол, спятил, что ли? – спросил я его, подсовывая лоскут бумаги.
Он побагровел, опустил голову и молчал.
– Что ж ты молчишь? Куда ты полез с суконным рылом?
И вдруг я увидел, что по взрытому оспой лицу кашевара катятся огромные, такие же неуклюжие, как сам Пузыркин, слезы. Что-то оборвалось у меня в середине. Я вскочил с лежанки и схватил Пузыркина за руку:
– Пузыркин… Дурень… Неужели всерьез втрескался?
Он закивал головой, не поднимая глаз, и глухо заговорил:
– Не гневайтесь, товарищ командир. Вытравила она мне душу, не могу я больше.
– Да ты понимаешь, что она тебе не пара?
Пузыркин всхлипнул:
– Понимаю, товарищ командир. А только полюбил я ее насмерть. Хочу ее замуж узять, бо нет мне без нее существования.
Мне стало и смешно и больно. А Пузыркин, белый от волнения, перехватывая воздух побелевшими губами, бормотал:
– Я вот рассказать не умею, а так оно мне понятно. Темные мы люди, товарищ командир, только вот революция глаза разодрала. В деревню мне вернуться после войны тяжко будет. Бабы у нас все безграмотные, словно не человек, а дерево. Что мне с такой делать. А она образованная, да ласковая, да приветливая, детишек научит по-образованному. Ежели мы света, окромя своей избы, не видали, пусть хоть детям солнышко засветит… – Он утер слезы ладонью.
– Да ведь у нее совсем другие понятия, Пузыркин. Она барыня, враг твой. То ты с барами воевал, а то на барыне жениться захотел.
Пузыркин поднял на меня глаза. В них сверкнула обида за свою любовь.
– Она барыня хорошая, – дрогнувшим голосом сказал он, – я ей про Интернасынал рассказывал, так она слушала внимательно так и говорила, что я ей правду открыл, и согласна она с трудящим народом оставаться и в заграницы не ехать.
– Балда ты, балда, Пузыркин. Катись колбасой.
Он щелкнул каблуками и вышел, а я отправился к комиссару. Комиссар долго хохотал, держась за живот, а потом спросил меня, давясь смехом:
– Слушай, почему ж тебя это так волнует? Это, брат, так сказать, изживание классового антагонизма… Любопытно… Граф Пузыркин. Ох-хо-хо… ха-ха…
Я огрызнулся и ушел. Так прошло еще несколько дней, когда однажды вечером ординарец доложил, что меня хочет видеть «пузыркинская барыня».
Она вошла потупив глаза, и я видел, что ее рука нервно мнет кончик платка.
– Я хочу просить вас защитить меня от приставаний этого мужика, вашего кашевара. Он совершенно забылся, – сказала она капризным голосом.
– А в чем дело? – спросил я, не подавая виду, что знаю суть дела.
– Вы понимаете, товарищ, он обнаглел до того, что признался мне в любви и заявил, что желает жениться на мне. Как вам это нравится?
Я спокойно ответил:
– Мне это нравится. Он честно говорит вам о том, что творится в его душе.
Она резко вздернула плечами.
– Что же, по-вашему, я должна отдать руку и сердце этому… кашевару?
– Сударыня, – сказал я мягко, – этот кашевар самый порядочный мужчина, какого вы до сих пор встречали. Ваш круг мужчин уже сошел с исторической сцены, на смену идут другие. И если вы не хотите утонуть, хватайтесь за спасательный круг. Могу ручаться, что Пузыркин лучший муж, чем ваш прежний.
Она резко вскинулась:
– Благодарю за совет. Я пришла к вам как к интеллигентному человеку, а вижу, что вы не лучше своих Пузыркиных. Я знаю, что мне делать. – И она вышла.
Несколько дней прошло тихо. Пущенное комиссаром словцо расползлось по полку, и кавалеристы в глаза и за глаза кликали кашевара графом Пузыркиным. Он ходил понуря голову и молчал. В последний день вечером я, проходя по селу, встретил графиню нежно идущей под руку с адъютантом инспектора кавалерии Снятковским. Это был нахальный, смазливый мальчишка со всеми манерами довоенного корнета и всеми задатками хулигана. Он приехал к нам на несколько дней с поручением инспектора осмотреть наш конский состав и завтра уезжал обратно. Они прошли мимо меня, и я уловил обрывок фразы.
– Ах, Жорж… я никогда не думала, что среди красных есть такие милые люди…
Они прошли… А утром я узнал, что графиня уехала со Снятковским.
– Скатертью дорога, – сказал я комиссару в ответ на эту новость.
Но вечером Пузыркин напился самогону и набуянил. Он хватил кочергой кого-то из насмешников и с трудом был скручен десятком красноармейцев. Я приказал отнести его в хлев и запереть до утра. Когда его несли, он кричал, то называя изменницу ласковыми жалобными именами, то покрывая ее четырехэтажным матом.
Комиссар стоял и усмехался, а у меня больно сжималось что-то внутри. Ночью меня разбудил ординарец:
– Товарищ командир… Встаньте… Оказия вышла… Граф Пузыркин застрелился.
Я на ходу набросил полушубок и вбежал в хлев. На полу среди красноармейцев лежал Пузыркин. Верхняя часть его головы была снесена выстрелом из нагана в рот. Он не мог пережить крушения мечты, гибели своих надежд на женитьбу на образованной, на выход из той серой и беспросветной деревенской жизни, из которой его наполовину вырвала уже революция. Что до того, что эта надежда была ложной, что он строил здание на песке. Ему оно казалось прочным, и обвал раздавил его самого.
Все это вспомнилось мне вчера в ресторане, под тягучие визги скрипок. И когда пара скользила мимо моего столика, я как бы невзначай уронил вилку. Женщина вздрогнула и повернула голову ко мне. Наши глаза встретились. В ее зрачках мелькнул мгновенный испуг, но она быстро оправилась и, не теряя темпа фокстрота, прошла мимо меня не оглянувшись.
Они быстро уходят из памяти, эти годы, пронесшиеся ревущим водопадом.
<1926>








