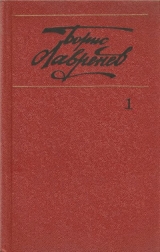
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 42 страниц)
Она склонилась головой к сапогам юнкера. Он испуганно встал.
– Настя! Настенька! Что ты? Не стою я! Дрянь я такая же, как и все!
Она почти крикнула:
– Нет!.. Нет! Не смей! Ясный ты. Разве не видала я, как тебя воротило от голых в кабаке проклятом. Душа у тебя… человечья душа, живая. Понимаешь, что на смерть идти светло надо, с верой. Оттого и погибнешь. Все такие гибнут. Смерть твою чую, Севушка! Защитить хочу, а нет у меня силы.
Юнкер взволнованно прошелся по комнате.
– Почему… зачем ты мне смерть предсказываешь?
– Не предсказываю – знаю. На смерть идешь. Много вас идет против народа, а народу сила, миллионы. Не осилите вы, все до единого погибнете. Так тех, что голяком перед смертью похабничают, не жалко мне. Знают, что за похабство свое дерутся, за водку, за то, чтоб над такими вот девками, как я, измываться, деньги грабить. А ты за что? Голубь ты ясный, младенчик светлый. Не ихний ты, ошибка тут страшная. Тебе туда надо, к народу! Душа у тебя открытая, совестливая!
– Ты что же думаешь, там лучше? – спросил, вздрогнув, юнкер.
– Лучше, лучше, миленький! Люди там правдой горят, за правду бьются, за нас, девок срамных, чтоб нас от смерти воззвать, в жизнь впустить, омыть похабство земное, матерями, женами стать нам позволить, язву нашу выжечь. Хорошие там! Брат мне еще в Питере рассказывал про это, про революционеров, которые царей убивали. Брат мой, Ромушка. Вон он над кроватью висит. Был бы здесь – вызволил бы меня из срама.
Она уткнулась лицом в потертый плюш дивана и разрыдалась, вздрагивая острыми лопатками.
Потрясенный, пробитый болью, юнкер склонился над ней.
– Настя! Настенька! Что ты, не плачь! Встань, – не нужно. Ну, что делать? Я помогу чем можно. Скажи только – как?
Девушка быстро встала и вытерла глаза. Усмехнулась виновато и тепло.
– Напугала я тебя, Севушка? Глупая я, больная, шалая. Не буду больше, – и помогать мне не надо. Садись, посиди со мной последнюю ночку.
Она усадила юнкера и села рядом. Приблизила лицо с исступленными глазами.
– Не стану ныть! Смеяться буду, радоваться тебе, гостю моему любому Как увидала тебя в кабаке против себя за столом, будто по мне мололья полыхнула. Вижу, мой сидит, мой жданный, суженый. Вот и привела тебя к себе. Никто, кроме тебя, в эту комнатку не входил. Ты сокол ясный и комната моя ясная, и сама я сегодня девушка-первинка. Севушка, бастенький мой, сероокий. Приласкай меня, не побрезгуй. Не гляди, что шлюха я, что девка последняя. Это для тех, а для тебя нетронутая, непочатая. Все тебе отдам, сердце мое болезное, душу, тело, вся в руках твоих, лаской изойду за одну эту ночку Люби меня, Севушка, несколько часочков только, а мне всю жизнь вспоминать тебя, голубя. Оба мы с тобой пропащие, нежилые.
Она быстро рванула воротник гимнастерки юнкера и стремительно зацеловала его в шею короткими, буйными поцелуями. Вскочила, погасила лампу и приникла к его губам. Юнкер задохнулся от жалости, боли и еще какого-то неназываемого, лишающего сознания терпкого волнения, вздохнул глубоко и жадно и, закрыв глаза, любовно встретил пьющие душу пересохшие губы.
Медленно серел квадрат окна, пересеченный черным крестом рамы, шурша ветром пролетала за окнами весенняя ночь.
В эту ночь кровь юнкера Всеволода Белоклинского и кабацкой девки Насти Руды, невесты непорочной, впервые узнавшей любовь, исходившей в смертельной ласке, – одной стала кровью, связала двоих кровным неразрывным узлом.
12
Стекали на степь с жаркого неба жидким серебряным паевом майские дни.
Никли пуховые веники ковылей, исходили степи дыханиями горькими и сладкими.
Были майские дни теми днями, когда рассыпались прахом лавины белых, малиновых, синих фуражек, покатились назад к морю Тмутараканскому.
Дышали дни нерукотворными легендами о черноусом Семене Будённом, что, наполнясь ратного духа, повел полки свои на разбойную землю половецкую, за красную Русь.
С гомоном, с песней лихой, с неистощимой силой летели полки в половецкие степи.
Суровы были бойцы, взрощенные трубными зовами, взлелеянные под богатырками, вскормленные стальными жалами пик, были им ведомы все дороги и знакомы овраги, крепко натянуты поводья, метки винтовки и отточены сабли.
И скакали полки, как серые волки в поле, ища себе чести, а красному краю славы.
Загородили они сердце страны багряным блеском знамен, звоном клинков, конским тяжким топотом.
И тогда в Русской земле редко выходили на ниву пахари, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, и поднимали стрекот галки, сбираясь лететь на покормку.
Густо усеялась степная пахучая целина костями под конскими копытами, полилась кровью, – возрастала же щедро печалью по всей стране.
И у устьев великого Дона сходились в смертной ненависти трудовая красная рать и разбойная кочевая рать половецкая.
Катался круглыми волнами над степями пушечный гром, в потревоженном небе клекотали степные орлы.
И с одной стороны искал смертной встречи с вражьей ордой сводный курсантский полк, а с другой – кавалерийский юнкерский полк «бессмертных».
И пока метались курсанты по ковыльным берегам тихого Дона, ловил Роман ненасытно и неустанно вести о брате-враге, о брате-кровнике, письмо к которому лежало во внутреннем кармане гимнастерки, рядом с выпиской из книги о браках, в которой отмечено было, что марта второго дня зарегистрирован, под номером сто тридцать седьмым, брак курсанта Романа Руды, двадцати семи лет, рабочего слесаря, с Белоклинской Анной, дочерью полковника, двадцати трех лет.
Каждого пленного офицера с жадной пытливостью допрашивал Роман об Аннином брате, но ни разу не услышал в ответ: «Знаю».
Письмо продолжало лежать в гимнастерке, и серый казенный пакет протерся, пропитался потом.
А Всеволод Белоклинский носился со своим полком по степным небитым дорогам, нося в душе смятение, тревогу и отчаяние.
Часто вспоминал последнюю исступленную ночь, жаркоглазую Настеньку, отдавшую ему любовь нетронутую, бесконечную, смертельную.
И помнил еще слова Настенькины: «На гибель идешь, голубь! Смерть твою чую – не живут такие».
Помнил и ждал смерти, потому что не было у него ни дома, ни родины. Была пустота, сомнение и растерянность.
Только в кожаном бумажнике с серебряной монограммой носил маленькую записку, а в записке стояло: «В случае моей смерти прошу сообщить по двум адресам: Город Т., Монастырская улица, дом 2. Варваре Сергеевне Уральцевой для Анны Белоклинской, и еще: Ростов, Темерник, дом Дедюлиной, Анастасии Петровне Руда. Очень прошу это сделать. В. Белоклинский».
О брате Настенькином Романе ничего не знал Всеволод Белоклинский, и только запомнились ему пристальные и твердые глаза на фотографии над кроватью.
Стекали с неба на степной чернозем плавленые дни, зажигали в сердцах ярость и ненависть.
И встретились двое на берегах мутноводного Мамыча.
Сошлись красные конники и разбойные половчане для смертной встречи у речного быстрого тока.
С утра до вечера, с вечера до златопламенной зари летят кусачие пули, гремят встречно клинки, трещат пики в незнаемом поле, посреди половецкой земли.
На Маныч-реке не снопы стелют, – головы; молотят стальными цепами, на току кладут жизни, веют души от тел.
Кровью покрыты берега Маныч-реки, не зерном засеяны, засеяны костями ратей.
Бились день, бились другой, на третий пали штандарты с георгиевскими лентами, поволочились в густой пыли.
По следу уходивших половецких конников бросились конники вольного красного края. Но волками огрызались, уходя, последние, скалили гнутые свистящие клыки шашек.
И на закраине станицы встретились двое.
На обходившие с фланга курсантские эскадроны была брошена лавой последняя надежда врага, полк «бессмертных».
Было где разгуляться на гладком степном ковре.
Заломив фуражки, всадив шпоры коням, понеслись юнкера отчаянным карьером в атаку. Не дрогнули запыленные серые эскадроны и, только переменив направление навстречу атакующему, развернулись и по команде: «Карьером, марш-марш» – ринулись навстречу.
Неслись оба полка без выстрела, и даже ненасытные пулеметы, сеявшие свинцовый сев из-за станичных заборов, стихли.
Только гудела земля под копытами, звенели стремена, шашки, яростно ржали кони, и оба строя налетели друг на друга, скрылись в облаке горячей пыли. И в рядах полков – с одной стороны горбоносый высокий донской скакун нес машистыми скачками сероглазого юнкера, с другой – мохнатая, коротконогая вологодка, хрюкая селезенкой, потряхивала широкоплечего в богатырке, с пристальными и твердыми глазами… В сшибке в облаке пыли наскочили друг на друга горбоносый донец и мохнатая вологодка.
Курсант ударил наотмашь, но ловкая рука отбила удар, и почувствовал Роман, как вылетела шашка из онемевшей кисти. Увидел серебром взлетевшую в воздух для удара полосу.
Зажмурясь, схватился за кобуру, но в левую сторону шеи резнуло, и выбивающая память боль остановилась в середине груди.
Зеленым сиянием застлало глаза, сквозь пленку мелькнуло над головой лицо с оскаленными зубами, и уже неживым упором Роман спустил курок нагана в этот оскал.
Выронил стремена и свалился на полынную целину, раздвоенный казачьим клинком почти до пояса.
А сверху тяжестью навалилось легшее поперек тело с черной дырочкой между глаз, откуда неровными толчками брызгала кровь и выползали желтые жирные комки.
Кровь их смешалась на степной, древней полынной земле, и земля приняла любовно красные живоносные токи.
Кровь курсанта Романа и юнкера Всеволода, врагов, братьев, кровников, одной стала кровью в этот час.
Одна людям любовь, одна ненависть.
И нет большей любви, как та, что всходит над нашей землей из почвы, впитавшей кровь, порожденную ненавистью.
Имя любви – грядущее. Не нам любовь, – детям и детям детей наших.
Нам скорбная память. Вдовам и невестам слезы, одинокая туга, сиротство.
13
Ночами с курганов поверх деревьев кличет тревожным клекотом вещая Див-птица.
Кличет, велит слушать землям: Волге и Поморью, и Посулью и Сурожу, и великому Корсуню и тебе, поверженный в желтые воды, истукан Тмутараканский.
Предвещает клекот лютую печаль земле, стенания и муки вдовам, невестам сиротливую долю.
Поднимаются на клекот с одиноких постелей головы, глядят в тьму бессонными очами, протягивают заломленные руки, припадают к ложу иссушенными сиротным томлением телами.
Полегли мужья, женихи по степным разлогам, ища себе чести, делу своему славы.
Вытоптали красные конники копытами белые полчища половецкие, загнали к шумному Евксинскому Понту, сбросили в пенную синядь.
Свет-заря растет, ширится над Русской землей, дымными клубами уплывает за рубежи заморские лютая печаль.
Колкими зеленями пошли напоенные рудой полынные степи, проросли сквозь кости полносочными травами, наливными хлебами.
Цветет красным цветом, млеющим маком земля, любится плодливо с ветрами и грозами.
На плодливой нови взбухает человечья крепкая завязь.
Только перед зарей томительно плачет в березовой роще зегзица.
И одиноко кукует Ярославна на городской стене, утирает тканым рукавом горынь слез, зовет, прикликивает, ждет с бранных полей милого князя.
Но усеян чернозем половецкий костями, полит кровью, взошел янтарным пшеничным наливом…
Не вернутся возлюбленные, прошедшие горькими степными путями, больше жизни возлюбившие ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы очищающих гроз, легшие в тугой пар пищей тучным стеблям, наземом жизнетворящим нивам.
Разными дорогами прошли они по степным просторам, разно сожгли души свои и разметали тела, но одна в телах человечьих кровь-руда, одна ненависть и любовь.
Один узел кровный, неразрываемый.
И одна на земле печаль горемычная, сиротская, вдовья.
Все проходит легким беспамятным дымом, но Ярославне плакать до века.
В прошлом наша ненависть горькая, что степная полынь-трава, в прошлом червонные ветры, конский топ, пушечный гром, звенящие сабельные всплески.
Мертвым благостное забвение, нам – живым, помнящим, – слава и гордость.
Земле нашей любовь, что не прейдет до конца.
Ленинград, февраль – март 1925 г
НЕБЕСНЫЙ КАРТУЗ
ГЛАВА ПЕРВАЯОбитатели домов, расположенных по правой стороне Большой Монетной улицы, исчисляли бег революционного времени по профессору экспериментальной физиологии Благосветлову. Впрочем, чтобы его не упрекнули в пристрастии, автор должен отметить, что то же делали и обитатели левой стороны.
Было это в то неповторимо романтическое время, когда города республики, овеваемые пороховыми вьюгами, переживали период первоначального оскудения и все часы, до того благополучно тикавшие в комнатах и на селезенках их обладателей, в силу законов экономики были поглощены деревней.
За часы владельцы их получали крахмалосодержащие и жировые вещества, в деревнях же годовалым гражданам крестьянского сословия зачастую в эту пору навешивались на шею, взамен погремушки, часы почтенных фирм Мозера и Буре.
Для деревни описываемое время было периодом первоначального накопления.
Но оставим в покое деревню. Хотя запросы сегодняшнего дня и требуют усиленного ухаживания за загадочной стихией деревни, – автор, пропитанный урбанистической культурой, останавливается на городском сюжете.
В эти незабвенные дни городские жители занимались единственной и обязательной для всех профессией – государственной службой.
Отказ от службы граничил с изменой отечеству, и покой мироздания, а среди этих часов был официальным началом служебных занятий, и требовалось определить, хотя бы с приблизительной точностью, дабы не лишиться минимума калорий и не переменить местожительство на другое, столь же мало комфортабельное, как и собственная квартира республиканца, но стеснявшее свободу передвижения.
Узнавать же время, не имея для того выработанных вековой практикой приборов, стало весьма затруднительным. Некоторые, впрочем, ухитрялись. Племянник часового мастера с Эртелева переулка, Арончик Бсейбас, на вопрос: «Который час?» – закрывал глаза, шмыгал тонким, всегда мокрым на кончике носом и называл цифру. При проверке таких опытов под каланчой городской думы оказалось, что Арончик врет в пределах не более десятиминутного отклонения от истины, и это упрочило за ним славу живых часов. Но такую исключительную способность приходится отнести за счет наследственности, простые же обыватели были поставлены перед неразрешимой дилеммой.
ГЛАВА ВТОРАЯКак уже упоминалось в начале этой странной повести, Большая Монетная улица в смысле времясчисления находилась в привилегированном положении.
Проживавший на ней профессор Благосветлов, также названный в первых строках предыдущей главы, ухитрился пронести нетронутым сквозь все революционные бури как космического, так и законодательного характера золотой хронометр английской работы. Как это случилось, никто не знал, и об этом из ряда вон выходящем казусе ходили самые разноречивые версии. Наиболее распространенной была пущенная вдовой столоначальника министерства двора Малакичевой, по которой профессор вырабатывал в своей лаборатории для революционных войск консервы из человеческой печенки, вкусом ничем не отличающиеся от обыкновенных телячьих, и за это будто бы платили ему три раза в месяц два пуда восемнадцать фунтов американскими деньгами.
И какой только глупости не выдумает баба! Автор с негодованием должен опровергнуть эту нелепую и явно реакционную клевету.
Ему лучше, чем прочим, известно, что профессор, имя которого было известно и за рубежами республики, получал от учреждения, принявшего на себя бремя любви к ученым и балеринам, два пайка: академический и ударный.
О происхождении названия «ударный» появлялось немало остроумных догадок, но только автору известна настоящая правда. В ударном пайке счастливцам выдавалась вобла особого качества. Для того чтобы употребить ее в пищу, требовалось, положив ее на край плиты, ударять сверху обухом топора, не торопясь, с равными промежутками, от полутора до двух часов.
Отсюда, а не от чего другого, происходило звучное наименование пайка.
Во всяком случае, оба пайка давали профессору возможность не только сохранить свой хронометр, но и поддержать существование двух организмов, из которых первый принадлежал самому Благосветлову, второй же – законной супруге его Анастасии Андреевне.
Даже в самые тяжелые годы – девятнадцатый и двадцатый – профессор с точностью своего хронометра ежедневно посещал физиологическую лабораторию института точных знаний, хотя автор должен честно сознаться, что в этом не было решительно никакой нужды ни для самого почтенного ученого, ни для государства.
Ибо в лаборатории не было ничего, кроме голых стен и побитой химической посуды, на прозекторском столике покрывался прахом в летние и инеем в зимние дни до блеска обгрызенный крысами скелет последней собачонки, ставшей жертвой науки в декабре восемнадцатого года, и вообще всюду была сплошная мерзость.
Собаки же с девятнадцатого года стали предметом потребления не физиологии, а кулинарии, доказывая тем самым шаткость основных научных систем в переходный к социализму период.
ГЛАВА ТРЕТЬЯИ занятное это дело!.. До чего после великолепного времени бури и натиска у каждого писателя накопилось материала. Так вот и прет, так вот и лезет, – удержу нет.
А происходит все это, друзья читатели, оттого, что несколько лет подряд, последовав совету Гейне, мы оглушительно били в барабаны и лобызали маркитанток, а слова прятали внутрь себя глубоко, бережно, потаенно, как скупой рыцарь свои дукаты. А когда барабаны отгремели, принесли мы собранное домой, а мешок-то сразу и прорвался. Вот и сыплется золото неудержимой струей, звенит, хохочет, плачет, и все хочется сразу, чтобы все высказать, ни о чем не забыть, не упустить.
Можно сказать заранее, что ненадолго нас хватит при таком мотовстве. Годика два – и так опростаемся, что хоть новую революцию затевай для получения сюжетов.
Автор должен извиниться за свое совершенно неуместное лирическое отступление. Это роковое наследие от любимой двоюродной тетки. Очень лирическая была, покойница.
Профессор уходил на службу ежедневно ровно в четверть десятого утра. И никогда не позволял себе отступления от этого правила, хотя бы на две-три минуты. К этому времени дежурные жильцы дома, обитавшие в комнатах, выходящих на улицу, прилипали к подоконникам, отхлебывая с отменным удовольствием республиканский кофе из пережаренных зерен ржи.
Как только сгорбленная фигура профессора показывалась на тротуаре, – зимой в длинном пальто с енотовым воротником, летом в трубчатых коломянковых штанах, – жильцы спешно заканчивали кофепитие и выходили в свою очередь.
Их выход немедленно замечался другими глазами, видневшимися за мутными стеклами квартир. Так шло из дома в дом: с беспрерывной последовательностью появлялись на улице человеческие экземпляры, и пущенная в ход профессором машина гражданского долга жителей Большой Монетной начинала работать с изумительной правильностью.
Профессор, постукивая палочкой, проходил на набережную реки Ждановки, поднимался во второй этаж и дергал ручку звонка.
Дергать приходилось всего три раза, после чего цепочка звякала и профессора впускал внутрь престарелый страж, по имени Нестор. К этому историческому имени природа постаралась прицепить надлежащую фамилию – Котляревский.
Вследствие, этого в лаборатории не раз происходили недоразумения, а однажды заехавший на мимолетный осмотр какой-то блуждающий комиссар, пробежав глазами список сотрудников, был потрясен до слез.
– Как? – сказал он прочувствованно. – Академик Котляревский сторожем? Что это значит? Неужели ему не нашлось более подходящего занятия? Я назначу немедленно расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости. Республика не может допустить такого преступного неуменья использовать людей науки!
С трудом удалось убедить разволновавшегося комиссара, что нет причины для его гнева и что Нестор Котляревский, хотя по документам параллелен академику, но не имеет высоких научных заслуг последнего.
Открыв дверь, Нестор Котляревский почтительно кланялся профессору и говорил всякий раз: «Желаю здравствовать, господин профессор», – на что профессор неизменно отвечал: «Здравствуйте, товарищ Котляревский».
По этому поводу автор позволит себе высказать заключение, основанное на личном наблюдении, согласно которому, при одинаковом возрастном цензе, люди, стоящие на низших ступенях общественной лестницы, гораздо консервативнее в своих привычках, нежели высокоразвитые индивидуумы.
Профессор проходил в кабинет и некоторое время, закутавшись в пальто, сидел в кресле и с неослабевающим вниманием рассматривал длинный порез в пыльном сукне стола. Через полтора часа он вставал и шел в лабораторию, усаживался у прозекторского столика и там с не меньшей любознательностью исследовал взором скелет собачонки. В продолжение еще трех часов, уходивших ежедневно на это занятие, он грустно вздыхал несколько раз и растирал озябшие руки. По истечении этих часов Нестор приносил три чахлых полена. Одно из них он раскалывал топором на кафельном полу, предусмотрительно ставя его в ямку выбитой плитки, чтобы не портить кафель в других местах. Расколотое полено совалось в буржуйку, долго чадило, заставляя профессора и Нестора задыхаться, но наконец накаляло железные стены, и в течение часа два жреца науки грели пальцы в жизнетворящем тепле. По прошествии еще часа профессор прятал под пальто одно из оставшихся полей, Нестор – другое, и они выходили вместе, как только профессорский хронометр отмечал истечение законного шестичасового срока труда.
В бурные годы это называлось научной работой высокой квалификации.








