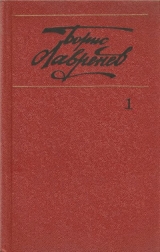
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 42 страниц)
В теплушке было странное любопытствующее молчание.
С нар смотрели на волнующегося командира несколько пар лукавых глаз.
– Кто их видел в последний? Кто с ними по селу ходил? Ты, Блакитный, что ли?
– Ходив, та я их на площади кинув. Не знаю, куды пишли. Мабудь, за околицю к дивчатам.
– Ах, собачьи дети! Говорил же, за село не выходить. Ну, как теперь отвертятся, ежели на контроль наскочат?
– Не наскочат! – отозвался вдруг голос из глубины теплушки.
– Как не наскочат?.. Вернутся на станцию, и готово.
– А ты не беспокойся, товарищ командир! Они не вернутся. Они знают, куда иттить!
Завихляев остановился и внимательно поглядел в угол.
– То есть как это мне понимать?
– А так! Парни-то здешние. У их дом в тридцати верстах. Вовсе, значит, не случаем отстали, а просто по домам двинули. Голодать кому охота? Добро б за что!
Завихляев ринулся к говорившему и вытащил за шиворот к свету.
– Ты знал, знал, стервец? Что ж у тебя язык пришило? А ты знаешь, как можешь ответить по военному закону за покрывательство дезертиров? А?
Парень отряхнулся от завихляевской руки и осклабил огромный щелистый рот.
– Чего знал? Знать ничего не знал, – слыхал, промеж себя гуторили, что дома хорошо бы побывать, баб помять. Ну вот, значит, и сбегли!
– Ах, сволочи!
– Чего сволочи? – сказал глухо сидевший перед Завихляевым. – Помирать с голодухи на казенном деле никому не сладко. Неделю ишшо проголодуем, – счастливо оставаться, товарищ. Помирать задарма присяги не давали. Ежели за власть Советов, это я всегда с огромадной охотой. Подохну и не икну. А из-за теплухи какой, черт весть што в ей везем, – благодарим мирен!
– Правильно!.. Все уйдем! Ну ее к черту! Сама доедет!..
– Я вам уйду!
– А ты не грозись, мила-ай, – протянул лениво Евстратыч, – парни-то правду бают. Где ж это слыхано, чтоб государства солдатов в голоду держала. Мы многого не требовам. Шаньгов али пельменей не прошу, а что полагается, – дай, и никаких!
– Черти вы! – плюнул обозленно Завихляев. – «Дай, и никаких!» Где у вас общественное сознание? Лишь бы утробу набить, а для общего дела потерпеть – это не по вас?
– Зачем не по нас? – ответил опять парень с огромным ртом. – Я ж и говорю, што, ежели за серьезное дело, могу во как пострадать и слова не скажу. А тут с чужого свинства страдаем. Не мы об своей утробе, а эти вот, которы на станциях в шубах зажирели, – утробники. К бумажке чепляются. «Не по закону вас отправили!» То ты с нашего начальства требуй, а раз мы мимо тебя едем, ты дай шамать. Живые ведь люди, кровь за евоную шубу проливали. Видно, сколько ни воюй, а буржуев не выведешь!
Завихляев сунул в ладонь острое лицо свое, будто шашку в ножны, промычал в бессильной злобе.
– Слушай, ребята! – выжал с надрывом. – К послезавтрему доберемся до губернии. Там смахаю в военкомат, вытребую новые документы по форме. Будут кормить!
– Ладно, товарищ командир, пождать не беда. Только ежели в губернии не выйдет дело, так и знай: все уйдем. Пропадай она пропадом, машина твоя! Пойдем прямо на этап, заявимся, – пущай в часть под конвоем отправляют. Хоть кормить будут.
– Ребята!.. Я ж тоже голодаю, а дела нс кину!
– Твоя воля! Дело твое известное, – партейный. Раз приказали, – стенку лбом прошибай и пикнуть не моги. А мы люди вольные.
Завихляев выругался и полез на пары. Эшелон полз деревянной змеей, скрипел и надрывисто лязгал скрепами.
7
Розовое солнце плавало в небе пухлым блином. Снег хрустел под ногами сухим скрипом.
Завихляев стоял на перроне перед начальником станции.
– Не могу, товарищ! Не могу! Строжайшее приказание: транзитные грузовые эшелоны не оставлять на вокзале. Только пассажирские и воинские. Отстоитесь на полустанке. Двадцать верст…
– Да вы поймите, что мне нужно в военкомат, дело уладить. У меня команда с голоду дохнет.
– Это не входит в мою компетенцию. На полустанке настоитесь… Дней восемь проманежим. Можете остаться и потом догнать, или с полустанка приедете первым встречным… Давай отправление!
Заверещал свисток. Визгнули тормоза. Эшелон качнулся и поплыл мимо вокзала.
Завихляев на богу вскочил в теплушку.
– Куда завозят?
– На полустанок, черти их дери! Приказ: по причине загруженности путей не оставлять эшелоны на вокзале!
– А как же с военкоматом?
– С полустанка поеду назад…
– Так!..
……………………………………………
Утром Завихляев ввалился на тормозную площадку встречного воинского и приехал в город.
В военкомате военком выслушал и нахмурился.
– Ваш комиссар безголовый идиот! О чем он думал? Разве ж можно выкидывать такие штуки? Я сам ничего не могу сделать… Нужно послать телеграмму в Реввоенсовет армии, чтоб он подтвердил командировку. У вас деньги есть?
– Какие там деньги, товарищ военком! Все прожрали. Двое уже сбежали по дороге. Остальные еле держатся.
– Да… Дурацкая штука, – сказал, задумчиво смотря в окно, комиссар, – но знаю просто, что делать… По правилу я должен был бы задержать вас, как неправильно командированных.
Завихляев дернулся на стуле.
– Но я понимаю, что вы ни при чем… Пошлю телеграмму… Подождите недельку.
– Товарищ военком!.. Как же недельку? Есть ведь нечего!
– Пока я выдам вам на свою ответственность недельный паек… Вам лично!
– А ребятам?
– Поймите, товарищ, – я не могу нарушить закона.
– Ах ты ж беда! – растерянно сказал Завихляев.
– Вот, пройдите в продчасть, по этой записке вам выдадут. Телеграмму сейчас пошлем.
Завихляев вышел придавленный. Получил в цейхгаузе тощий паек, сложил в мешок и направился на вокзал.
Шел, опустив голову, и на повороте улицы налетел на быстро идущего красноармейца. От удара выронил мешок. Взглянул на встречного.
– Завихляев!.. Ты ли это? Вот так негаданно!
– Тулищев!..
Завихляев взволнованно мял огромную в кожаной варежке руку Тулищева.
Десять лет проработали рядом в токарном цехе.
– Ты откуда?
– Да вот с авиабазой в Сибирь катим, – разухабисто сказал Тулищев. От него пахло спиртом, и он пошатывался. – У нас, брат, моторного спирту… А ты зачем?
– Машину везу в Москву. Ты с Ижевского давно?
– Месяца два. А что?
– Да хотел спросить, что с моими? Полгода почитай писем не было. Бросало нас по всей Сибири, где ж тут почте угоняться!
– Хы… Чудак! Каюк машина, – прищелкнул пальцами с той же пьяной веселостью Тулищев.
– Что, что?.. – прохрипел Завихляев, хватая его за руку.
– Каюк, по-немецки – капут кранкен… Мы, брат, тоже ученые… – Тулищев уцепился за плечо Завихляева, посмотрел на него мутными зрачками. – Ирина твоя скапутилась… Четвертый месяц. Ей-право!
Завихляев качнулся, схватил полушубок Тулищева.
– А ребята? – спросил он чуть слышно.
– Да ты чего?.. Ребят-то в детский дом взяли, пока вернешься. Чижика там поют… ко-лле-к-тивно… Я своих туда ж смотал… Теперь гуляй душа!..
Он икнул. Завихляев вздрогнул от отвращения.
– С чего померла Ирина? – спросил он, подымая мешок.
– Тифом… Дело обыкновенное… Человек большой – вша малая…
– Ну, прощай!
– Куда ж ты? Валим, брат, к нам, вспрыснем покойницу.
– Пошел к черту… Мразь пьяная! – крикнул Завихляев и быстро зашагал прочь.
Шел к вокзалу согнувшись, хотя мешок с пайком был совсем легок.
На вокзале узнал, что до послезавтра в сторону полустанка поездов не будет.
Решил не ждать.
«Двадцать верст к вечеру одолею, а то ребята подумают невесть что».
Шел лесом вдоль рельс, смотрел вдаль опустевшими глазами.
Пройдя десятую версту, вышел на прогалину. У путей высился пригорок, груда запасного балласта. Залез на верхушку, снял шапку, вытер вспотевший лоб и часа полтора просидел неподвижно, сжимая и разжимая челюсти, отчего на скулах вздувались тяжелые желваки.
Дико каркнула над головой пролетная ворона. Он надел шапку, зашагал по полотну. К вечеру пришел на полустанок, нашел теплушку. Дверь была защелкнута изнутри. Постучал.
– Кто там? – проскрипел ржавый голос Евстратыча.
– Отвори, дядя! Я! Завихляев!
– Товарищ Завихляев! Ах, мила-ай, – ахнул старик, отодвигая дверь, – чего стряслось-то. Ушли все ребята!
– А машина? Машина… цела?
– Машине твоей что деется? Целехонька!
– Куда ж они ушли? – спросил, вздохнув, Завихляев, – в город, что ли?
– Зачем в город, мила-ай? Шел тут эшелон встречный, с им комиссия кака ехала лошадиная. Ну наши ребята с ихними погуторили, узнали, что комиссии требоваются добровольцы в охрану. Забрали винтовки, вешши и ушли. «Кланяйся, грят, Завихляеву. Пущай со своей машиной целуется, а нам очертело». И уехали…
– Стервы, – скрипнул зубами Завихляев, – а ты что ж остался, хрыч?
– А мне чего уходить? Мой век теперь недолгий. С машиной подохнуть али без машины – все одно.
Завихляев отошел от двери. Подошел к соседней теплушке, опять прижался щекой к дереву. Снова показалось, что слышит еле уловимое содрогание.
Топнул ногой, отошел, залез в теплушку, бросил Евстратычу мешок.
– Ешь, хрыч, паек достал!
– А ты, родимец?
– Не хочу. Нездоровится что-то.
Залез на нары и под жадное беззубое чавканье Евстратыча мутно и тяжело уснул.
Ночью под эшелон подали случайный паровоз, и он заскрипел дальше, не дождавшись ответной телеграммы.
8
Третий месяц уже ползли по стальным нитям, перецепляясь от эшелона к эшелону, перебрасываясь с линии па линию, прокатываясь под гулкими сводами мутноглазых, покрытых коростой разрухи вокзалов теплушки: «3б. 213 437» и вторая, в которой томились Завихляев и Евстратыч.
Везде и всюду, всякими правдами и неправдами, просьбами и угрозами, проталкивал Завихляев драгоценный груз.
Похудевшее лицо стало совсем острым, болезненно горели в потемневших орбитах упорные, коловшиеся глаза.
В каждом городе, шатаясь от слабости, во время стоянок обегал Завихляев военные, партийные и советские учреждения, совал всюду свои документы, убеждал, просил, требовал.
Кое-где выгоняли, кое-где выслушивали.
В иных местах злились, в иных смеялись; и там, где смеялись. Завихляеву удавалось обычно выпрашивать для себя и Евстратыча какие-то пайковые подачки: хлеб, жесткую, дощатую воблу, сахар.
Завихляев давно продал свои сапоги, куртку, шинель, гимнастерку. Ходил в туфлях из телячьей кожи, – шерстью наружу, – которые добыл по дороге в обмен на горсточку пороху, выковырянную из патронов.
Мужик подержал бумажный пакетик с порохом на ладони, с сожалением сказал:
– Не стоит оно туфлей-то!.. Ну, осподь с тобою! Видать, извелся, паря. А нам порох для охоты во как нужон! Волку развелось тьма.
Сверху закутывался Завихляев в рваное байковое одеяло, привязывая его поясом, чтоб не болталось, и на поясе без кобуры болтался черный, как ночь, наган.
За Уралом стало легче. Меньше ругались на станциях и не гоняли, а почти везде внимательно выслушивали, похохатывали и кормили.
В Рязани даже какой-то проезжий большой комиссар заинтересовался, ходил теплушку смотреть, затем свез Завихляева и Ёвстратыча пообедать в железнодорожный райком, называл героями и на прощание дал денег.
– Если не хватит – купите себе кормежки. А в Москве, как сдашь груз, зайди вот по этому адресу, – ткнул в руку записку, – там тебе все устроят и назначение дадут, куда хочешь.
Утром Завихляев стоял, у раскрытой теплушечной двери, напряженно смотрел за синюю дымку редких перелесков, откуда должна была показаться Москва.
День был погожий, солнечный. Дымилась паром февральская таль.
Прогрохотал стальным плетением двухпролетный висячий мост, кинуло в глаза теплую волну паровозного дыма. Поезд нырнул в выемку, ускорил биение и с рокотом вылетел на открытое место.
За изгибами узкой промерзшей речки раскинулся, тяжело дыша громадным брюхом, плоскомордый монгольский город.
Над ним высоко сверкала и переливалась матовым светом в кубовой сиянии ласковая звезда.
– Ивам Великий блескит, мила-ай, – сказал за спиной, широко крестясь, Евстратыч, – гляди, кака махинища!
9
Комендант вокзала, высокий тонкий юноша, с яркими цыганскими глазами, в новеньком френче и алых малинового блеска, штанах, протянул руку через стол, с брезгливым и недоумением взял просаленные, почернелые и рваные документы из грязной руки Завихляева.
– А-аткуда вы та-акой? – протянул он, пропуская сквозь губы, как макароны, тягучие резиновые слова.
– В документе обозначено, – сумрачно бросил Завихляев.
В лощеной фигуре коменданта ему почудилось враждебное, чужое.
Как будто воскресло и налилось жизнью на его глазах давно сметенное, умершее, сгнившее, которое он сам, Завихляев, раздавил громыхающим ударом сапога в Октябре.
Комендант концами пальцев, точно змею трогал, раскладывал по столу рваные обрывки.
– Здесь сам черт ногу сломит. Неужели вы не могли, товарищ, поаккуратнее с документами?
– Три месяца в теплушке. Голодали, холодали, сколько раз этими документами в рожу всяким саботажникам тыкал. Не до того, чтоб беречь! – сказал Завихляев дерзким голосом.
Комендант с усмешкой кольнул его цыганскими зрачками.
– Видно птицу по полету! Партизанщина?
Завихляев промолчал. Его душила мутная злоба.
Комендант пригнал наконец обрывки, вчитался, поднял недоуменно плечи.
– Э, странно! Сейчас выясню.
Он снял телефонную трубку, кинул помер в эбонитовую воронку.
– Вэсэнха? Дайте секретариат. Секретариат? Можно попросить к телефону товарища Бумана. Это вы, товарищ Буман? Комендант Казанского. Здравствуйте! Тут, видите, у меня дельце. Сейчас прочту вам документ… Да! Он тут у меня. Теплушка с машиной. Ах, вы знаете? Нет, не пропала, пришла! Дадите указания для разгрузки? Хорошо, я подожду. – Он повернулся и, как будто впервые увидев, что Завихляев стоит, кинул: – Присядьте, товарищ!
Одной рукой, не отрывая от уха трубку, достал портсигар и закурил.
– Да, слушаю! Пришлете представителей для приемки? К двум часам? Хорошо! Я их провожу. До свидания!
Он повесил трубку и спросил Завихляев а:
– Где теплушка, товарищ?
– На товарной. На шестом пути, у склада большой скорости.
– Хорошо! Можете идти! Не отходите далеко, скоро приедет комиссия для приемки. Да приведите себя в порядок немножко. Вы на человека не похожи.
Завихляев поднялся со стула.
– Эх… на человека не похож стал! Вас бы, товарищ, так погоняли – облезла бы со штанишек лакировка-то. Чуть жизнь не кончил я за нее, а вы «на человека не похож». Так что должно вам быть стыдно за такую обиду.
Комендант пожал плечами.
– Не я же вас гонял, товарищ, нечего на меня и обижаться, – бросил он вдогонку Завихляеву.
10
Принимать машину приехало трое.
Двое в шинелях, оба серые одинаковые, с одинаково повисшими пегими усами унылые и тощие.
Третий, главный, в добротной шубе с бобровым воротником, в бобровой шапке.
Лицо у него было гладко-розовое, поросячье. Над вздутой толстой губой топорщились отливавшие смолой усики.
Глаза были масленистые, приторные, и правый противно подергивался тиком.
Он шел, тяжело вытаскивая ноги в высоких ботах из талой грязи, и трудно, со свистом дышал.
«Этот небось не голодал», – с внезапной яростью подумал Завихляев, когда человек в шубе липким голосом расспрашивал его, пока комендант ходил за дежурным по товарному двору.
Пришел дежурный с пломбовыми щипцами. Все подошли к теплушке.
Главный вдруг вытянул театрально руку и неестественно громко сказал:
– Нас здесь немного, но тем ценнее отметить при присутствующих героизм товарища… как ваша фамилия?.. Да, товарища Завихляева, который отдал все заботы нужной Советской стране машине. Рабочая сознательность товарища Завихляева дала нам возможность увидеть машину здесь. От лица Вэсэнха благодарю вас, товарищ!
Завихляев мрачно смотрел в землю. Евстратыч хмыкнул.
Дежурный перерезал проволоки пломбы и изо всей силы толкнул намерзшую дверь. Она чуть подалась и остановилась.
– Заела, – сказал дежурный, – нужно подсобить.
Двое одинаковых, в шинелях, потянули за ручку, дежурный нажал сбоку. Дверь взвизгнула и откатилась с тупым грохотом.
Человек в шубе шагнул к отверстию, и вдруг поросячье лицо его мгновенно побелело, глаза остановились. Он приподнял руку и стал, дрожа, пятиться назад.
Завихляев метнулся к теплушке, ахнул.
Из полумглы вагона торчали четыре пары голых синих пяток. Одна была разрублена, и на ней замороженным черным сгустком запеклась кровь.
Завихляев услыхал за спиной чье-то тяжелое дыхание. Оглянулся, увидал позеленелое лицо коменданта. Руки у него тряслись, и он беззвучно шептал:
– Что же это… что же… что же?..
Одним прыжком Завихляев очутился в теплушке.
В рваном одеяле, исхудалый, серый, поросший серой бородой, он показался стоявшим внизу пятым, вставшим мертвецом. Евстратыч безостановочно крестился.
Завихляев нагнулся над телами. На заиндевевших и промороженных лицах, сквозь синеву, зеленые пятна и кровоподтеки, застыла смертная мука в оскаленных зубах. Животы у всех были вспороты, и из разрезов виднелось золотое крепкое зерно пшеницы сибирки.
Стуча зубами, Завихляев дотронулся до лба ближайшего. Руку обожгло холодом, тело издало деревянный звук, и ой был так страшен, что Завихляев отшатнулся. Ухватился за стену теплушки и увидел на полу листок бумаги, продырявленный в двух местах, очевидно упавший с палки, воткнутой и щель пола.
Схватил, перевернул, вскрикнул.
– Что? – спросил придвинувшийся комендант.
Завихляев спрыгнул вниз, ткнул бумагу коменданту. Тот перехватил со на лету. Прочел вслух, как будто ему трудно было читать, по складам: «Главному кагалу фаршированная щука на святки. Машина велела кланяться. Капитан Оскерко».
Уронил бумагу, и вдруг человек в бобровой шубе, стоявший, зажмурив глаза, у соседнего вагона, дернулся вперед и закричал визгливо и мерзко па Завихляев а:
– Как вы смели?.. Арестовать его. В особый отдел, в подвал! Сгною подлеца, расстреляю!.. Издевательство, наглость.
Все затихли. Завихляев вздрогнул, схватился за грудь, шагнул к кричащему.
– Молчать… сволочь!.. – выбросил он рыдающим клипом. – Молчать, гнида! Я… я… – Он задохнулся: – Я из-за ее жизни решился… Все потерял, детей на нищету бросил, все для нее, для машины… для голубушки… для рабочей власти, а ты на меня расстрелом?..
У, свинья пузатая! – и, рванувшись вперед, плюнул в дергающийся тиком масленый глаз.
Человек схватился за лицо, отпрянул и, воя и спотыкаясь на коротких ножках, побежал вдоль путей, потеряв бот с левой ноги.
Комендант схватил Завихляева за руку. Завихляев вырвался.
– Оставь, товарищ. Больше не трону! Хватит! – сказал он ровно и спокойно и вялыми шагами отошел от вагона.
Сел на рычаг стрелки и уткнул голову в колени.
Евстратыч подбежал мелкой рысцой. Зеленая спутанная борода жалко тряслась.
Положил руку на плечо Завихляеву, нагнулся:
– А, товарищ? Товарищ Завихляев? Вон что вышло, мила-ай! А ты не убивайся! Плюнь на это дело! Какая твоя вина? Говорил я тебе, что в ей, в машине? Дермо она, одно слово – тьфу!
Завихляев не отвечал.
Евстратыч слегка подтолкнул его, и вдруг тело Завихляева взвилось, как подброшенное.
– Нет, нет!.. Найду ж я ее!.. Доставлю!.. Как же так? – крикнул он пронзительным истошным голосом, зарычал и, вытянув руки, пошел, качаясь, как слепец, вдоль вагонов, прокалывая талую жижу под ногами тупым упором невидящих глаз.
И так шел и рычал, пока не схватили сзади догадавшиеся люди.
Бился, кричал, брызгал пеной с губ и бросал в гулкие ущелья вагонов:
– Н-нет!.. Достану… довезу! Врешь… Не обманешь!
Ленинград, ноябрь 1924 г.
ПОЛЫНЬ-ТРАВА
1
По лобастым пригревам чолпанов свиристели овражки, встав на задние лапки у своих норок, вытянув к небу острые мордочки, – предвещали июньский зной.
Вставало над ширококолонной степниной с зари медно-кованое вязкое солнце, поливало красной лавой шуршащие пшеничные волны, сушило белые петли, пыльные узлы степных немереных дорог, размашистые лога, зеленошерстные травы.
Прогревало плодообильное черногрудое логово земное, раскидавшее долы от гранитных порогов Угорских до пенной зелени разгульной Хвалыни.
Скифская вотчина, сердце страны моей, открытой вольным ветрам поднебесья.
Жарок стенной дух, крепко медвяное веянье полынь-травы и чобра, – горечь и сладость.
Взять в руки полынные серебряно-серые былинки, потереть меж ладоней, прикоснуться губами, и в горьком дыхании почуешь всю древнюю тугу земную, услышишь сквозь века долетевший голубиный зов первородины.
Безоглядна степь. Ясную силу дает уму человечьему, острую меткость взору, крепкий загар щекам, сердцу – любовь.
По излогам степным, по обрывистым балкам, опушась камышами и вербами, в лиственном шелесте, разбрасывая в стороны нити ериков и протоков, проходит черными землями кормилец – Великий Дон.
Щедро поит желтое море Тмутараканское, а начало Дону в темном русальем Иван-озере.
Пышут степи в июньские полудни иссушающим мором, а в сухие желтозвездные ночи перемигиваются по закраинам неба перекличкой зарниц.
И в полночь кличет с курганов незнаемый клекот.
Клекочет вещим голосом, поверх деревьев, не виданная никем птица Див, велит слушать чужим землям – Волге и Поморью, Посулью и Сурожу, славному Корсуню и потонувшему в охряных водах идолу Тмутараканскому.
Заслышав тонкие вопли, просыпаются и пугано ржут спросонья кони, мычат коровы. Поднимаются с подушек в станицах чубастые головы, вздыхают с горячего сна.
Кличет Див-птица к беде неминучей.
Жирная степная земля под топотом копыт содрогнется, будет засеена костьми, полита кровью, – взойдет же печалью лютой по всей Русской земле.
2
О двоих повесть.
А может быть, и не о двоих, о многих, о всех. О всех нас, что прошли в полынные эти годы неезженными степными тропами, взяли от степи дары ее: ясную силу ума, меткость взора, полынный загар и медвяную горечь любви.
О нас, обо всех, что возлюбили ширококрылый размах ковыльных полей, ярый лет конского бега, скрип колесный в черные полночи, звон оружия, громы степных очищающих гроз.
О нас, обо всех, – живых и помнящих и о мертвых, чьи тела стали пищей шумным травам, наземом для тучных хлебов.
О тех, что легли костьми по набрежью синего Дона, на ковыльный колеблемый пух, смешав на жаркой земле в общем потоке свою живую кровь.
И даже степным коршунам, жадно приникшим к ней, измазавшим в алое загнутые клювы, не разобрать было, – где чья.
Одна кровь, человечья, и нет в ней различия, когда уходит она из широко растворенных ран.
3
Когда лопнул под гулкими плетьми гаубиц, под грохотной оползью ступенчатых стальных черепах, трощивших тела, под звоном и свистом шашек, – шатнувшийся фронт, как лопается от удара топором туго натянутый последний канат, удерживающий корабль на стапеле, перед спуском, – в широко растворившиеся, дымные и гремящие ворота ринулась конная лавина синих, малиновых, белых фуражек и башлыков. Несли они гибель, меч и огонь. Смятенными ночами пылала округа рыжими космами зарев, грохотала кромешными рокотами взрывов.
В пламенных выплесках рушились вокзалы и водокачки, депо и мастерские, горели на путях тысячи краснобоких теплушек, завивались стальными локонами взорванные у скрещений стрелок рельсы.
Брошенными вьюками ложились в грязь и талый снег людские тела, глаголи виселиц протягивали в закурчавленные багровеющие дымы черные прямые ветки, и они гнулись под гроздьями длинных, недвижно висящих плодов.
А конные лавины с грохотом, посвистом, разгулом, озорной песней, трескотой тележной побежали небитыми дорогами на красноглавую Москву.
Скрипели колеса расползавшихся веерами обозов и пушек, как разлетные прощальные крики лебедей.
Где ступали копытами горбоносые донские кони – мертвела земля, вспять текли реки, в темном ужасе съеживались полумертвые голодные города.
Яростными половецкими чамбулами летели отчаянные конники от Дона, от моря Тмутараканского к живой сердцевине страны.
О славе веков, о силе, о хищной мощи владык лепетали белые шелка знамен, увитых черно-оранжевыми лентами, увенчанных крестами.
Неслись конники через поля, через мосты, по горам и долам, сквозь леса и болота на пряничный город, где днем и ночью черные пальцы кузнецов ковали оружие для дерзнувших и восставших.
И над конными ордами, невидимая никем, ширяла черноперыми острыми крыльями когтящая Див-птица с двумя коронованными головами.
4
В комнате было дымно от колченогой буржуйки, распылавшейся докрасна, пожиравшей обломки забора от дома купца Солодкова.
Второй год служил забор верой и правдой товарищу Белоклинской.
На буржуйке шлепал пузырьками кипятка продавленный жестяной чайник. Пузырьки выпрыгивали на раскаленное железо и долго бегали по нему прозрачными живыми шариками, пока не испарялись или не скатывались сквозь отверстие конфорки в желтую глотку огня.
Товарищ Белоклинская сидела у буржуйки, не видя заигрываний чайника, и, склонив гладко зачесанную голову, читала искрапленные синими чернилами листки.
«…еще пять месяцев, Аничка, и меня выпустят офицером. Очень скучно сидеть в училище, когда на фронте такой подъем духа и блестящие успехи. Я просился в рейд добровольцем, но папа запретил. Сказал, что дело близится к концу и мне нечего соваться, так как лучше выйти знающим офицером, чем недоучкой, вроде советских красных командиров, тем более что всем офицерам будет много работы по воссозданию настоящей дисциплинированной армии. Мне очень было досадно, но пришлось покориться. А нашу кавалерию на всем пути встречают колокольным звоном, цветами, хлебом-солью. Воображаю, как бегут краснопузые. Калединцы заняли Курск и двигаются к Орлу. Досадно, что нельзя посмотреть, как комиссары упаковывают чемоданы и дают драпу из Кремля. Мне очень хочется увидеть тебя, сестренка. Мы только на днях случайно узнали, что ты уехала из Питера к тете Варе. Наверное, очень голодаешь? Я говорил недавно с одним пленным красноармейцем (у нас в училище работают конюхами пять человек). Он рассказывал, что в совдепии люди умирают с голоду. Я его спросил, доволен ли он, что попал к нам? А он очень смешной. Погладил бороду свою, у него рыжая, лопата вятская, посмотрел на меня и говорит: „Вы вот, барчук, сердечный и добрый, не то что другие. Дозвольте мне, глупому мужику, вам начисто, по моему темному разуму сказать?“ – Говори. – „Ну вот, коли правду молвить, сытно у вас и всего вдоволь, а для нашего брата мужика там вольготней. Кланяться некому, а тут только и гляди шею гнуть направо и налево“. – Ну и еще говорит: „Вранье это, что в большевицкой армии сражаются все китайцы и латыши, а только обращение с солдатами вежливое и офицеров не расстреливают, а даже многие офицеры у большевиков занимают крупные должности“. В общем, любопытное рассказывал бородач, но только его вахмистр позвал, а после говорить не пришлось, потому что у нас за интимные разговоры с нижними чинами командир эскадрона так цукнет, что небо с овчинку покажется!
Я подумал немного вечером. Не знаю, как что, но, по-моему про китайцев и латышей он правду сказал. Сколько я ни видал пленных, все они самые обыкновенные рязанские „ваньки“, а китайца я ни одного не встретил. А кроме этих „ваньков“ попадались иногда бритые люди, такого какого-то американского типа, так оказывались рабочие заводские.
Знаешь, – меня иногда берет здоровое сомнение насчет наших газет. Врут, я думаю, три короба. Конечно, большевики сукины-дети и грабители, я от поручика Каменщикова знаю, как они ограбили московские соборы и из гроба Ивана Грозного брильянты вытащили. Поручик тогда по чужим документам в чеке служил и сам выносил ночью мешки, но про китайцев и прочие такие вещи – враки. Я бы не рискнул тебе написать о своих сомнениях, если бы не знал, что письмо передаю через верного человека. А то у нас за такие сомнения и в контрразведке нетрудно очутиться. А тебе пишу обо всем, любимая сестренка. Тут один дурак, Колька Левитов, ты его знаешь, распространял о тебе слухи, что якобы ты тоже большевичка и расстреливаешь буржуев. Ну, я поймал его в парке и намял ему морду как следует – пусть не врет. А то разнес бы слухи, дошло бы до папы, и он разволновался бы. Напиши, пожалуйста, о себе подробно, как живешь и что делаешь? Ведь уже около двух лет, как мы не имеем никаких сведений о тебе, кроме сплетен таких идиотов, как Левитов. Но теперь скоро конец, и мы увидимся, наверное, не позже июня. Ты будь осторожна последние дни, не выходи на улицы во время стрельбы, а то еще нечаянно могут убить. Как хорошо будет снова зажить вместе тихо и дружно. Очень издергала бездомная кочевая жизнь.
А у меня над кроватью, в эскадроне, висит маленькая иконка, которая, помнишь, висела в детской над твоей постелькой. Я, когда молюсь по вечерам, – всегда вспоминаю тебя.
Пиши, Аничка, и мне и папе. Может, найдешь случай передать письма. Крепко целую тебя. Любящий брат Всеволод».
Товарищ Аня согнула прочтенные листки пополам и, открыв дверку буржуйки, сунула в огонь. Бумага страдающе скорчилась, задымила, побежали сперва синеватые огоньки, их проглотило радостно взвившееся, гудящее пламя, метнулось огневеющей душой, улетело в трубу, бросив на углях смятый черный трупик.
Девушка закрыла печку, сняла перекипевший чайник и отнесла на подоконник. Стола в комнате не было. Налила кипяток в эмалированную синюю кружку, пустила крупинку сахарина и, взяв кубик жмыхового хлеба, уселась на кровать.
Отхлебывая горячую жидкость, поглядела на буржуйку, лукаво сморщила нос и сказала вслух:
– Дорогая буржуйка! Как вы думаете, что сделалось бы с полковником Белоклинским, если бы узнал он всю правду?
Угли в затухающей печке вдруг запели тонким пронзительным свистом.
Товарищ Аня расхохоталась.
– Спасибо, дорогая! Я вас понимаю! В ответ на такой вопрос только и можно засвистать. Да… ничего не поделаешь.
Она допила чай, погрызла еще засохший, царапающим горло жмых и легла на доски кровати, закинув руки под голову.
Полежала, мечтательно смотря в потолок, и брови сошлись над переносьем острой морщинкой. Сказала снова тихо и грустно:
– Отец? Отец – глупость!.. Жалко Севу Глупенький мальчик, слепой, как кротенок, и неплохой мальчик. Может еще стать живым человеком. А погибнет, – сам не зная за что… Жалко…
Она встала, сняла со спинки стула порыжевшую кожаную куртку, зябко натянула ее на плечи.
Вынула из кармана клеенчатую, в облысинах, записную книжку и между цифрами, адресами, расписаниями организационной работы и лекций товарища Белоклинской вписала химическим карандашом: «Нужно не забыть написать Севе всю правду».
Спрятала книжку, нахлобучила на пепельноволосую голову хвостатую заячью шапку, схватила портфелик и, закрыв вьюшку печи, вышла на улицу.
На стене у ворот увидела свеженаклеенную стенную газету Роста.
Вглядываясь в сумерках в расползавшийся сбитый шрифт, нашла сводку наркомвоен, прочла о ночном налете конных лавин в районе Рязани, о напряженном артиллерийском бое на Гомельском участке, об отступлении красных частей на новые позиции.
Вести были угрожающие, но в словах, в структуре фраз, даже в порченом шрифте была незримая, но входившая в сознание бодрость.
Товарищ Белоклинская вытерла кончиком мизинца заслезившиеся от напряжения глаза, вздохнула и быстро побежала по улице, прижимая к боку перевязанный бечевкой портфелик.








