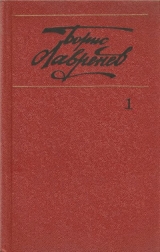
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 42 страниц)
Хмель и гнев остывают в Патрикееве: он осторожно подходит.
– Кто там?
И оседает, слыша раздраженный крик Меланьи:
– Я. Чего заперся, полоумный? Отпирай!
– Чичас. Ключ найду, – отвечает Патрикеев, обомлев, и шепотом говорит женщине:
– Тихо, слышь! Надо тебя вывести, потому – кума пришла.
Он мечется по комнате, соображая. Сонька, приподнявшаяся с нар в начале ссоры, следит ухмылочно за ерзающим тятькой. Меланья ударяет в филенку.
– Да отворяй же! Ты что? Сбесился? Бегла к тебе, к черту, по морозу, чтоб детей помыть, почистить, благо рано отпустили, а тут стынь в колидоре.
Сонька отбрасывает одеяло и звонко кричит:
– Теть Маланя! А теть! У тятьки чужа тетя. У шляпке.
11
На визг и ругань сцепившихся в коридоре женщин первым прибежал Борис Павлович и высвободил из цепких пальцев Меланьи волосы гостьи Патрикеева. Женщина, растрепанная, кровоточа из рваных царапин на щеках и плюя, прислонилась к стене и выбросила залпом водопад матерщины. Из комнаты номер первый выглянула и скривилась ехидным довольством томпаковая сковородка пана ветеринара.
Последняя пришла адмиральша Анна Сергеевна в ночном пеньюаре, – уже собиралась отходить ко сну. Подходя, спросила сперва для самой себя:
– Pourquoi ce bruit? – а затем перевела для всех: – Что за шум, господа?
Борис Павлович смущенно переступил с ноги на ногу. Меланья втолкнула Патрикеева в комнату и захлопнула с треском дверь.
Адмиральша обратилась к женщине:
– Кто вы такая, сударыня? Что вам угодно?
Борис Павлович сделал движение встать между адмиральшей и женщиной, но не успел. Вся ярость избитой обрушилась на адмиральшу. Она закричала, захлебываясь злобой:
– А ты кто тут, старая моська? Бандерша? Моща дохлая… Тоже, может, в любовь играешь? У, черти треклятые, пропала моя жизнь через вас!..
Она завыла.
Борис Павлович мягко взял ее под руку и, не встречая сопротивления, провел мимо ошеломленной адмиральши к парадному выходу.
Там он достал из кармана пятирублевую кредитку, сунул в руку женщине и сказал:
– Вот, возьмите! Только уходите!
– Спасибо, – ответила вдруг притихшая женщина и покорно ушла.
Адмиральша, придя в себя от испуга и неожиданности, открыла комнату Патрикеева и встала на пороге, гордая, величественная, словно на выходе царя.
– Мсье Патрикеев, – позвала она металлически.
Патрикеев растерянно обернулся.
– Чего изволите, Анна Сергеевна?
– Мсье Патрикеев. Я считала вас порядочным человеком и даже приглашала вас в свой дом, оказывая вам доверие, несмотря на ваше простое звание. Вы обманули его и повели себя некорректно. Не comme il faut. Вы позволили себе привести падшую женщину. Это непростительно, и я вынуждена объявить, что не могу больше принимать вас у себя.
И, не давая Патрикееву ответить, вышла.
Патрикеев подбежал к двери, тряся бородой. Ему необходимо было сорвать злобу на ком-нибудь, и вышло, что удобнее всего – на адмиральше.
– И не надо! – закричал он вслед. – За чай-сахар спасибо, а насчет прочего вы дура старорежимная, и черт с вами!
Адмиральша обернулась. Подбородок ее дрогнул и отвалился. Она всплеснула руками и сказала, забыв приличия:
А вы – серый альфонс.
12
С утра Генрих Пекельман выбегает из дому, не завязав галстука, непричесанный, и, топоча, несется вниз, с площадки на площадку. Он торопится за доктором.
Леле Пекельман неожиданно стало плохо. Волнение вчерашнего дня, неосторожные поцелуи свалили ее. Всю ночь возле постели стоял медный тазик, наполненный розовой пузырчатой пеной; опустел флакон с «Саидой».
А рядом в комнате, без сна, томился и задыхался, шагая из угла в угол разбитой походкой, Генрих Пекельман, ломая прямые морщинки у носа.
Утром Генрих вошел в Лелину спальню, увидел окруженные коричневыми провалами закрытые Лелины веки, хрустнул пальцами и сказал:
– Лела, я имею к тебе одну просьбу.
Леля тихо мигнула ресницами, не поднимая век.
– Я хочу просить тебя, Лела, чтобы Борис Павлович не приходил к тебе. Ты очень волнуешься, Лела. Тебе это вредно, – произнес Генрих, запинаясь.
Он увидел мгновенный взблеск в повернутых к нему белках. Стоял молча и ждал.
Леля взмахнула одной кистью, вся рука не поднималась от слабости.
– Это глупости, Генрих, – прошептала она, – глупости. Ты жесток! Ведь я знаю, что умираю. Знаю.
Она закашлялась и приподнялась. Новый комок пузырчатой пены закачался в тазике.
– Глупости, Генрих, – повторила она, – как тебе не стыдно? Мне скучно одной, без тебя, и когда ты приходишь – мне… скучно с тобой…
Вернись, неосторожное слово, сорвавшееся с губ, запятнанных розовыми пузырьками! Останься несказанным… Шесть твоих звуков – как шесть ударов ножа в грудь человека с разбитой походкой, с душой, усталой от боли, тревоги, постоянного напряжения, человека, безмерно преданного, любящего. Жестоки выпустившие тебя губы.
Генрих отвернулся в угол, чтобы Леля не увидела его глаз.
– Я знаю, что тебе скучно со мной, Лела. Я сам знаю, – но…
Было в голосе Генриха Пекельмана, в сутулых плечах такое усталое уныние, что Леля не выдержала. Она вскочила и закричала, протягивая к Генриху худые желтые палочки:
– Генрих!.. Генрих, миленький!.. Бедный Генрих! Убей меня! Я подлая, я бесчестная. Я все равно умру… задуши меня!..
Она откинулась назад и заколотилась головой о железные прутья кровати.
Генрих Пекельман кинулся к ней, подставляя длинные белые пальцы под удары Лелиной головы, чтобы смягчить их.
– Лела!.. Лела!.. Не надо! – кричал он в исступлении. – Не надо, Лела! Ты ни в чем не виновата, Лела. Никто не имеет вины.
Леля стихла. Голова ее боком легла на подушку, в груди заклокотало, и сквозь стиснутые зубы, яркая, словно выбившаяся из прически лента, поползла по подушке кровавая струйка.
Генрих Пекельман ахнул и, без галстука, непричесанный, побежал за доктором.
13
Доктор вытер полотенцем широкие красноватые ладони и повернулся к Генриху.
– Если вы хотите продолжить жизнь вашей жены, сударь, – официально и сухо заговорил он, – ее нужно завтра же отправить на юг. Завтра! Вы понимаете? Каждый лишний день, который она проведет здесь, – преступление.
– Да, да. Я очень понимаю, – вяло ответил Генрих. Проводив доктора, он заглянул в щелку на Лелю. Она лежала белая, и дыхание не поднимало запавшей груди. Генрих Пекельман ощутил щекотно всползающий от щиколоток к животу страх. Ему показалось, что Леля уже мертва, но она слабо пошевелила ногой одеяло. Генрих тихо отошел.
Придя в лавку, он сел в задней комнате на высокий стул конторки, положил локти на конторку и уронил на них лоб. Так он просидел часа полтора.
Приказчик, с лицом, похожим на изрытую проселочную дорогу, рябым и нотным, тронул его за рукав.
– Генрих Иванович. Там вас гражданин спрашивает. Завчерашний.
Генрих поднял голову от конторки. Прямая морщинка сломалась гневом. Он протянул руку, будто отталкивая невидимый и противный предмет, но сказал приказчику сухо:
– Пусть гражданин идет сюда.
Гражданин в выдровой шапке и оливковом пальто с выдровым воротником просунул в комнату лисью тонкую мордочку.
– Можно, Генрих Иваныч?
Генрих Пекельман не ответил. Он смотрел на лисью мордочку с тупой покорностью ведомого на смерть животного.
Гражданин мигнул и всунулся в комнату целиком. Он был худ, висящие щеки его были желто-зелены, как недозрелый лимон, и стриженые черные усики казались приклеенными.
– Как здравствуете, Генрих Иваныч? – любезным голосом протянул он, подходя.
Генрих Пекельман, не смотря на тянувшуюся желто-зеленую руку, отрывисто бросил:
– Здравствуйте… Что вам надо?
Гражданин замигал и, наклонив голову набок, произнес:
– Что же мне рассказывать, Генрих Иваныч? Небось сами сведомы… Так как же: есть ваше согласие или нет? Как перед богом говорю: ничем вы не рискуете.
Генрих Пекельман молчал; гражданин, улыбаясь, смотрел ему в рот.
– Как перед богом, Генрих Иваныч. Выпишите сотни две чеков в разбивку, метров по тридцать – и вся недолга. А я деньги принес. Вот они, беленькие.
Гражданин раскрыл бумажник, помахал вытащенной из него пачкой.
– Пятьсот-с, Генрих Иваныч. Честно. Треть прибыли. Наша фирма давняя, без обмана. Умеем людей уважать.
Генрих Пекельман побледнел и закашлялся. Гражданин косо глянул на него и чутьем понял минуту. Он ловко и льстиво подложил под локоть Генриха пачку.
– Вот-с. И, кроме, разрешите просить вас отобедать по старому обычаю, по-хорошему.
Генрих вялым, хлябким движением взял деньги и сунул их в карман, словно торопясь скрыть их от дневного света.
– Прошу извинить. Я не имею времени.
Он хотел сказать, что у него дома умирает жена, что только поэтому он, Генрих Пекельман, пустил на порог гражданина, но сейчас же понял, что это не нужно, смешно и оскорбительно – и для него и для Лели.
– Жаль… жаль, – протянул гражданин жалобно и, помолчав для приличия, спросил настойчиво: – Так разрешите, Генрих Иваныч, забирать товар?..
Генрих Пекельман молча уронил голову на конторку.
– Тревожитесь?.. Совестью страдаете, Генрих Иваныч? Не стоит. Все грешим, – сказал гражданин, проскальзывая в дверь.
Когда приехавший возчик грузил на подводу свертки ситца, рябой приказчик, сделав преданное лицо, спросил у Генриха Пекельмана, сумрачно наблюдавшего вынос товара:
– Для какого учрежденьица, Генрих Иваныч?
Генрих Пекельман, вздрогнув, посмотрел в рытвины шершавой кожи приказчика.
– Для детского дома, – тихо ответил он и отвернулся.
Приказчик два раза облизнул веснушчатые губы и потупился.
14
Борис Павлович собрал в папку подписанные председателем бумаги и, не уходя, стоял у стола.
– Вы что-нибудь хотите сказать, Борис Павлович? – удивился председатель.
– Да, у меня необычная просьба, Геннадий Семеныч.
– А именно?
– Мне срочно нужен отпуск. Вне всякой очереди и немедленно.
Председатель зажег спичку и, не торопясь, раскурил сигаретку на соломенной ножке.
– Заграничные. Курьер привез. Не желаете ли? – и, потянув носом дымок, спросил: – Что так загорелось? Не смогу. Вы мне очень нужны. Время горячее.
– Геннадий Семеныч, – сказал Борис Павлович, опираясь на стол, – у меня умирает любимая женщина. Мне нужно увезти ее на юг, не медля ни минуты. Я очень прошу вас, Геннадий Семеныч.
Председатель, сморщась, поковырял пальцем чернильное пятно на клеенке стола.
– Видите… С месткомом и вообще это можно уладить, но я-то без вас… – и, взглянув в тускнеющие глаза Бориса Павловича, закончил: – Ну, ладно… ладно. А я и не знал, что вы женаты.
– Это не жена, – ответил Борис Павлович.
Председатель засмеялся, раскачивая пухлый подбородок.
– А, понимаю!
Борис Павлович, торопясь, перебил:
– Сегодня двадцать третье. Будем считать, что я в отпуску с первого марта по первое апреля. И прошу вас, Геннадий Семеныч, приказать выписать мне сверхурочные и жалованье за март. Всего выйдет рублей четыреста.
– За этим не постоим. Скажите, что я приказал.
Выйдя от председателя, Борис Павлович бросил папку на стол, оделся в вестибюле и, выбежав из помещения треста, на ходу вскочил в трамвай.
В комнату Лели Пекельман он ворвался, даже не постучав.
– Леля! – крикнул он с порога. – Леля! Первого едем. Все устроено, Лелечка!
И остановился, пораженный меловой белизной Лелиных щек, черными запеками губ.
– Лелечка, милая!.. Что с тобой? – спросил он с глубокой жалостью и болью, становясь на колени около постели и ловя свесившуюся с одеяла кисть.
Леля раздвинула рот усилием, похожим на судорогу, и Борис Павлович услыхал страшный, неживой звук:
– Боря… Конец!
15
За Генрихом Пекельманом пришли в семь часов утра. На звонок открыла адмиральша, в пеньюаре, испуганная и жалкая. Папильотки, державшие ее жидкие косицы, тряслись и вставали дыбом.
Когда агент вынул и показал мандат, адмиральша попятилась и перекрестилась.
– Я ничего, господа… За что же? Я всю революцию… Агент перебил ее:
– Опомнитесь, гражданка. Вы, кажись, не мужчина, Нам нужен гражданин Пекельман. Где его комната?
Только тогда адмиральша поняла, что это действительно не за ней, и вторично, уже от радости, перекрестилась правой, а левой в то же время показала на дверь Генриха Пекельмана.
Эту ночь Генрих спал тяжело и душно, беспросыпно. Вечером, по возвращении из лавки, он объявил Леле:
– Лела! Я достал деньги. Ты будешь ехать лечиться. Я знаю: тебе не нужно таких скучных людей, как твой муж Генрих. Я пошлю тебя туда, где много солнца и где много веселых людей. Ты будешь здороветь там, Лела. Но только не надо Борис Павлович, Лела. Я не могу, я люблю тебя, я не хочу терять тебя.
– Хорошо, Генрих! Я поеду, куда ты хочешь, – чуть слышно сказала Леля.
Ей стало вдруг до слез жаль скучного, любящего, заботливого Генриха и захотелось еще раз успокоительно обмануть его. Ведь недолго обманывать. Ведь скелетная лапка туберкулеза еще не сильно, но уже настойчиво легла на горло: протекут часы, не дни, и она огрубеет, вдавится в сонные артерии, зажмет дыхательный тракт, ломая хрящи, – задушит.
– Хорошо, Генрих. Не надо Бориса Павловича. Ты мой хороший и добрый Генрих.
Она приказала Генриху нагнуться и робко поцеловала его где-то за ухом в гладкие, пахнущие бриолином черные волосы.
Генрих ушел к себе поздно ночью. Он сел на кушетку, на которой спал, и долго смотрел в потолок. В глазницах у него влажно блестели нити электрической лампочки. Он заснул одетый.
Сон был удушлив и беспокоен. Генрих был прост и честен, – и, сидя и думая, пока влажные отсветы нитей электрической лампочки дрожали в его зрачках, он уже знал свою обреченность. Поэтому при первых звуках голосов за дверью он вскочил с кушетки, протер глаза и набросил пиджак, прислушиваясь. Осторожно-уверенные шаги человека, пришедшего за ним, за Генрихом, приблизились и остановились. Легкий стук заколебал гардину.
Генрих Пекельман, серый и осунувшийся, разбитой походкой подошел и повернул ключ.
Агент в черном верблюжьем пальто сказал властно:
– Гражданин…
Генрих остановил его:
– Я знаю. Я все знаю. Только прошу вас – тише. В соседней комнате спит моя больная жена. Я не хотел бы, чтобы вы ее разбудили. Это вредно для нее. Она может умирать.
Агент посмотрел на дверь Лелиной комнаты с равнодушным сожалением.
– Да, бывает… Одевайтесь, гражданин Пекельман. Можете проститься с женой, коли желаете; я за вами не пойду.
Генрих Пекельман заслонил глаза ладонями. Когда отнял, сквозь ореховую смуглоту его щек проступила белесая синева.
– Нет. Я не могу к Лела. Она умрет, я лучше так, – безжизненно сказал он и снял с вешалки пальто.
У парадного выхода он внезапно остановился и дотронулся до плеча агента.
– Гражданин агент. Я имею к вам маленькую просьбу. Мне нужно сказать одному из наших жильцов, чтобы он позаботился о моей жене, о Лела. Можно?
– Отчего ж, можно, – ответил с тем же равнодушным сожалением агент, – только скорее. Невозможно мне задерживаться. Еще дела есть.
Генрих Пекельман обратился к адмиральше, боязливо провожавшей их по коридору.
– Мадам Ентальцева. Можно вас просить позвать Борис Павлович?
– Пожалуйста, пожалуйста, мсье Пекельман, – засуетилась адмиральша и засеменила по коридору.
Борис Павлович пришел без пиджака, застегивая на ходу подтяжки, заспанный и недоумевающий.
– Генрих Иваныч! Что такое? Почему? Какое-нибудь недоразумение?
Генрих Пекельман медленно качнул головой справа налево, смотря в упор на Бориса Павловича:
– Нет, товарищ Воздвиженский. Все в порядке. Ганц аккурат. Но не будем говорить об этом. Я прошу вас не оставить Лела.
Борис Павлович вспыхнул:
– Генрих Иваныч! Об этом даже не нужно просить. Я обещаю…
– Борис Павлович… Товарищ Воздвиженский. Мы люди. Вы и я. Будем говорить, как люди. Я знаю: вы все сделаете для Лела. Я знаю: вы любите Лела. Не отрицайтесь, – поспешно сказал он, заметив тень испуга в глазах Бориса Павловича, – не отрицайтесь. Вы любите Лела! Я тоже люблю Лела. Я хотел бороться за Лела с вами, но я плохо умел бороться и… и должен бецален за свое плохое уменье. Я не вернусь скоро. Любите Лела.
Он схватил Бориса Павловича за руки и приблизил к нему вишневые зрачки, печальные, как болезнь.
– Любите Лела, как я. Она – хорошая жена для нескучный муж. Обещайте мне, товарищ Воздвиженский.
Генрих Пекельман дрожал и тревожно мял захваченные кисти рук Бориса Павловича. И Борис Павлович, охваченный странным человеческим волнением, стыдом и болью, смотря в пол, ответил:
– Хорошо. Я обещаю вам, Генрих. Мы – люди…
– Спасибо. До свиданья. Гражданин агент, мы можем выходить. Одно только слово. Вы не скажете, товарищ Воздвиженский, Лела, что я уведен как преступник. Скажите, как хотите. Можете сказать, что я бросил Лела и разлюбил. Но я для Лела был честный человек, для Лела стал преступник. Не нужно, чтоб она знала это.
И, сутулясь, Генрих Пекельман переступил порог, за которым он перестал быть Генрихом Пекельманом, жильцом квартиры номер девять.
16
Звук защелкнувшегося за Генрихом Пекельманом американского замка подломил Бориса Павловича. Он согнулся и ушел, втягивая голову в плечи, словно ожидая удара сзади. За ним прошлепала туфлями адмиральша Ентальцева.
И ни ушедший Генрих Пекельман, ни Борис Павлович, ни адмиральша не знали, что, пока они стояли в передней, тревожимые и мучащиеся каждый от своего и по-своему, за топким деревом, отделявшим от передней комнату номер первый, прилипла к замочной скважине ушком томпаковая сковородка пана ветеринара.
Пан Куциевский проснулся от необычной в квартире ранней суетни и топтания по коридору и, в полосатых подштанниках, босиком подкрался к замочной скважине.
Не дыша, он слушал; ноги его стыли на ледяном паркете и дрожали мелким ознобом; но слишком было интересно то, что творилось за дверью, – и пан Куциевский не пропустил ни одного слова из разговора.
Услышав щелк замка, он выпрямился и шумно и облегченно набрал воздуха в поросшую рыжим пухом грудь.
Приятно послушать такую занимательную историю. Попался наконец, поганый пейсач. Так и нужно было ожидать. Все жулики.
Сковородка склабится, лапша шевелит кончиками. Пан Куциевский доволен: он получил полное удовлетворение. Но разве это все? А мадам Пекельман так и будет наслаждаться счастьем со своим любовником? Не будет так! Пан Куциевский не допустит, чтобы торжествовал разврат. Он разобьет это преступное счастье.
Пан Куциевский потирает руки, хихикает.
Он садится на кровать и не спеша одевается, все время кривя рот блаженной усмешкой. Одевшись, берет полотенце и отправляется умываться. Он долго брызгает водой и фыркает и возвращается из ванной багровый. Растертая полотенцем лапша торчит во все стороны. Он долго примачивает и приглаживает ее щеточкой перед зеркалом и, открыв ящик стола, роется в куче галстуков. Пожалуй, сиреневый будет подходящ для утреннего визита.
Закончив туалет, пан ветеринар глядит на часы. Половина десятого.
Самое время. Через полчаса будет поздно, могут опередить другие. Он осторожно высовывается в коридор. Никого нет. Теперь пробраться тихонько мимо Патрикеева и постучать к мадам Пекельман.
Леля еще томилась зыбкой дремотой, когда в сознание проник царапающий, тихий, но настойчивый стук. Она открыла глаза и прислушалась. Стучат.
– Кто там? Войдите, – сказала она с удивлением и еще больше удивилась, увидев просовывающегося в комнату пана Куциевского.
– Очень извиняюсь, пани, – промямлил он, – бардзо пшепрашам. Имею сказать два слова. За цо арестован пан Генрих, може, пани знает?
Непомерно огромные от жара и слабости Лелины глаза округлились и зацепились за сиреневый галстук пана Куциевского.
Вместе с улыбкой в них мелькнули и испуг и недоверчивость. Леле Пекельман показалось, что пан Куциевский сошел с ума.
– Что за вздор, Куциевский! Что вы говорите об аресте Генриха! И почему вы нацепили такой смешной галстук? Вы хотите развеселить меня?
Ветеринар льстиво осклабился, но в мутно-зеленых горошинах блеснул злобный лак.
– Прошу прощения, пани. Мне все равно, альбо пани веселая, альбо скучная. Я к пани не нанимался в шуты, как пан Воздвиженский. Говорю чистую правду. Пан Генрих арестован утром, в семь часов.
Леля вскинулась с тревогой.
Генрих! – крикнула она слабо и жалко.
– Пани не верит. Пусть будет так. Нигде нет пана Генриха.
Куциевский распахнул дверь в комнату Генриха. Не видя всей комнаты, чутьем, по особенному виду стоявшего посреди пола стула, по наглой улыбке папа Куциевского Леля с обжигающим холодком поняла, что случилось несчастье.
Она поднялась на руках и прижалась к зеленым, в полоску обоям.
– Объясните толком. Почему Генриха нет? И почему вы пришли мне говорить о нем? Я не хочу. Уйдите. Позовите Бориса Павловича.
Она дышала прерывисто и хрипло.
– Пани желает пана Воздвиженского? Сейчас. Только пан Воздвиженский скажет то же. А пан Генрих сказал, что он очень любил пани и сделался оттого преступником. И пан Генрих знает, что пани любит пана Воздвиженского.
Леля схватилась за ворот рубашки. Пуговица оборвалась. Лелина рука отлетела и ударилась о флакон с одеколоном. Он опрокинулся и, падая, хлопнулся о железную ножку кровати. Хрустальный шарик пробки разлетелся по паркету алмазными осколками, и тотчас же Леля Пекельман высоко и страшно закричала.
Пан Куциевский испуганно кинулся в комнату Генриха, чтобы выбежать в коридор, но дверь оказалась запертой: очевидно, Генрих, уходя, повернул ключ. Пан Куциевский почуял, что у него отнимаются ноги, и, вспотев до пяток, прислонился к стене, слыша беготню по коридору.
Борис Павлович вбежал в комнату вслед за прислугой.
Леля сидела на кровати, прижавшись спиной к стене, с раскрытым ртом.
– Ольга Алексеевна! Лелечка! Что случилось?
Желтая ручка вытянулась к комнате Генриха, и Леля зачастила тревожной скороговоркой:
– Он… он… он…
Борис Павлович, ничего не поняв, кинулся в комнату Генриха.
У стены он увидел томпаковую сковородку. Она потеряла красный лоск и стала цвета бледной латуни.
– Вы как сюда попали? Что вам нужно?!
– Проше згоды, – пролепетал пан Куциевский, закрываясь локтями, – по ошибке вошел до пани, а пани испугалась.
– Убирайтесь вон, дурак! – крикнул Борис Павлович и, выволочив Куциевского из угла, протащил через Лелину комнату и вышвырнул в коридор.
Покончив с ним, он вернулся к Леле.
– Лелечка! Милая! Не бойся. Это – пан Куциевский. Он сдуру, по ошибке, попал к тебе.
Леля медленно отделилась от стены. Спросила:
– Значит, Генрих не арестован? Это неправда, Боря?
Борис Павлович вздрогнул и замялся, и этой ничтожной заминки было довольно, чтобы Леля поняла все. И вторично комнату хлестнул высокий и страшный крик, а за ним Леля повалилась на подхватившего ее Бориса Павловича, заливая его кровью.
– Паша! За доктором! – крикнул тоже не своим криком Борис Павлович.
17
Из комнаты в двадцать семь квадратных метров вынесена Лелина кровать, и посередине нелепо и пугающе стоит обеденный стол, взятый из комнаты адмиральши Ентальцевой.
На столе игрушечный ящик гроба, похожий на картонный футляр для куклы, из-под белой вуали острый, как гвоздь, подымается кверху белый нос.
Последний мир Лели Пекельман разбился и выметен алмазными осколками из убранной, безобразно голой комнаты.
В коридоре Борис Павлович разговаривает вполголоса с агентом похоронного бюро. В открытой двери сумрачно стоит Патрикеев и, не отрываясь, смотрит на торчащий из-под вуали нос.
Когда агент уходит, Патрикеев оборачивается к Борису Павловичу и говорит раздумчиво:
– Эх, мать родная, елки зеленые! Такая доля наша, Борис Павлыч. И как сразу померла, бедняга! А с чего? Жить бы и жить.
Борис Павлович зябко пожимает плечами, тихо отвечает Патрикееву:
– Ужасно, товарищ Патрикеев. Дико, бессмысленно. Убить этого негодяя мало.
– Какого негодяя? – спрашивает Патрикеев, выдвигаясь в коридор и приглядываясь к опухшим глазам Бориса Павловича.
– Куциевского! Ведь это он сказал ей, что Генрих Иваныч арестован. Она и так была слаба, ну и не выдержала волнения.
Черная в подпалинах борода Патрикеева вздергивается.
– Хто? Куциевский? Ах, ты ж, кур…
Патрикеев спохватывается. При мертвой нельзя ругаться.
– Ну, я схожу за цветами, – говорит Борис Павлович.
Патрикеев, понурившись, сосредоточенно провожает его до выхода и долю стоит у дверей. Дернув подбородком, как будто решившись, он берет стул и садится у двери. Голова его клонится; кажется, что он дремлет.
Минут через двадцать он настораживается, слыша, как кто-то всовывает ключ в щелку американского замка, и быстро встает.
В растворенной двери показывается сковородка пана Куциевского. Он не видит Патрикеева в темноте передней и, спокойно закрыв дверь, сталкивается с ним.
– Добрый день, пан, – говорит Патрикеев.
Я с хамами не разговариваю, – отвечает Куциевский и летит на пол, сваленный грузным ударом патрикеевского кулака, смешавшего в кровавое месиво губы и черные гнилые зубы пана ветеринара.
Патрикеев, не взглянув на него, уходит в свою комнату.
Минут через десять в квартиру приходят дворник и милиционер. За ними трусит пан Куциевский, со вздутой сковородкой, прижимая ко рту намоченный платок.
Патрикеева уводят в район под рев Соньки и Котьки.
Когда в квартире нет никого из мужчин, адмиральша Ентальцева выходит из своей комнаты и подходит к Лелиному гробу. Веки адмиральши красны и набрякли.
Она поправляет сбившуюся на сторону вуаль и, наклонившись, внезапно, с материнской запоздалой нежностью, целует гладкий холодный лоб Лели Пекельман.
Старому сердцу натужно достукивать остатние часы. В эту минуту адмиральша чувствует, что и у нее могла бы быть дочь.
Она стоит еще некоторое время у изголовья гроба, шевеля губами и изредка крестясь. Потом уходит к себе, достает из шкапчика шкатулку птичьего глаза, развертывает сверток шелковой бумаги и вынимает из нее парчовые туфельки-наперстки. Вздохнув, она прижимает одну туфельку к щеке и, взяв их, возвращается в комнату покойницы.
Там она откидывает покров, снимает с ног Лели дешевые, отвратительно пахнущие клеем коленкоровые туфли и легко надевает парчовые на окоченевшие, почти детские ступни.
18
Вечером в квартире номер девять тихо и тоскливо. Только из комнаты Патрикеева звучит минорный вой. Патрикеев вернулся из района, лежит на кушетке и вполголоса, с надрывом, тянет:
Ро-дила неча-а-янно-о-о
Ма-а-льчика ма-а-а-ать…
Сонька и Котька безостановочно шмыгают мимо комнаты Лели Пекельман, заглядывая на гроб и шепотом переговариваясь. Их внимание неудержимо привлекает подымающий вуаль нос.
Борис Павлович сидит у себя и пишет.
Адмиральша Анна Сергеевна только что поставила самовар и, ожидая, пока он вскипит, вяло раскладывает по столику узоры пасьянса. На подоле ее примостилась Бици, посапывая и хрипя.
Адмиральше смутно. Смерть Лели Пекельман расшевелила золу, плотным пластом осевшую на очерствелом сердце, пораженном артериосклерозом, затеплила давно оледенелые угольки, и сегодня кровь Анны Сергеевны не так лениво и медленно, как всегда, пробегает по стенкам сосудов, покрытым слоем известкового стекла. Анна Сергеевна томится и скучает. Валик цепляется, хрипит, хрякает, вызванивая опус пятьдесят восьмой, опус скуки и одиночества.
Уже пять дней, как Анна Сергеевна не играла в шестьдесят шесть. Когда в старости отнимают привычку, чувствуешь себя так, как будто ампутировали, болезненно и грубо, самый нужный орган.
Кончив с пасьянсом, Анна Сергеевна перетасовывает карты и сдает их на двоих. Она берет обе сдачи и пытается играть сама с собой, но это не удается. Игра теряет всякий интерес: она пресна и жалка.
Анна Сергеевна вздыхает, смешивает карты и встает. Минуту она колеблется и, решившись, выходит в коридор. Там она тихо зовет Патрикеева:
– Ефим Григорьевич!
Патрикеев вскакивает с кушетки и открывает дверь.
– Ефим Григорьевич, – неловко говорит адмиральша, кусая губы, – пожалуйте на чашечку чая. Если чем-нибудь обидела, не взыщите. Сгоряча иной раз скажешь что-нибудь лишнее.
Патрикеев добродушно усмехается.
– Ничего, Анна Сергеевна! С кем не бывает… И я вот сегодня осердился до самого сердца, пана ветеринара суродовал. Не тревожьтесь. Сейчас приду.
Адмиральша, успокоенная, уходит. Патрикеев, плюнув на ладонь, приглаживает волосы и подтягивает поясок у штанов. Проходя к адмиральше, он видит Соньку и Котьку, разглядывающих покойницу.
– Пошли спать, черти нехрещеные, – шипит он, больно щипля Соньку за плечо, – пошли! Нечего тут толкаться. Ее душеньке покой нужен, а вы толчетесь.
У адмиральши уже дымится чай, разлитый в синие с золотом чашки.
Патрикеев садится против Анны Сергеевны, берет всей пятерней сданные карты – и с первого хода подменяет лежащего под колодой козырного туза девяткой. Карта привалила.
Адмиральша помешивает ложечкой чай и говорит:
– Ужасно, Ефим Григорьевич. C’est horrible. Она такая молодая, такая прелестная, умерла, а мы, старики, живем, ждем смерти, но она не приходит к нам.
– А вы не торопитесь, Анна Сергеевна, – отвечает Патрикеев, – поспешишь – людей насмешишь.
– Спасибо за комплимент, Ефим Григорьевич.
Карты, шелестя, ведут на столе цветную карусель.
Левретка Бици посапывает во сне.
В своей комнате продолжает писать длинное письмо матери Борис Павлович.
Сонька и Котька, убравшиеся из коридора после окрика отца, вновь появляются босиком, в одних рубашках. Они, подталкивая друг друга, входят к покойнице, без страха, снедаемые одним любопытством. Сонька, натужась, тащит без шума к столу стул; Котька влезает на него и, затаив дыхание, дотрагивается пальцем до Лелиного мертвого носа.
– Ну, што? – жадным шепотом спрашивает Сонька.
– Холодный, – шипит Котька.
– А всамделишний?
– Кожаный, – нехотя отвечает ей Котька, слезая со стула.
Из-за двери доносится радостный голос адмиральши:
– Сорок, Ефим Григорьевич.
Сонька и Котька, словно две белые мыши, испуганно исчезают.
Детское Село, сентябрь – ноябрь 1926 г.








