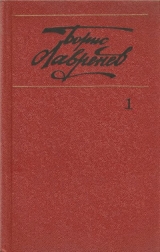
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 42 страниц)
ТАЛАССА
(Трезвая повесть)
1
Ссора разыгралась внезапно и бурно тогда, когда, казалось бы, ее вовсе нельзя было ожидать.
Модест Иванович с утра не поехал на службу и отправился в банк получать свой выигрыш, тысячу рублей, по облигации второго государственного займа.
Получив из бесстрастных, поросших рыжим пухом рук кассира десять сторублевок, он вышел на улицу, пересчитал полученные деньги еще раз и вдруг почувствовал, что у него ослабели ноги и кружится голова.
Раззолоченное августовское солнце внезапно вспухло до нестерпимых размеров и прожигало насквозь. Модест Иванович обмахнулся несколько раз каскеткой, как веером, но легче не стало.
Спавший у подъезда банка ободранный извозчик, учуяв момент, оживившись, просиял:
– Подвезу вашу милость. Прикажете?
Модест Иванович хотел отказаться, – он давно уже забыл, как люди ездят на извозчиках, – но головокружение усилилось, и к нему присоединилась мутная сосущая тошнота.
Модест Иванович решился:
– На Зарядьевскую. Сорок копеек.
Извозчик погас и пожалобился:
– Полтинничек бы, ваша милость.
Модест Иванович не ответил и сделал попытку сдвинуть с места прилипшие к тротуару ноги.
– Ну, ладно, садитесь уж, – испуганно заторопился извозчик. Ему было страшно потерять седока: в Переплюйске люди не так часто пользовались извозчиками, чтобы презреть сорок копеек.
Модест Иванович взгромоздился в скрипучую пролетку и затрясся по рытвинам уездной мостовой, трудно дыша и прижимая левым локтем карман пиджака, в котором лежали деньги.
На Зарядьевской, у ворот, скучилась толпа жильцов и любопытных, собравшихся поглядеть, как явится домой человек, выигравший взаправдашние деньги. Впереди стояла рябая постирушка Чумариха, оторвавшаяся от стирки и не успевшая стереть мыльной пены с распаренных рук, упертых в крутые, хорошо известные всем ловеласам Зарядьевской, бедра.
Толпа, перешептываясь, глядела вдоль улицы, когда из-за церкви Вознесения показалась сперва голова лошади, потом извозчик на козлах и, наконец, согнувшаяся в пролетке фигура Модеста Ивановича.
– Едет! – взвизгнула Чумариха, и шепот оборвался, словно слизанный ветром.
Тряская рысца пепельной кобылы окончилась у ворот, пролетка скрипнула впоследях.
Модест Иванович, потупившись и не смотря на зрителей, слез с подножки.
Чахоточный почтовик вытянул длинную зобастую шею и недоверчиво спросил:
– Получили, Модест Иванович? Действительно?
Модест Иванович молча кивнул головой.
– Настоящими червонцами? – не утерпела, в свою очередь, спросить часовщица, мадам Перельцвейг.
Модест Иванович не ответил. Он порылся в кармане и сказал извозчику:
– Ты подожди-ка здесь, я сейчас вынесу. Мелочи нет, – и, пробежав в подворотню, поднялся на второй этаж по деревянной, крашенной охрой лестнице.
Авдотья Васильевна жарила в кухне лук на сковородке. Над плитой тянулся сладковато пахнущий дымок. Заслышав шаги Модеста Ивановича, Авдотья Васильевна обернулась и выжидательно взглянула на мужа.
– Принес?
Модест Иванович полез в карман пиджачка и подал беленькую пачку Авдотье Васильевне. Она засопела, налилась румянцем и засеменила в спальню. Модест Иванович последовал за нею. Авдотья Васильевна отперла комод и, сунув деньги под белье, опять заперла ящик.
– Слава богу, – сказала она, отдувая жирно расквашенные губы. – Я, по правде, даже не верила. Думала – надувательство одно.
Модест Иванович потоптался на месте и поспешно сказал:
– Дунюшка. Дай, пожалуйста, сорок копеек. У меня нет мелочи, а нужно заплатить извозчику…
Авдотья Васильевна вздернула кверху широконоздрый тупой нос и всплеснула руками:
– Что? Извозчику?! Какому еще извозчику? Это что за новости?!
Модест Иванович сробел:
– Ты не сердись, Дунюшка. Я очень расстроился, когда получал деньги, голова у меня закружилась, испугался, не упасть бы по дороге и не пропали бы деньги, так я подрядился с извозчиком за сорок копеек.
Авдотья Васильевна вспылила:
– Голова закружилась? Видали вы такого ирода? Ты что, нэпман или комиссар, – на извозчиках раскатывать? Боже ты мой! Сорок копеек! Дурак! От банка до нас ровным счетом на двугривенный езды, а он сорока копейками бросается, как важная птица. А?
– Дуня, – сказал уже тверже Модест Иванович, – теперь поздно спорить – двадцать или сорок, когда я срядился. И потом ведь я же привез большие деньги.
Авдотья Васильевна секунду помолчала и шагнула к Модесту Ивановичу.
– Ты что же это, Модька? Никак, перечить вздумал? Смотри! Тысячу привез. Так надо ее на извозчиках прокатывать? На, довольно с него! – крикнула она, вытаскивая из кармашка холщового передника двугривенный. – За глаза хватит. Он рад содрать, черт желтоглазый, – видит, человек сдурел от радости.
– Ну, марш! – угрожающе прибавила она, видя, что Модест Иванович стоит, понуро смотря на двугривенный в своей ладони.
Модест Иванович поморщился.
– Мне надо сорок копеек. Я не могу выйти к извозчику с двадцатью.
Авдотья Васильевна попятилась.
– О-о-о!.. – протянула она зловеще, – вот как. Ступай сейчас же!
– Это тиранство!.. Это гадко! – вскричал Модест Иванович, теряя хладнокровие.
– Ты это кому? Мне? Такие слова? На ж тебе, мокряк. – Авдотья Васильевна взмахнула мокрым и грязным полотенцем, зажатым в пальцах. Модест Иванович не успел закрыться, и полотенце липко щелкнуло его по носу и по глазам. Он схватился за ушибленное место и сел на табурет.
Авдотья Васильевна хладнокровно подняла упавший двугривенный и, грузно попирая ступеньки лестницы, вышла в подворотню, оттуда на улицу.
Извозчик, избочась на козлах, слушал пересуды жильцов о своем седоке, выигравшем тысячу, и причмокивал на пепельную кобылу, прядавшую спиной от мух.
Завидев вышедшую Авдотью Васильевну, жильцы затихли. Авдотья Васильевна, не глядя ни на кого, подошла к извозчику и сунула ему двугривенный:
– Вот тебе.
Извозчик косо глянул на Авдотью Васильевну.
– Ты что же, стерьва, робишь? Тебе барин сорок копеек дал, а ты по дороге двугряш ужулила. Давай, а то кнутом огрею.
В кучке жильцов проползло шелестящее хихиканье. Авдотья Васильевна подпрыгнула на месте, встряхнув широкими плечами и плеснув бюстом.
– Ах ты рвань желтоглазая! Ты с кем разговариваешь? Что я тебе – кухарка? Вон отсюда, а то милицейского позову.
Извозчик осклабился.
– Ен оно што, – сказал он врастяжку, – значит, сама барыня. Ну и народ пошел. На ком только баре не женятся. Вот, то ись, граждане, вовек бы на такой кислотной суке не обмарьяжился.
Он сплеча хлестнул пепельную кобылу, рванувшую пролетку, и, пока Авдотья Васильевна опомнилась, был вне досягаемости.
Авдотья Васильевна окинула уничтожающим взглядом хохочущих соседей и, покачиваясь, пошла домой.
Модест Иванович лежал на кровати, из-за спинки торчали его пятки каблуками вверх, нос ушел в подушку.
– Модька, – крикнула Авдотья Васильевна, – встать! Покрывало только вчера выглажено. Для тебя, что ли? Так не напасешься чистого.
Модест Иванович молча поднялся, взял каскетку и подошел к двери.
Взявшись за ручку и открыв дверь, он обернул к Авдотье Васильевне лицо, по которому размазались грязные потоки слез, и выкрикнул трясущимися губами:
– Сквалыга!.. Плюшкин проклятый! Чтоб ты сдохла!
И поспешно бросился вниз, не ожидая ответа.
2
Когда родители листали залитые домашней сливянкой страницы старого крестного календаря, ища имя для новорожденного, они никак не предполагали, что судьба подарит Модесту Ивановичу качества, вполне отвечающие избранному наименованию: необычайную скромность и робость.
Это вышло само собой. Нечаянно.
Мать Модеста Ивановича приписывала это несчастью, происшедшему с новорожденным в день крещения.
Приходский священник, отец Елевферий, окуная младенца в купель, по дряхлости не удержал маленькое скользкое тело и уронил Модеста Ивановича в воду вниз головой. Модест Иванович наглотался теплой воды и был вытащен из купели синим и полузадохшимся.
Это ли или что другое было причиной, – но ребенок рос необычайно пугливым и тихим. Он пугался яркого света, громкого голоса, каждого шума, всего, что было необычным в его маленькой жизни, и, при первом вторжении чуждого начала в его ограниченный мирок, стремительно заползал в уютный угол между материнской кроватью и громоздким мраморным умывальником. И никакими посулами и угрозами не удавалось выманить его из излюбленного убежища. Если же его пытались извлечь оттуда насильно, Модест Иванович задирал кверху розовый подбородочек, распяливал ротишко, и комната оглашалась таким нестерпимо звенящим воплем, что отец Модеста Ивановича, аукционист городского ломбарда, сам виртуозно владевший высокими модуляциями, морщился, собирая у глаз лучики мелких морщин, и говорил домашним:
– Оставьте… оставьте Модьку. Он мне барабанные перепонки рвет.
Позже робость Модеста Ивановича стала принимать явно болезненный характер.
На десятом году Модест Иванович, держась за руку отца, отправился держать экзамен в гимназию и уже на первой диктовке с ним случилось несчастье: он неосторожно уронил на казенный, белее снега, лист, с круглой гимназической печатью, жирную чернильную кляксу.
Этот вздорный и забавный для любого мальчишки случай поверг Модеста Ивановича в нервное оцепенение. Распялив глаза на металлический блеск чернильной капли, уронив перо, он откинулся к спинке парты. Сердце его перестало отсчитывать такт; обтянувшееся лицо намокло холодным потом, особенно густо усеявшим нос мелкими росинками, а культяпые мальчишечьи пальцы, растопыренные на наклонной доске парты, густо посинели, словно вымазанные берлинской лазурью.
Подошедший преподаватель не смог добиться от него ответа. Пришлось вызвать гимназического врача, который с помощью сторожа унес Модеста Ивановича в учительскую и, провозившись с ним полтора часа, привел наконец мальчика в чувство.
Едва поступив в гимназию, Модест Иванович обратил на себя внимание гимназического начальства тем, что приходил в суровое белое здание гимназии первым, задолго до того, как начинал собираться бесшабашный мальчиший народ.
Робкая неуклюжая фигура в долгопятой, сшитой на вырост шинели, съежившись, ныряла в гулкую пасть гимназической двери каждый день аккуратно в десять минут девятого, как только зевавший во весь рот швейцар Николай поворачивал в ней ключ, – и, раздевшись, бочком пробиралась по сводчатому тюремному коридору в класс. Там Модест Иванович усаживался на свое место, на третьей парте у окна, старательно подобрав ноги и положив ладони на коленки. Он сидел и смотрел прямо вперед блеклыми синими глазами, с выражением постоянного испуга, не двигаясь, не обращая никакого внимания на начинавших подходить после половины девятого шумливых и голосистых одноклассников.
Однажды директор Сторогов, проходя в ранний час по коридору, заметил через стеклянную дверь одинокую фигуру мальчика и заинтересовался. Распахнув дверь, он вошел в класс во всем великолепии вицмундира, рослой фигуры и холеной рыжей бороды.
Завидев начальство, Модест Иванович вскочил, вытянул руки по швам, побледнел и уставился на подходящего директора.
– Ты почему, мальчик, так рано приходишь? Как твоя фамилия? – ласково жмурясь, как раскормленный доброй хозяйкой кот, спросил Сторогов.
Он пользовался славой либерального директора и гордился, что гимназисты любят его, как отца.
Модест Иванович стоял перед ним, не сводя с директора взгляда. Его круглый пуговичный нос сморщился и вздрагивал, пухлый рот бутончиком беспомощно раскрылся, и нижняя губа шевелилась, – но ни один звук не вылетел из этого рта.
Сторогов повторил свой вопрос.
То же молчание, только еще чаще заморгали пушистые белые ресницы.
– Когда тебя спрашивают, нужно отвечать! – повысив голос, несколько нервно сказал Сторогов, возмущенный поведением первоклассника. – Говори же!
Модест Иванович продолжал хранить загадочное молчание, и только пальцы, прижатые к швам штанов, запрыгали в неудержимом танце.
Либерализм Сторогова был оскорблен. Сторогов перестал владеть собой. Он топнул ногой и гневно вскрикнул:
– Дерзкий мальчишка! Останешься сегодня на час после уроков.
И вышел.
Модест Иванович не шелохнулся. Он превратился в соляной столб. Он продолжал смотреть вслед директору стоя.
В класс один за другим вбежало несколько первоклассников. Побросав книги на парты, они заметили необычную позу и остеклившийся замерзший взгляд товарища. Один из пришедших подбежал к нему.
– Кутиков! Ты чего?
Модест Иванович по-прежнему молчал.
– Дура! – сказал товарищ, ткнув пальцем в живот Модеста Ивановича, и отскочил, завыв от испуга: Модест Иванович упал на пол, не разогнувшись, как падает подгнивший заборный столб.
После этой оказии за Модестом Ивановичем в классе прочно установилась кличка «деревянный апостол», потому что его поза и падение напомнили мальчишкам сходный случай с деревянной статуей апостола Петра, стоявшей в нише городского костела и сбитой оттуда грозой.
В буйных гимназических игрищах и драках – один на один, «на обе руки», «на левую» и «на правую» – Модест Иванович никогда не участвовал. Единственным его развлечением во время перемен было раскладывание на коленях и любовное перебирание отменной коллекции перышек, пока она не была бездушно отнята второгодником Кобецким. Модест Иванович поплакал, но не сделал никакой попытки вернуть утраченное сокровище, не подумал даже пожаловаться классному надзирателю или инспектору, как посоветовал ему сосед по парте.
При всей робости и скромности, в Модесте Ивановиче совершенно не было задатков молчалинства или кляузничества, и хотя одноклассники и потешались всячески над странным характером товарища, но их забавы носили характер добродушных и веселых проказ, а не злобного и жестокого издевательства, которому изо дня в день подвергались ябеды.
Жесточайшим же несчастьем Модеста Ивановича были вызовы. Едва заслышав свою фамилию, произнесенную с высоты кафедры, Модест Иванович белел, тело его покрывалось пупырышками, и, стоя перед учителем, он походил на птичку, зачарованную взглядом удава. Отвечая урок, он краснел, обливался потом и начинал тяжело и длительно заикаться. Это выводило из равновесия самых благодушных преподавателей, и, несмотря на то что Модест Иванович дома каждый вечер корпел над уроками, как профессор над ученой диссертацией, графа классных журналов против его фамилии нередко украшалась двойками – то широкими и круглыми, как калач, то вытянутыми и острыми, смотря по темпераменту преподавателя.
С неизменной скромностью и безропотностью лавируя между всеми гимназическими несчастиями, Модест Иванович добрался до четвертого класса, в котором на его расцветающую жизнь свалилась непереносимой тяжестью – геометрия. Геометрия стала для Модеста Ивановича враждебной и неодолимой силой природы, борьба с которой была безнадежна.
Геометрические чертежи казались Модесту Ивановичу страшными ловушками, а их сухие, остро пересекающиеся линии вонзались в его сознание нестерпимой болью. При каждом вызове по геометрии с Модестом Ивановичем повторялось то же одеревенелое состояние, в которое его поверг в первом классе директор Сторогов: он не мог ответить ни слова, и нервный чахоточный математик Миронич, яростно облизнув губы, отсылал несчастную жертву на место и садил в журнал крепкий и длинный кол с таким же наслаждением, с каким наши простодушные предки забивали осиновую оглоблю в могилу вурдалака.
Геометрия погубила Модеста Ивановича. Она окончательно парализовала его слабую волю к борьбе за существование; она выросла над ним, как массив непроходимого горного хребта. Употребив свои неокрепшие силы на борьбу с беспощадным чудовищем, борьбу безрассудную и напрасную, Модест Иванович забросил все остальные предметы и в конце года получил синенькую тетрадку, где по всем одиннадцати графам каллиграфически красовалась роковая цифра два.
В тот же день Сторогов вызвал отца Модеста Ивановича и предложил ему взять сына из гимназии.
– Мы долго наблюдали за ним, – сказал он, соболезнующе вздохнув, – и пришли к убеждению, что он не совсем уравновешен душевно. Возьмите его на год или на два, полечите где-нибудь на морских купаньях, чтобы закалить его нервную систему, воспитать в нем самостоятельность и энергию, и тогда приводите обратно. А так мы не можем с ним возиться. Гимназия – не санаторий для нервнобольных.
– Морские купанья? – ответил взволнованный Иван Акимович. – Но ведь вы знаете, господин директор, что я со всей семьей еле перебиваюсь с хлеба на квас.
– Ничем помочь не могу. Каждый живет, как ему положено. Такова, к несчастью, несовершенная система современного общества, – мудро вздохнул Сторогов и добавил решительно: – А из гимназии вам все же придется его взять. Таково решение педагогического совета.
Вслед за педагогическим советом в семье Модеста Ивановича состоялся семейный совет, на котором было положено отправить Модеста, для воспитания самостоятельности и энергии, на все лето к тетке, имевшей крохотный хутор в степи, у Азовского взморья.
Первый месяц, проведенный у тетки, нисколько не изменил характера Модеста Ивановича. Ходил он так же скромно, бочком, каждое утро тщательно чистил брючки и ботинки, избегал общества деревенских мальчишек и никуда не выходил за пределы вишневого садка, прилегавшего к теткиному дому.
В начале второго месяца теткин муж, Павел Петрович, завзятый рыболов и охотник, иронически присматривавшийся к странному племяннику, предложил ему поехать ночью на рыбалку. Модест Иванович вежливо, но без всякой охоты согласился.
Они выехали на шаткой душегубке в предутреннюю пору, когда лиман еще дымился курчавым туманом и отливал свинцово-синим мерцанием.
Гулкая тишина, нарушаемая только бульканием весел да заунывными воплями далекой ночной птицы, пластом налегала на парящую воду. Шелковый ветер нес в лица крепкий йодистый дух.
Рыболовы отъехали подальше от берега, бросили якорь, и дядя Модеста Ивановича стал разматывать леску, наверченную на деревянную рогульку.
На востоке, над сизым глянцем воды, затрепетали первые розовые тени.
Павел Петрович достал жестяную коробочку с наловленными за день перед рыбалкой крошечными крабами. Он сорвал трем крабам лапки и насадил круглые подушечки на крючки. Модест Иванович, полулежа на корме, следил за спорыми движениями дядиных пальцев.
Павел Петрович размахнулся. Свинцовая гирька свистнула и, булькнув, ушла под воду. Павел Петрович протянул леску племяннику.
– Бери, Модя. Вот так. Как почувствуешь, что рыба дергает, подсеки, а потом, не торопясь, тяни.
Модест Иванович цепко схватил леску. Дядя увидел, что апатичные блекло-синие зрачки племянника вдруг заострились сухим блеском. Модест Иванович уперся взглядом в воду, в то место, где уходила в зеленоватую глубину леска.
Леска дрогнула и вытянулась.
– Подсекай, – шепнул Павел Петрович.
Модест Иванович поддернул леску пальцем и, весь просияв, начал быстро выматывать ее на борт.
Под водой показался растопыривший колючие перья головастый бычок. Он рванулся последним усилием в сторону и повис в воздухе, вздувая жаберные щитки.
Модест Иванович, взвизгнув, схватил бычка всей кистью, накалываясь на колючки, и, громко засмеявшись, заглянул в выпученный ужасом рыбий глаз.
– Ну, Модя, нравится? – спросил Павел Петрович.
Не сводя взгляда с бычка и все крепче, с какой-то первобытной жестокостью сжимая задыхающуюся рыбу, Модест Иванович звонко ответил:
– Ой, как хорошо, дядя! – и швырнул бычка в воду, набравшуюся на дне, между бимсами баркаса.
В пурпурных и алых дрожащих спиралях выплыл на горизонте из-под воды раскаленный ломтик солнца. Вода засияла хризолитовыми и золотыми полосами. Песчаный берег вспыхнул и загорелся горячей желтизной.
Павел Петрович показал племяннику на прибрежье и сказал, расправляя плечи:
– Таласса.
– Что, дядя? – переспросил Модест Иванович.
– Таласса. Греческое слово. По-русски – взморье. По-русски нехорошо – таласса куда лучше. Словно волна лижет песок и свистит.
Павел Петрович был неудачником-филологом и, спившись, не кончил университета, но любил в свободные минуты почитывать оставшиеся от университетских лет книжки греческих и латинских классиков.
– Та-лас-са, – медленно повторил Модест Иванович, прислушиваясь к звукам слова, и, виновато улыбнувшись, сказал Павлу Петровичу: – А правда хорошо.
– Мгм, – ответил Павел Петрович, в свою очередь вытаскивая на борт рыбу.
Солнце стояло уже высоко, когда Павел Петрович свернул лески.
– Будет, Модя. Жарко. Рыба не клюет. Будем купаться. Ты плавать умеешь?
– Не пробовал, дядя.
– Ну попробуй.
Павел Петрович скинул вышитую рубаху и коломянковые широкие брюки и, вытянув руки, обрушился с борта вниз головой в воду, плеснув водометом пены. Вынырнув, он позвал племянника:
– Прыгай, Модя. Не трусь, – я поймаю.
– Я, дядя, не боюсь, – так же звонко ответил Модест Иванович и, заливисто смеясь, весело прыгнул в воду.
С этого утра Модест Иванович неожиданно и неузнаваемо ожил. Словно внутри него лопнула какая-то заграждавшая радость плотина и с неудержимой силой забил живоносный источник.
За неделю он сделался коноводом всех хуторских мальчишек, изобретателем и зачинщиком самых буйных и отчаянных шалостей. Он словно торопился наверстать потерянное за годы, проведенные в тихом плену болезненной боязливости. Он исчезал из дому на рассвете и возвращался только к ночи, к изумлению и огорчению тетки, печалившейся, что Модя ничего не ест, может исхудать и заболеть. Но Павел Петрович всячески потакал племяннику. И, несмотря на то что Модя ел урывками и всухомятку, он здоровел, загорал и наливался мускулами и соками.
Когда в августе Павел Петрович привез племянника домой, родители с трудом признали в выросшем на голову, широкоплечем парнишке с огрубелым голосом, здоровыми кулаками и твердой походкой своего Модю, бледного заморыша, сутуло прокрадывавшегося по дому, как расслабленный паралитик.
Обрадованный Иван Акимович повел сына к Сторогову. Сторогов, также пораженный переменой, милостиво разрешил Модесту Ивановичу вновь появиться в стенах гимназии. Модест Иванович в классе по-прежнему держался скромно, но без всякой робости, сблизился с одноклассниками, принимая живейшее участие во всех гимназических проказах.
Но однажды математик Миронич пришел в класс раздраженный тяжелым утренним приступом туберкулезного кашля, ища, на ком бы отвести обиду за свою жалкую, исходящую пенистой кровью жизнь. Он порывисто открыл журнал, поцарапал его колючими зрачками и протянул нараспев с угрожающими нотками:
– А ну-ка, Ку-у-тиков, пожалуй сюда.
Модест Иванович встал, одернул курточку и, твердо шагая, подошел к глянцевитой пустыне новенькой классной доски.
– Ра-асскажи мне те-е-орему о противолежащих углах равносторонних треугольников.
Модест Иванович взял мел и спокойно набросал чертеж. Неторопливо подбирая слова, он стал доказывать теорему. Миронич следил за ним, и под его жидкими мандаринскими усами шевелилась усмешка, едкая, как туберкулезная кровь. Неожиданно Миронич изогнулся всем телом в сторону доски и, ласково-льстиво смотря в глаза сразу остановившемуся Модесту Ивановичу, проскрипел сквозь зубы:
– Остолоп ты, Кутиков! Равносторонний остолоп. Как ни старайся, а геометрии тебе не одолеть. Сожрет она тебя с потрохами.
Перед притихшим классом Модест Иванович выронил мел, вытянулся на мгновение в знакомой гимназистам позе деревянного апостола с замерзшими глазами и, не сгибаясь, грянулся затылком об пол. В общей кутерьме кто-то, через весь класс, влепил в грязную манишку математика чернильницу. Чернила залили воротничок и тощий кадык Миронича, и он, хныкнув, умчался из класса, провожаемый диким воем и разбойным свистом.
Через день Сторогов вызвал Ивана Акимовича во второй раз и категорически предложил взять сына из гимназии.
– Нельзя… Нельзя, уважаемый. Юноша страдает эпилептическими припадками. Это действует на остальных детей. Могут быть массовые заболевания. Мы должны для общего блага пожертвовать одним. Это социальный принцип, – проводил Сторогов убитого Ивана Акимовича.
Так Модест Иванович покончил с гимназией.
Оправившись от припадка, уложившего его на две недели в постель, он встал прежним запуганным и апатичным Модестом Ивановичем, и Иван Акимович тайком утер слезу, когда увидел сына опять пробирающимся по квартире шаткой походкой паралитика.
3
Расставшись с гимназией, Модест Иванович зажил дома бесцельной и тоскливой жизнью выброшенного за борт существа. Единственной отрадой его были книги, которые он брал из чахлой уездной библиотеки. Больше всего Модесту Ивановичу нравились книги по географии и жизнеописания путешественников и мореплавателей. Он забивался в угол у окна на старое клеенчатое кресло, и часами бегали по страницам блеклые синие глаза. После чтения он впадал в мечтательную рассеянность, невпопад отвечал на вопросы, часто даже вовсе не слышал того, что ему говорили: он жил и дышал фантастическим миром книг, вне обыденного бытия.
Иван Акимович, отчасти для того, чтобы отвлечь сына от каких-то опасных, как ему казалось, мыслей, отчасти чтобы приготовить себе помощника на старость, решил пристроить Модеста Ивановича к какому-либо занятию, и на второй год ему удалось упросить директора ломбарда взять сына писцом – на место умершего прежнего писца. Директору понравился каллиграфический почерк Модеста Ивановича, и он уважил просьбу аукциониста.
Модест Иванович беспрекословно уселся в остро щиплющем нос нафталинном воздухе ломбарда у конторки, за проволочной сеткой, склонив голову над желтыми бланками закладных квитанций и бегая по ним пером.
Шесть лет протекли для него на этом месте, как один день; однообразные, невозмутимые, – вода в стоячем пруду, не колеблемая ветрами.
С неизменной точностью, каждое утро он садился на высокий вертящийся табурет, терпеливо и вежливо выслушивал крикливые и нервные претензии закладчиков, вежливо улыбался пухлым, сложенным бутончиком ртом, сохранившим детскую неопределенность очертаний, и самые непокладистые и злобные клиенты смолкали перед его обезоруживающей скромной улыбкой.
За шесть лет он ни разу не брал отпуска, не пропустил ни одного дня и на седьмом году получил повышение за беспорочную службу. Директор назначил Модеста Ивановича старшим письмоводителем, и с жалованья в двадцать пять рублей Модест Иванович сразу перешел на шестьдесят.
Иван Акимович радостно вздохнул: Модя стал самостоятельным человеком, и дальнейшая жизненная дорога ему была обеспечена. Мать же Модеста Ивановича, узнав о его счастливой судьбе, нашла нужным заговорить о женитьбе.
Услышав о намерении матери, Модест Иванович пришел в ужас. Он жил тихо и одиноко, и в то время как его сослуживцы по ломбарду – молодежь влюблялась и увлекалась в уездных масштабах, у Модеста Ивановича не было ни одной знакомой барышни. Он упрямо отказывался от всяких предложений приятелей познакомить его с девицами, хотя охотниц свести знакомство с Модестом Ивановичем было немало. Еще в детстве Модест Иванович был хорошеньким ребенком. У него был нежный, почти девичий, овал лица, большой лоб, мягкие, пушистые, соломенного цвета волосы. Несколько портили приятное впечатление блеклые пугливые глаза, но даже и с этим недостатком Модест Иванович все же был интересным молодым человеком.
Но Модест Иванович считал себя уродом и испытывал необычайную боязнь перед женщинами.
Заволновавшись и покраснев, он сказал матери:
– Нет, нет, мама! Зачем? Мне хорошо дома, и совсем мне никакой жены не нужно. Не хочу жениться. Что мне с женой делать?..
Мать, немного размякшая от наливки, выпитой за семейным обедом в честь повышения Модеста Ивановича, лукаво улыбнулась:
– Ну, жена сама научит, что с ней делать. А женить тебя пора.
Модест Иванович вспыхнул и убежал.
– Дитя, – сказала ласково мать и обратилась к Ивану Акимовичу: – А ты как думаешь, старый?
– Я – что ж… женить так женить. Ваше бабье дело, – отозвался Иван Акимович, пощипывая белеющую бородку.
Со следующего дня мать забегала по свахам. Но, неожиданно, найти невесту для сына оказалось гораздо сложнее, чем ей казалось. Сваха Марья Дормедонтовна, придя к матери Модеста Ивановича и развалясь на стуле сдобным, пушистым, что просфора, телом сказала, отдуваясь:
– Плохо дело, мать моя. Никого уговорить не могу. И Глаголиных натаскивала, и Батаевых, и Дудиных – все, как проклятые, упираются. Одно слово: всем, мол, жених хорош – и тихий, и скромный, и уветливый, и умом не обижен, да припадочный, вишь. Больной, значит.
Мать Модеста Ивановича обиделась и послала сваху в другие дома, но и там сватовство провалилось.
Разморенная сваха устало бубнила:
– Нет, мать моя. Окромя дьяконской Авдотьюшки, другой не найти.
Мать Модеста Ивановича перекрестилась и попятилась.
– Что ты, что ты, Марья Дормедонтовна? В уме? Характер лютый и с актером путалась. Разве такую Модечке надо?
Сваха облизнула губы.
– Про ахтера, може, и враки, никто не видал, а коли и правда, так для твоего и лучше. А то он, по робости, с невинным цветиком и справиться не сможет. Про счет же характера, – кто хочешь облютеет, коли ворота дегтем девке мажут почем зря. А отец дьякон все приданое справляет и флигель на каменном хундаменте дает. Эвона!
Мать решила посоветоваться с Иваном Акимовичем. Он, к ее удивлению, стал на сторону свахи.
– Не нам разбирать, матушка. Если и был грех – человека не испортил. А Дормедонтовна права. Модя, по невинности, не разберет; зато Дуняша с характером, твердая. Такую нашему скромнику и надо.
Модест Иванович покорно принял материнский выбор и вместе с матерью посещал невесту до свадьбы раз пять, выдерживая классическую роль жениха в полном молчании. И хотя нареченная, лихая, разбитная и, видимо, бывалая, пыталась вызвать Модеста Ивановича на разговор, но, кроме «да» и «нет», не выудила из жениха ничего более существенного.
Свадьбу справили, как все свадьбы, чип чином, по-положенному. Молодых отвели в спальню флигеля, а счастливая мать Модеста Ивановича прикорнула на диване в столовой. Но она еще не успела задремать, как дверь спальни распахнулась, и на пороге показалась невестка в одной сорочке. Сквозь прошитое кружевом полотно просвечивало освещенное сзади лампой ее жаркое и мощное тело.
– Мамаша! – позвала она.
Встревоженная мать приподнялась с дивана:
– Ты что, Дунюшка?
Невестка зло и оскорбительно засмеялась в ответ.
– Мамаша, – повторила она, покачиваясь всем телом от язвительного смеха, – прикажите вашему дурачку, чтоб он штаны снял. А то уперся, как бык: «Неприлично при барышне», – и не хочет. А мне тоже не резон. Если не хочет, так я кого другого с улицы позову. Не для того замуж шла, чтоб разговоры разговаривать.
С этой ночи Дунюшка, Авдотья Васильевна, сделала мужа бессловесным и беззаветным рабом, вещью, которой она распоряжалась, как хотела. Модест Иванович покорно надел хомут, и если иногда и бывали у него ничтожные, робкие попытки противопоставить велению Дунюшки свое мнение, Авдотья Васильевне пресекала их в самом начале суровым окриком, а иногда даже и тычками крепких, не женских кулаков.








