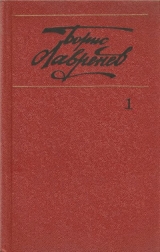
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 42 страниц)
Брат Гавриил и спроси:
– Что, Гришенька, замолился, голубчик, али занедужил?
А у отрока слезы из очей, вскочил и убег в келейку.
А Елевферий браду разгладил и говорит:
– Упреждал я его, чтоб не надрывался на подвиге. Организм слаб. Нужно взяться блюсти его крепко.
А братии и невдомек, на каком подвиге отрок надрывается. С того утра не отпускал более Елевферий отрока уединяться и уходил с ним в бор сам-друг. И возвращались всегда вместе и умилительно. Идут обнявшись, и Елевферий, обвивши руку вокруг Гришиного стана, поддерживает его, яко бы родного сына, и беседует о деяниях святых отцов. И от таких ли прогулок, но только точно стал отрок поправляться, и румянец в лице заиграл, и щеки заполнились. Но, окромя щек, заполнилась и отрочья утроба, и под октябрь, пришед к Елевферию в келью, в рыданиях поведала Аленушка, что тяжела она.
Познавши такой конец душеспасительным беседам, расстроился Елевферий, а тут и отрок совсем, можно сказать, осторожностью стал небречь и чувства свои с откровенностью являл. Завидит Елевферия – и сейчас к нему, и давай ласкаться. Известно – девушка первинка, любовью разгорелась, и в диковинку ей и в сладость. Ластится, целует Елевферия при всей братии, так, что даже он выговаривал:
– Что ты, Гриша, как девушка, лижешься? Непристойно оно!
А она что дальше, то больше. И стал задумываться Елевферий, как бы развязку положить, чтоб в тишине и без сраму, и, опять ни с кем не советовавшись, надумал и Аленушку уговорил. Объявил братии, что получил письмо от патриарховых родственников, что по монистии миновала Гришеньке опасность и просят привезти его в Москву, и сам вызвался проводить. Собрали мы отрока в дорогу с жалостию, больно он всем полюбился, выдали Елевферию из куммунных денег на дорогу, по торговым будто делам, и уехал он с Гришею, а через две недели возвратился.
Настали тут зимние работы, хлопоты разные по хозяйству, так и забылось все. Потом и весна пришла, распустились деревья, зашумели зеленя, и вдруг, в мае, приходит Елевферию письмо.
Прочел и забеспокоился. Пишет-де Гриша. Простудился зимою и теперь при смерти, в чахотке, лежит и просит Елевферия приехать от всей братии проститься. Взгрустнули все, жалко стало отрока, и опять снарядили Елевферия в поездку.
Вскоре вернулся, веселый, и рассказал, что сгинула хворь и выздоравливает Гришенька патриарху на радость и утешение. Но не прошла неделя, как ночью приехали в обитель сурьезный человек и с ним пятеро красных армейцев.
Перерыли всю Елевфериеву келью и под утро забрали Елевферия, без всяческой беседы, и исчезли. Думали не иначе, как Елевферий в Москве в патриарших хоромах бывал, и забрали его по злобе правителей, на мученье за веру. Но на неделе привезли повестку из губернии с гонцом, семерым из братии поименно явиться к следователю при губернском суде. Струсили весьма, но что поделаешь – «несть власти, аще не от бога, и веяна душа властем предержащим да повинуется».
Поехали, провожаемые всеобщим стенанием, а на третье утро вернулись как будто не в себе.
– Ну что?.. Как?.. Что Елевферий?
А они только отплевываются.
– Анафема, – говорят, – первостатейная Елевферий оказался, и из-за него всем нам теперь конец и мучение.
И тут уж от них узнали во всех подробностях, что и как. Спервоначалу, в первую отлучку, отвез Елевферий Аленушку в Кирсанов и поместил на хлеба у знакомой просвирни. Улещал от младенца отделаться, но восплакалась Аленушка:
– Не хочу нового греха на душу принимать, не хочу губить душу христианскую. Бог за это накажет. Хочу ребеночка, махонького, тепленького. Выкормлю, выпестую!
Ну, раскрыл Елевферий мошну, воздал просвирне до весны наперед за нахлебничество Аленушкино, надоумил просвирню, что людям баять, чтоб огласки не было, и уехал в обитель. А в мае и родила Аленушка дочку, махонькую да слабенькую, в чем душа держится. И премного над ней убивалась, а тут и деньги все вышли, и написала она Елевферию, чтоб приезжал, не то сама прибудет к нему с младенчиком. Тогда и поехал он, во второй раз, но только решивши отвязаться от женки обманно. Приехавши в Кирсанов, уговорил Аленушку, что увезет ее к матери своей в Лебедянский уезд, тамо оставит, возвратится в обитель, получит свою долю и тогда вовсе приедет к ней и женится.
Аленушка несказанно обрадовалась, – любила она превелико его, бугая подлого, и, натурально, согласилась. Приехали в Лебедянь, с чугунки в трахтир прикатили, попили чайку, позабавился с ней еще ирод этот и вышел в город, якобы подводу нанять до села. А сам задами прямиком на станцию, залез в первый попалый поезд – и ходу.
Посидевши таким манером до вечера, забеспокоилась Аленушка, оставила доченьку трахтирной хозяйке и побегла разыскивать Елевферия. Всю Лебедянь обегала – нигде нет. Забежала на станцию – там спрашивает, тоже никто не видал. Вернулась назад, восплакалась, востосковала.
Хозяйка видит – женщина вовсе чувствами потряслась, в сомнении находится, давай уговаривать:
– Ты не плачь, молодица. Вернется твой пузырь-то! Запьянствовал где.
Уговорила, спать уложила. Утром просыпается Аленушка, первым делом спрашивает:
– Пришел?
– Нету! Сама ума не приложу, куда деваться мог. Не булавка ведь. Здоров что бык, в щель не завалится. Не иначе, как придется в участок заявку делать.
И только надела платок, чтоб в участок идти, а в дверь почтальон – и писание подает на открытом листе.
– Гражданке Плотниковой.
Схватила Аленушка, читает, сотрясается вся в мучении.
Извещаю тебя, что должен тебя покинуть, потому что больше сраму терпеть не намерен. И так довольно, что ввела ты меня в плотский грех и ангельского чина лишила. Засим счастливо оставаться.
Дочла и сомлела. Пришла в себя на постели, хозяйка водой голову мочит.
– Ай, ай, бабочка, какое дело! Подлецы все мужчины как есть и гнилого яблока не стоят. Что ж ты делать, болезная, будешь?
А у Аленушки ровно рассудок помутился.
Ни гроша, и помочь некому. Одна-одинешенька, как травинка в поле. Хозяйка смекнула и утешает:
– Не тоскуй, бабочка! Наша доля такая. Должно, родные у тебя есть? Отпиши, чтоб приехали за тобой, а пока живи. Не объешь. А вернется мужик с базару, обдумаем еще, что делать. А пока прости, нужно к куме побежать. Ты уж побудь одна.
Осталась одна Аленушка, засумнилась. Отцу писать – новый срам принимать. Тяжко на сердце. À тут еще девочка застонала, заметалась. С вечера в лихоманке билась. Подбежала Аленушка к люльке, глядит, сердце кровью обливается. И впала тут она в последнюю отчаянность. Решила помереть, сорвала полушалок и давай петлю закручивать. Сняла лампу с крюка, закрутила полушалок, голову продела, а тут девочка опять закричи. Отшвырнула петлю, соскочила с табуретки, схвать лампу, отвернула фитиль, керосину в ложицу влила и девчонке в рот.
– Деточка моя, золотая! Не жить нам, бессчастным!..
Заглонула девчонка, поперхнулась, посинела и вытянулась. А Аленушка, как увидела это, ухватясь за голову, простоволосая, выбежала на улицу и, не видя дороги, на середину базара. Выбежала – и в голос:
– Православные!.. Вяжите! Казните! Убила я ребеночка!.. – И хлоп наземь, в полном бесчувствии.
7
Очнувшись в участке, рассказала квартальному все, как было, по порядку. Отправились в трахтир, нашли мертвого младенчика и отправили Аленушку под стражею, с орузеями, в губернию. В губернии же дали приказ ввергнуть в узилище Елевферия. В скорости, два месяца назад, и судили.
Так что отнеслись к нему по всей строгости нонешнего положения и приговорили за совращение малолетней в студный блуд и кинутие в затруднительных следствиях материнства на произвол бедственной судьбы, – на восемь годов.
Хоть и антихристова власть и на церковь гонение подъемлет, аки римский деспот Тиберий, а воздала жеребцу по заслугам.
После суда заявилась к нам в куммуну целая комиссия из города, не такая, как раньше, а по всей форме, с законположениями. Допросили всех подробно и в два счета разогнали братию взашей, а монастырь отобрали под санитарий для куммунического кувыркулеза. Только брата Федора да вот меня, грешного, оставили пока в сторожах, докуда служительствующие не приедут.
* * *
Синий май над муравными скатами и над алоствольным бором, и веет май хвоей и черемухой. И алая доцветает на кирпичных столбах вывеска, и сидит у вывески, забредший из дремучей глуши, старенький леший, сторожит старину.
И жить лешему недолгий срок.
<1925>
КОНЕЦ ПОЛКОВНИКА ДЕВИШИНА
1
У полковника Девишина – голова сказочной редькой, а глаза цвета копчушки, рыбешки такой махонькой. В зрачки полковничьи посмотришь – и блинов захочется, и чтоб блины румяные в масле плавали, сметаной пенились, копчушка рядом на тарелке дымком пахла.
А голова редькой у всех Девишиных. Так еще с Екатерины, царицы, пошло, от первого лейб-кумпании сержанта Елпидифора Девишина, которому пожаловала матушка табакерку золотую с финифтью и фривольной картинкой, написанном на эмали. Табакерка из поколения в поколение к старшему Девишину переходила, а с ней и голова редькой.
Но главная сила у полковника не в голове, а в усах кроется. Замечательнейшие усы – от сизого носа к кирпичным щекам текут шелковой, в нитях серебряной проседи, рекой, а от щек еще в обе стороны рогами стоят на пол-аршина.
Еще в корпусе, желторотым вороненком, зубря к репетиции о военных подвигах Карла Мартелла и Фридриха Барбароссы, упорно щипал кадет Девишин верхнюю губу – ус из небытия вытаскивал.
А выйдя в офицеры, холил усы наусниками «Гогенцоллерн», бинтами, щеточками разными, на ночь в фунтики из «Русского инвалида» заворачивал, и даже, когда в Тамбове влюбился впервые по-серьезному в нотариусову дочку, Галю Сухоцкую, то, спать ложась, не о возлюбленной думал, а об усах – не смять бы.
Так усами добыл Девишин первое счастье – нотариусово приданое. И по службе так же пошло. Не головой – усами взял. В узкой редьке не помещались у Девишина мысли, и думать было невозможно. И не будь усов, остался бы Девишин капитаном-сороковушей навеки и так и загиб бы в Тамбове, спившись в теплой компании. Но усы выручили, и уже к германской войне Девишин командовал батальоном, а в шестнадцатом году в полковники вышел. По старшинству ждал генерал-майорства, да подвели большевистские штучки. Всякий по-своему идет к вершине славы и почестей и берет жизнь за горло. Генерал Лещ вышел в чины басом, Лепилин огромнейшим пузом, а Девишин усами.
2
Третью неделю стоит полковник с бригадою в Соленой Муре. Чертово место Соленая Мура. Офицеры «зеленой дырой» прозвали под пьяную руку… Спереди песок, сзади песок, с обоих боков озера соленые. Десяток татарских хибарок, и ветер поземкой свистит, а морозище в эту зиму такой, что соленые озера, назло губернской статистике, замерзли, и полковник, каждую ночь, по льду в двух связанных телегах, в упряжке шестерней катается, пробует – выдержит ли лед. Об участке своем полковник заботится и побаивается, как бы красные в гости ночью по льду не пожаловали. А красных в гости полковник не хочет. Ну их, – грубый народ и без всякого воспитания.
Тощища в Соленой Муре. Народонаселения никакого, развлечений тоже, кроме извозчичьей игры в очко, да и та очертела. Только и бывает, что под утро, сдуру, или белые, или красные полчаса в тумане попалят – невесть что померещится.
А насчет женского пола – лучше и не говорить. Живет в хибарке старуха татарка – ни рожи, ни кожи. Поручик Тетерников под рождество в пьяном виде с ней повозился, потом три недоли отплевывался.
Одному только адъютанту штаба бригады, ротмистру графу Духовскому – лафа. Живет в хибарке с ординарцем. Ординарец – солдат как солдат, в сапогах желтых свиной кожи, в кожушке новеньком, а только известно всем, что граф с ординарцем на одной походной кровати спит, потому что ординарец не ординарец, а шальная бабенка, Софья Брониславовна, которую отнял ротмистр в городе у кадетского министра финансов.
Надоело полковнику Девишину в Соленой Муре до чрезвычайности. Всю жизнь был полковник весьма целомудренным, от робости, что перед дамами штаны снимать приходится, и супруга его в пример всем дамам полковым даже ставила. А тут – от тоски, что ли, – по одолели полковника неприличные сновидения. Хочется полковнику в город. В городе шайтаны на всех углах и певички такие розовые, полномясые, пахучие. Поет, ножкой в шелковом дессу дрыгнет в бочок… ай, ай, пропадай все поджилки!
И решил полковник поехать к главкому с личным докладом о состоянии участка. Оставил заместителем подполковника Рузина, отмахал на автомобиле шесть верст до станции, сел в поезд – и на следующее утро в городе. Побывал в штабе, от Петра Николаевича личную благодарность получил и, честь честью, вечером в шайтан. В шантане музыка. Сперва «Боже царя», потом «Марсельеза» для доблестных союзников и демократических элементов, а после гимнов – программа. Смотрел полковник, как сверкало на эстраде в цветных шелках розовое душистое тело, присматривался, выбирал.
И послал наконец с человеком записочку одной такой, Хуаните Ферреро. Хуанита танцевала фанданго с кастаньетами, по паспорту числилась Цилей Шепелевич, но очень понравилась полковнику настоящим испанским видом. В гостинице рассердилась немного Хуанита, что у полковника голова редькой и что никак полковник не хочет галифе, подшитые кожей, снимать, но от колечка в полтора карата подобрела, спалила полковника демонской андалузской страстью, а под утро, засунув в чулок десять бумажек, сказала:
– Я даже старичков больше поважаю. Молодой фраер завсегда метит задаром удовольствоваться, а там выйдет, будто за нуждой, и с черного ходу лататы. А еще офицер, благородный!
Поцеловала на прощание полковника, и уехал Девишин днем обратно, на позиции к бригаде своей в Соленую Муру.
3
На узловой, откуда шла временная ветка вдоль фронта, проложенная прямо по солончаку, без балласта, отчего вагоны качались, как фрегат в океанскую бурю, и шли со скоростью восьми верст в час, полковнику пришлось ожидать.
Замызганная, полуразбитая станция переполнена была солдатами, грязными, вшивыми и оборванными, ехавшими то с фронта, то на фронт, а большинством дезертиров, мотавшихся по неделям в этой дикой полосе и грабивших окрестные села, а по ночам приходивших на станцию ночевать в тепле.
Их никто не ловил уже. Надоело. От немытых тел в станционном зале стояла густая вонь. Солдаты валялись на полу, друг на друге, голова к голове и ноги опять на головах, и раскрытые в храпе рты изрыгали тяжкий дух и ужасающе чернели, как раскрытые пасти могил, откуда червянеет полуразложившееся мясо. Полковник плюнул и вышел на платформу. Зимняя степная ночь синела таинственно и пусто, и свистящий ветер бил в лицо колючей поземкой. Но было здесь свежее и лучше. Полковник забродил взад и вперед по дощатой платформе.
И навстречу ему, с точностью маятника, блуждала другая фигура, в длинной артиллерийской шинели с вольноперскими нашивками на погонах. Встречаясь всякий раз у фонаря, удавленником повисшего на столбе, козыряла фигура отчетливо и лихо, пока не сказал полковник Девишин небрежно:
– Не беспокойтесь!
И оба шагали минутами в молчании под яростный высвист поземки. Вдруг вольноопределяющийся, почтительно звякнув малиновым звоном шпор, с рукой к козырьку, подошел вплотную к полковнику.
– Господин полковник, разрешите курить!
– Курите, – буркнул Девишин сведенными морозом губами.
Красным глазком замельтешила во мраке поземки папироса. Полковник прошествовал мимо два раза, и ему тоже захотелось курить. Вынул портсигар, вставил в рот папиросу и полез в карман за спичками, но спичек не оказалось. Пошарив по всем карманам и упомянув материнское имя, Девишин вспомнил, что коробок оставил в купе, при выходе из вагона на узловой. И подозвал вольнопера:
– Вольноопределяющийся, дайте огня.
Пыхнул в ночь язычком огонь зажигалки, вьюжный ветер, налетчик и ухарь, рванул желтое пламя и… миг… как из было левого уса до самой губы.
Жалобно стукнула о доски платформы выпавшая из дрогнувших пальцев виновника зажигалка. Полковник обомлел, почуяв запах паленого рога, и схватился за ус, но ощутил лишь спекшийся пепел. Помутнело в глазах, и голосом, отдавшимся по платформе, как громовый раскат, он рыкнул:
– Сволочь!.. Шляпа! Пшел вон, мерзавец! Под суд!
Словно слизнул вьюжный порыв с платформы взлетевшие крыльями полы шинели, а ветер, обнаглев, засвистал полковнику в самые уши:
– Хи-хи, хи-ииии! Спалили-иии уссс-сище-ссссс!
4
Поезд подполз наконец, облепленный снегом, визжащий и жалкий. Полковник тупо влез в единственный классный вагон третьего класса, под пышным названием «штабной». Вагон был почти пуст. В одном только купе, и киноварной дрожи оплывшей свечи, офицеры резались яро в очко и длинно и нудно ругались.
Полковник забрался в соседнее пустое купе и свинцовым грузом кинул длинное отяжелевшее тело на койку, закутавшись до носу в полушубок. Бушевала в нем слепая темная злоба, и к ней примешивалась горькая жалость к себе самому. Было ясно, что непоправимая на него свалилась беда и что часы жизни отзвонили ему, Девишину, роковую минуту. Текли мирно раньше часы, и жизнь была наполнена смыслом, но сломался вдруг надежный маятник, и сразу все полетело в пропасть, и вместо жизни мокрая, бездонная дырка. Все, чему были посвящены лучшие годы, юность, мечты, вдохновенная забота, что наполняло душу полковника гордостью и сознанием своей нужности в мире, все, в двадцатую долю секунды, было сметено огнем зажигалки проклятого вольнопера. Полковник еще раз с тревогой и тайной надеждой коснулся уса рукой, но пальцы жалко ткнулись в поросль обгорелой щетины. Девишин повернулся к стене и чуть не заплакал. Лязг вагонных стыков и рокот колес навевали тягучую дрему, и в дреме ярко вспомнил полковник роковую вспышку зажигалки и сквозь сон застонал.
На стон из купе игроков вышел, потягиваясь, крепкий, сутуловатый поручик и остановился у койки, всматриваясь в полутьму. Потом весело, приятным баритоном, сказал:
– Послушайте, коллега, вы что тут засели, как сыч? Валите к нам в очко игрануть и дербалызнуть по маленькой!
Полковник приподнялся на койке. Злость хлынула в горло, – вот-вот задушит, – и он придавленно грохнул:
– Поручик! Извольте не забываться и стоять как следует, когда говорите с начальником.
Поручик отпрыгнул испуганно назад в свечную киноварную дрожь. Разговор в купе смолк. Потом послышался шепот, и чей-то голос, негромко, но достаточно ясно сказал:
– Пошлите его… растуды его в душу! Какой-нибудь тыловой гвоздь! Развелось у нас этой сволочи, как вшей!
Полковник встал и хотел одернуть нахала как следует, но тотчас вспомнил, что нет у него больше грозного уса, что нельзя ему выйти на свет, и снова бессильно свалился на койку. Тяжестью и огнем налилась голова. Он накрылся до папахи полушубком и свинцово заснул. Поезд тащился, стучал, лязгал, чавкал пространство, и в стуке колес было слышно монотонное издевательство:
– Сам с усам, да сам с усам, да вам не дам.
5
На фронтовом тупике ждал с автомобилем граф Духовской. Уже светало, когда, залязгав в последний раз всеми скрепами, поезд стал. Полковник, прикрывая ус рукой, вышел. Граф отрапортовал, что на участке за истекшие двое суток происшествий никаких не случилось, и, заметив в лице командира лимонно-болезненную желтизну и руку, прижатую к щеке, спросил с явным участием:
– Зуб болит, господин полковник?
– Не ваше дело! – отрезал, сквозь пальцы, полковник и быстро пошел к машине.
Ротмистр, пожав плечами, последовал за грозным начальством.
Только войдя в свою хибарку, полковник вздохнул спокойней. Первым делом бросился к зеркалу, но зеркало, ехидно скривясь, показало ему картину страшного опустошения. Обгорелые клочья торчали, как пни лесного пожарища. Полковник побледнел, затрясся и, крякнув, шарахнул зеркало о стену. Водопадом брызнули осколки, и полковник горько вздохнул.
Что делать?.. Сбрить и другой ус?.. На кого же он станет похож? Над ним станет смеяться всякий сопливый прапор. Даже (полковник вспомнил сладкую ночь), даже прекрасная Хуанита Ферреро больше не обратит на него никакого внимания. Что он без усов? Посмешище! Не мужчина, а столб с редькой наверху!
Опять свинцом отяжелела голова, и по телу прошла ледяная дрожь густого озноба.
«Должно быть, еще простудился?» – подумал полковник, щелкнув челюстью.
Он открыл дверь и крикнул вестовому:
– Позови полковника Рузина и начальника штаба!
И сел к столу, решительный и суровый, готовый выпить до дна чашу горького унижения.
Отряхая снег с сапог и гулко смеясь, вошли Рузин и наштабриг. Рузин протянул полковнику руку и открыл рот поздороваться, но так и остался с раскрытым ртом. Поморгал ресницами и спросил нерешительно:
– Митрофан Павлыч, что с вами? Где ваш ус?
Полковник покраснел багрово и густо. Потом, заикаясь, как мальчишка, пойманный на скверной проделке, сказал виновато:
– Ус… Да, знаете… несчастье… сжег вот!
Лицо полковника стало вдруг растерянным, жалким и глупым, и Рузин, переведя глаза на начальника штаба, едва успел смять в комок дернувший губы предательский смех. Начальник штаба сложил на груди полные руки и с сожалением смотрел на Девишина:
– Как же это вас так угораздило?.. Ай-ай-ай!
Полковник заметил все же улыбку Рузина, и она шилом воткнулась ему в сердце. Он кашлянул сердито и сказал начальнику штаба:
– Ну, благоволите доложить о положении участка!
Наштабриг нагнулся над картой. Замелькали названия, цифры. Наштабриг докладывал четко и просто, очевидно скучая. Девишин упорно смотрел на него, как будто внимательно слушая, но вдруг перебил на середине доклада:
– Как… это называется, вы не помните?.. Которое артисты приклеивают? Крепс не крепс, нет… как-то иначе!
Наштабриг недоуменно остановился.
Девишин махнул рукой.
– Впрочем, нет!.. Бесполезно!.. Так вы говорите, на участке латышской накопление для атаки?.. Делайте, как знаете! Мне нездоровится! Можете идти!
Рузин и наштабриг вышли. На крыльце наштабриг остановился.
– Что это с ним?
Рузин развел руками.
– Не понимаете?.. Очень просто! Винтик… Соскочил с винтика!
– Из-за уса?
– А что? У него всю жизнь только и было, что на голове, а в голове… – И Рузин длительно засвистел. – Знаете Библию? Ну вот, насчет Самсона. Жила полковничья сила в усах. Спалил ус – и прощай. Скрутили филистимляне – и фить.
6
Три дня агонировал полковник. Безучастно сидел в хибарке, смотрелся в осколок зеркала и вздыхал. Доклады выслушивал равнодушно и вяло, путал названия частей, не понимал телеграмм, приказал произвести совершенно нелепую перегруппировку, обнажавшую фланг, а на почтительное возражение наштабрига яро окрысился:
– Потрудитесь не возражать! За вверенные мне отечеством части я отвечаю!
7
В ночь загромыхали орудия. Красные начали артиллерийскую подготовку, снаряды трудно рвали промерзлый песок, выворачивая колья заграждений, и пронзительный ветер утаскивал куда-то жидкий плеск разрывов.
Под утро замолчала артиллерия, и тотчас же из окопов красных, точно выброшенные пружиной, поползли по снегу рыжие цепи. Залились пулеметы в гнездах, застукали винтовки. Полковник Девишин сидел в хибарке штаба; безучастный и равнодушный. Наштабриг кипятился. Донесения с позиций шли все хуже и хуже. Сделанная, по приказанию полковника, перегруппировка обнажила самое опасное место.
– Вы видите, Митрофан Павлыч! Я говорил! Мы рискуем не выдержать!
– Да? – спросил полковник, и наштабриг вздрогнул от вязкого голоса мертвеца. – Неужели не выдержим? Вот странно!
Опять громыхнули орудия, но уже ближе. Над хибаркой пропел воздух.
С мороза ворвался засыпанный снегом солдат.
– Господин полковник!.. Пропало! Красные ворвались на полукруглый окоп. Второй полк бежит!
Начальник штаба подпрыгнул:
– Резервы!.. Третий полк туда! Всех обозных с винтовками!
Откуда-то, совсем близко, раскатился ружейный залп, а за ним частая трескотня. Начальник штаба бросился к двери и столкнулся с влетевшим Духовским. Лицо ротмистра было в крови из разреза на щеке.
– В чем дело? Что с вами?
Ротмистр задыхался.
– Третий полк в конном… строю… драпнул в тыл!.. Я приказал лупить по ним залпами, но они нас смяли. Видите… шашкой полоснули… Всё к черту! Нужно бежать!.. Их цепь в двухстах шагах… Ее сдерживают одиночные стрелки… Очень прошу вас взять в машину Соню… Я как-нибудь прорвусь с эскадроном!
Со двора прорвал смятение глухой рокот мотора.
– Митрофан Павлыч!.. Ехать!.. Скорее, пока можно! – Начальник штаба дернул вяло распущенное на скамье тело Девишина.
– Что? А? – спросил полковник, проводя рукой по глазам.
– Бежать!.. Машина ждет! Дорога минута!
Полковник встал. Лицо его, похудевшее и равнодушное, вдруг дрогнуло, осветилось внутренним светом, стало почти красивым, и даже исчезла редька, заканчивавшая эту голову.
– Нет, родной! Поезжайте один!.. Пришла моя судьба. Не могу жить без России… Умирать пора!
– Митрофан Павлыч!.. Вы с ума сошли!.. Я вас насильно… – И наштабриг охватил талию Девишина.
Но полковник с обезьяньим проворством вырвался. В руке у него сверкнул револьвер.
– Убирайтесь к черту, или я выстрелю! – сказал он с хитрой улыбкой, похожей на оскал черепа.
Стекло в окне лопнуло со звоном, и пуля стукнула в стену. Винтовочный треск вспыхнул совсем рядом. Наштабриг выругался еще раз и бросился наружу. Автомобиль зарычал сильней, сквозь раскрытую дверь донесся крик:
– Софья Брониславовна! Живо! Садитесь! – Потом что-то крикнул женский голос, и опять голос наштабрига бешено бросил:
– А ну его к хрену! С ума сошел! Что ж, всем с ним гибнуть?..
Машина взвыла и унеслась.
Тогда полковник Девишин вынул из кармана маленькие ножницы и начисто отстриг правый ус. По морщинам щек у него катились слезы. Он бросил ножницы на пол и прижался к стене против двери, высокий, страшный, непохожий на живого.
Выстрелы рявкнули рядом. Послышался топот бегущих ног, у входа что-то покатилось на землю, и в дверь сунулись оснеженные люди в примятых, нахлобученных богатырках.
На пороге они остановились в изумлении и опустили винтовки.
– Що вин? Мабуть, неживый, а мабуть, зомлив?
Тогда полковник отделился от стены и пошел им навстречу.
Подошел к переднему, круглоглазому парню и, выпятив белую губу, зашептал, торопясь и брызгая слюной:
– А… пришли?.. Иуды, христопродавцы проклятые!.. Погубили Россию? Одного уса мало… оба хотите?.. Нате!.. жрите!
Он остановился, с силой плюнул в лицо парню и, быстро вскинув револьвер, ткнул ему в рот.
Брызнула кровь, и парень, не закрывая глаз, осел на пол.
Кто-то испуганно крикнул:
– Бий, братишки!.. Скорише!
Оглушительно треснула выстрелом хибарка, жалобно заметался огонь в лампе, и, прежде чем полковник успел упасть, два штыка вошли ему в грудь и высунулись синеватыми кончиками под лопатками.
8
Утром в хибарке был штаб краснознаменного московского полка. У входа, нелепо вытянувшись, уставясь головной редькой в стену, лежал полковник Девишин в красных носках. Сапоги с него сияли, как ценное имущество.
Лежал Девишин, хитро и дерзко оскалив зубы под голой оттопырившейся губой, и было у него в лице такое выражение, как будто он все знает, что случилось на земле и что должно еще случиться.
Около полудня на крыльцо вышел комиссар полка, товарищ Оконников.
Взглянув на тело, поморщился и сказал спокойно:
– Уберите его в окоп. Некрасиво же возле штаба!
Полковника уволокли за ноги и швырнули в окоп. Снег, наметаемый поземкой, быстро занес неглубокий окопчик, и уже через полчаса нельзя было сказать: был ли полковник Девишин, или его вовсе никогда не было на свете.
<1925>








