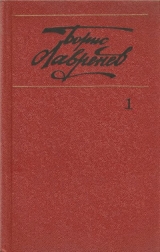
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 42 страниц)
Борис Андреевич Лавренев
Б. А. ЛАВРЕНЕВ (1891–1959)
Вступительная статья

Борис Андреевич Лавренев – один из наиболее читаемых и сегодня советских прозаиков первого послереволюционного поколения. К его книгам обращаются люди самых разных интересов и культурных уровней не из одной почтительности к истории, а в силу живого, непреходящего интереса к сюжетам, созданным его воображением и пером. Около шести десятилетий прошло с тех пор, как был написан рассказ «Сорок первый», десятки раз он переиздавался, миллионы людей знакомы с его образами по киноэкрану, а он привлекает внимание читателей по-прежнему. Не у многих художественных произведений подобная счастливая судьба. Почти такая же известность сопровождает некоторые другие рассказы, повести и пьесы писателя. Не все, конечно, но лучшие. В чем секрет нестареющего успеха лавреневских произведений? Ответить на этот вопрос непросто: Лавренев разнообразен, многоцветен, изменчив, неровен. И всего скорее, притягательность Лавренева для разных читателей будет своя. Однако есть нечто особенное, что лежит в основе широкой популярности Б. Лавренева. Объяснить ее причину – задача настоящей статьи.
Прежде всего очевидна одна общая черта творчества Лавренева: его произведения всегда были созвучны тому историческому моменту, в который они были написаны. Созвучны и по своим темам, по жизненному материалу, положенному в их основу, и по манере письма, по характеру образности и языка. И то, что было острой злободневностью в момент создания произведения, через десятилетия придает ему безусловное значение выразительного исторического свидетельства об ушедшей эпохе.
Почти все главные проблемы становления советского государства и процессы духовной жизни советского народа нашли воплощение в творчестве Б. Лавренева: революционный подвиг, романтика и жестокость гражданской войны, ненавистная писателю пошлость нэповского мещанства, неизбежные трудности в сближении старой интеллигенции с народом, антигуманизм буржуазного общества и империалистической политики Запада, героизм Отечественной войны, традиции русской культуры – вот круг тем, к которым обращался на протяжении сорокалетней работы писатель.
Такое чувство времени было даровано Лавреневу потому, что он всегда занимал активную позицию в жизни, о чем свидетельствует биография писателя, во многом типичная для людей его поколения. О детских и юношеских годах писателя, об обстоятельствах формирования его как личности рассказывается в автобиографиях, помещенных в первом томе настоящего собрания сочинений. Здесь мы лишь коснемся этих обстоятельств в самом общем виде.
В начале десятых годов XX века молодым поэтом и художником, жадно впитывающим в себя настроения и мысли современников, Лавренев быстро прошел путь от символизма к эгофутуризму, а затем к акмеизму. Истинным же началом своего творчества сам Лавренев считает рассказ «Гала-Петер», написанный в 1916 году на фронте. Этот социально тенденциозный рассказ был вехой на пути идейного становления двадцатипятилетнего) поручика царской армии, участника первой мировой войны, который не стал казенным ура-патриотом империалистической России, а выбрал иную дорогу. Участие в неправедной войне, близость к солдату – человеку из народа, о котором так много думала и говорила вся русская интеллигенция, но которого часто так мало знала, помогли понять писателю ничтожность «мышиной возни литературных стычек» на фоне народной трагедии.
Но форма рассказа «Гала-Петер» – его композиция, стиль – живо напоминает нам о поэтическом прошлом его автора, который сам признает в нем «ритмическую стилизацию прозы под Андрея Белого». И герои «Гала-Петер» – не характеры, а типичные маски, подобные персонажам ранних поэм Маяковского.
Рассказ увидел свет только в 1924 году. Во время империалистической войны, когда он был создан и когда его антивоенная направленность прозвучала бы особенно злободневно, рассказ был запрещен цензурой (подробнее об этом – в «Автобиографии» и в примечаниях к настоящему тому).
Этот рассказ не может еще дать представления о характере творчества Лавренева начала 20-х годов – в нем нет ни пестрого буйства романтических красок, ни острого сюжета, ни деятельного и яркого героя. Но страстность, с которой писатель отвергал здесь империалистическую бойню первой мировой войны, предопределила его собственную судьбу во время гражданской войны – молодой офицер встал в ряды Красной Армии. Он дрался с Петлюрой и атаманом Зеленым, затем, после ранения, был послан в политотдел Туркестанского фронта, работал в красноармейских и краевых газетах Средней Азии. Деятельность журналиста обогатила его как писателя не только темами и сюжетами, по и позволила лучше понять современника – человека из народа, пришедшего к революции.
В Средней Азии Лавренев пытается создать роман-эпопею. Замысел так и остался незавершенным, но материал из неоконченного гигантского произведения частично был использован при работе над рассказами и повестями 1923–1925 годов, которые писались уже в Ленинграде. Они-то и принесли автору заслуженную известность. Произведения эти свидетельствуют не только о вполне сложившемся мировоззрении автора, но и о том, что дарование его профессионально отшлифовалось, приобретя черты, характерные для литературы первой половины 20-х годов.
Поэт-модернист стал революционным писателем-романтиком. Вероятно, превращение это обусловила сама историческая ситуация, придавшая именно такую форму творческой энергии литературной молодежи того времени. Вспомним, что тогда же подобную эволюцию, несмотря на несходство талантов, претерпели Л. Леонов, И. Эренбург и другие писатели, захваченные, как и Б. Лавренев, важностью и новизной происходящих в России событий.
О бурных революционных годах, о гражданской войне рассказывает Лавренев в первой своей значительной повести с символическим названием «Ветер» (1924). Фольклорная традиция олицетворения сил природы с процессами, происходящими в обществе, вообще широко использовалась современниками Лавренева, но ассоциативный фон слова «ветер» особенно вдохновлял их, вдыхая в произведения образ стихийной, разящей и в то же время освежающей, очищающей силы.
Буйством и неукротимостью характера может поспорить с ветром герой повести Лавренева матрос Василий Гулявин. В 1930 году писатель вспоминал: «Я провел среди матросов первые годы гражданской войны, жил с ними дружно и тепло, и психология матроса 17-го года не была для меня загадочной». Действительно, Лавренев любит своего героя, понимая природу его беззаветного героизма и бешеной удали, его высокой революционной сознательности и его невежества и моральной несдержанности.
Следует отметить, что стремление к точности, желание правдиво воспроизвести черты удивительного времени выработали у революционных писателей эстетически новаторское качество, которое отличало наиболее характерные произведения той эпохи: соединение героического пафоса и романтики с жестокой правдивостью, чуждой какой-либо идеализации. Вс. Иванов, И. Бабель, Л. Сейфуллина и многие другие пытаются передать в своих книгах в полной сохранности самобытность рядовых героев революции, вышедших из самых недр народа.
Образом Гулявина, бывшего замуштрованного матроса, Б. Лавренев создал обобщенный литературный тип героя, для которого революция была не только освобождением, но и радостным очеловечиванием, пробуждением самосознания. Этим последним обстоятельством обусловлен мажорный тон повести, хотя заканчивается она трагически. Горячность привела Гулявина к гибели. Правдивая и темпераментная натура его не могла не взорваться, когда он увидел в лице князя, белого офицера, всю мерзость и злобу мира, с которым он боролся. И матрос Гулявин погиб, может быть, и безрассудно, – хладнокровие и выдержка не были ему свойственны, – но погиб геройски.
Революционно-романтическая повесть множеством своих черт показательна для литературы той поры. Прозаиками стали широко использоваться тогда стилистические средства поэзии. Иллюстрацией этой особенности стиля прозы 20-х годов может служить ритмически организованное, метафорическое начало лавреневского «Ветра»: «Позднею осенью над Балтийским морем лохматая проседь туманов, разнузданные визги ветра и на черных шеренгах тяжелых валов летучие плюмажи рассыпчатой, ветром вздымаемой пены». Как рефрен в песне, снова и снова возникает в повести образ ветра: «Рождали ветры смятение в глухую бурлящую ярость», «Зимой ледяными пронзительными ветрами продувается степь от ревущего моря». Подобная манера письма свидетельствует о том, что Лавренев отдал дань модному в начале 20-х годов орнаментализму, то есть поэтически украшенному, метафорическому стилю, с инверсиями, имитирующими сказовую интонацию.
Однако все эти литературные приметы времени трогают нас сегодня как воспоминание о детских забавах молодой литературы, искавшей своих новых путей, по непосредственно волнуют не они, а судьба бесшабашного матроса Василия Гулявина, вокруг которой так стройно расположились пестрые события повести.
В повести «Ветер», выразившей истинное творческое лицо писателя и вобравшей в себя предшествующий опыт его жизни, берут начало многие темы и мотивы, нашедшие свое продолжение в последующих произведениях Лавренева 20-х годов. От Гулявина идут многочисленные матросы лавреневских рассказов и пьес, изображение революционных традиций флота. Лирические отступления автора «Ветра», где впервые прозвучит его любовь к городу Петра и Ленина, разовьются через несколько лет в образы, пейзажи и размышления «Гравюры на дереве». Здесь же, в лирических отступлениях «Ветра», в первый раз в творчестве писателя возникает романтическое видение революционной «Авроры». А отношения Василия Гулявина с его комиссаром, бывшим прапорщиком Строевым, положат начало в творчестве Лавренева проблеме интеллигенции и народа – старой интеллигенции и революционного народа.
Первоначальное недоверие вчерашнего матроса к вчерашнему офицеру, любовь несдержанного, неграмотного командира к своему собранному, образованному комиссару, драматическая гибель Строева из-за анархического своеволия Гулявина – все эти отношения даны в «Ветре» правдиво и человечно.
Конфликт между Гулявиным и Строевым, так легко снявшийся в «Ветре» благодаря объединяющей их идее и цели, оказался трагически неразрешимым для героев «Сорок первого».
Эта романтическая баллада с драматичным сюжетом, с героями сильными и цельными, наполнена жестокими и красочными приметами эпохи гражданской войны во всей ее противоречивости: небывалые, невыносимые физические страдания и высокий духовный подъем, ничтожность цены человеческой жизни и пламенность мечты о будущем счастье человечества, переменчивость людских судеб и стойкость выбранной позиции. Драма, изображенная Лавреневым, разворачивается на фоне пронзительной синевы пустынного Аральского моря и рыжих песков страшных Каракумов, и этот резкий, контрастный фон словно олицетворяет непримиримость развязанной стихии человеческих страстей. Написан «Сорок первый» с большой живописной силой. Каждая сцена рассказа отличается четкостью рисунка, каждая фигура – пластической выразительностью.
В то же время современный читатель не может не обратить внимание на несовпадение, – с нашей сегодняшней точки зрения – крайней драматичности событий рассказа, нравственной неразрешимости его финала и иронически-сказовых интонаций рассказчика, прорывающихся откровенной пародией в названиях глав рассказа (например, «Глава первая, написанная автором исключительно в силу необходимости»). Открытая ирония при возведенной в принцип повествования обнаженной правдивости жестоких ситуаций и создает ту авторскую отстраненность, которая превращала неразрешимые драмы трагической эпохи в эстетический феномен. Явление, характерное для советской прозы 20-х годов. Для Лавренева особенно. Романтическая и одновременно иронически-отстраненная позиция автора создала своеобразный стиль «Сорок первого», который узнается буквально по отдельным предложениям.
Заметим, Лавренев не ставит своей задачей подробно воссоздать историю жизни своих героев, углубиться в их прошлое. Кто ждет их дома? Есть ли у них отцы и матери, братья и сестры? Кто будет плакать над этими молодыми жизнями, так ярко горевшими под азиатским солнцем? Для писателя единственно важно – раскрыть противоположность нравственных отношений классовых антагонистов: бывшей астраханской рыбачки и бывшего гвардии поручика. Можно ли сомневаться, на чьей стороне будет победа?
Испытания для своих героев писатель изобретает изощренно: здесь и собственный жизненный опыт – Лавренев бывал в песках Туркестана, – и всегдашняя для писателя оглядка на книжные традиции. Рыбачка и гвардеец, конвоир и арестованный, волею случая оказываются на песчаном необитаемом острове в Аральском море. «Робинзон и Пятница», – с улыбкой говорит поручик непонимающей Марютке. Но кто же здесь Робинзон, а кто Пятница? Синеглазый офицер с чувством высокомерного превосходства, конечно, считает Пятницей Марютку – дикарку с наивной страстью к неграмотным, нескладным виршам, с варварским языком, не читавшую никогда Дефо, не знавшую ни географии, ни истории. Но в сюжете, предложенном Лавреневым, не образованный Робинзон, а полуграмотный Пятница оказывается главной фигурой на острове. И не только потому, что Марютка более находчива, более приспособлена к невзгодам и случайностям, чем изнеженный барин, но и потому, что она самоотверженна, ей чужд эгоизм. Это она спасла жизнь больному офицеру, она сделала сносной жизнь на острове, она наполнила сердце поручика счастьем.
Писатель не унизил свою героиню, как и Гулявина, искусственной идеализацией. Она предстает такой, какой она была, со своим жестоким счетом убитых офицеров, со своим детским простодушием и наивной страстью к стихам, со своей грубой прямотой и душевной открытостью. Щедрая и самоотверженная Марютка одерживает победу в том нравственном столкновении, которое не могло не возникнуть между случайными возлюбленными и исконными врагами. Победу не в том примитивном смысле, что Марютка убеждает рафинированного аристократа в своей народной правде, а в том смысле, что читатель бесспорно принимает сторону Марютки в драме, разыгравшейся на пустынном острове.
Позиция, занимаемая Лавреневым в споре между пародом и старой интеллигенцией, выверена была им годами пребывания на фронтах мировой и гражданской войн, и в правоте народа Лавренев не сомневался. Он и в «Сорок первом» безоговорочно осуждает социальную ограниченность офицера, его желание переждать битву в тишине.
Но это не значит, что Лавренев позволял себе хоть на миг усомниться в высоком назначении и нравственной ценности культуры. Он с гордостью называл себя интеллигентом даже в годы, когда слово это было далеко не у всех в почете. И уже в первых романтических повестях и рассказах видна убежденность писателя в необходимости для народа высокой культуры. Этой идеей будет вызвана к жизни через несколько лет известная повесть Лавренева «Гравюра на дереве». Любовная, но не снисходительная, понимающая, но и чуть ироническая улыбка, которая сопровождает изображение Гулявина в «Ветре», Марютки в «Сорок первом» и многих других персонажей тех лет, свидетельствует, что, принимая своих героев такими, как они есть, Лавренев не хочет превращать их исторически и социально неизбежные невежество и грубость в неотъемлемое право и своего рода новую привилегию «человека из народа». Марютка дорога писателю не только своей отвагой, революционной убежденностью, чистотой щедрого сердца, по и своей страстной мечтой приобщиться к красоте, культуре, стать лучше и умнее.
«Сорок первый» – истинный шедевр Лавренева, и, как часто бывает с художественно законченными произведениями, этот рассказ разными своими гранями прикасается ко многим серьезным проблемам, которые и в дальнейшем будут занимать писателя.
Еще долгие годы продолжала волновать Лавренева героика гражданской войны. В пестром многообразии его книг явственно звучит патетическая мелодия романтики отгремевших битв, он был сам участником героических событий, и ему есть что вспомнить. В течение двадцатых годов он пишет и о столкновении с басмачами у подножия снегового Памира («Звездный цвет»), и о налетах анархических банд на украинские городки («Происшествие»), и о жестокости классовых битв, разлучающих влюбленных, разламывающих самые крепкие человеческие связи («Полынь-трава»).
События минувших лет давали Лавреневу богатейший сюжетный материал. У него природный дар рассказчика. Писатель сознательно развивал эту сторону своего таланта. Иногда он делал это с большим успехом, иногда с меньшим, по настойчиво, на протяжении всей жизни он отстаивал сюжетность как недооцененный, с его точки зрения, соотечественниками и современниками компонент литературного произведения. В 20-е годы, в период моды на импрессионистскую разорванность повествования, в период увлечения лирической размытостью прозы, лавреневские повести и рассказы завоевывали широкого читателя стройностью повествования.
Отстаивая свое право на острый сюжет, Лавренев писал: «Люблю здоровую и крепкую слаженность. Не люблю нашей „словесности“. Народнические традицийки, психологическая размазня… приготовленная лисой для угощения журавля. Жидко, тягуче, пресно, не ухватишь с тарелки. Мистическое копание в собственном пупе… Литература должна взвинчивать и захватывать. Читаться запоем». И еще более задорно и самоуверенно добавлял: «Литература должна владеть прежде всего сюжетом: – сюжетом я владею. Овладеть остальным – задача на будущие годы».
Сюжетом Лавренев действительно владел. Прекрасно владел он и броским характерным диалогом, и живописной экспрессивной деталью, любил иронию и патетику в лирических отступлениях.
При создании образа Орлова, героя «Рассказа о простой вещи», писатель ставил перед собой задачу, которая находилась в полном согласии с общими целями, вырисовывавшимися перед всей молодой советской литературой. Лавренев хотел изобразить героя революции не в гулявинском стихийном и бунтарском варианте, а как идеальный пример сознательного деятеля, подчинившего жизнь свою революционному долгу.
Нужно было нарисовать истинного рыцаря революции, без оглядки идущего своей особенной дорогой, не подвластного обычным для простых смертных житейским соблазнам, но все-таки ищущего, сомневающегося, страдающего. Как согласовать эти черты обычной человеческой противоречивости с той идеальной твердостью духа, которая по праву должна принадлежать герою?
Интеллигенцию 20-х годов волновала серьезнейшая проблема, заключающая в себе трагическое противоречие эпохи, противоречие между гуманностью по отношению к отдельной личности и революционной суровостью, продиктованной интересами миллионов. Орлов сочетает и примиряет в себе рыцарскую гуманность с суровой несгибаемостью революционера, но удается автору это осуществить лишь при помощи приключенческого сюжета, искусственно облегчающего герою путь к идеалу. В выстреле Марютки и последовавшем за выстрелом ее крике: «Родненький мой! Что же я наделала?» – больше и жизненной правды, и философской глубины, чем во всех рассуждениях и приключениях Орлова, хотя увлекательность сюжета, динамика действия послужили причиной большой читательской популярности этого произведения.
На всю советскую литературу середины 20-х годов особый отпечаток наложил нэп. Обывательщина, запрятавшаяся в темные щели во времена героических лет гражданской войны, почувствовала благоприятную для себя обстановку. И у многих писателей отвращение к гнилостной атмосфере «частного предпринимательства» пересилило желание понять современность как момент закономерного исторического процесса.
По-своему отразились настроения нэпа в творчестве Лавренева. Анекдотическая парадоксальность, которая отличает почти все произведения Лавренева этого периода, откровенно подчеркивается им как сознательный, свободно выбранный литературный прием.
Персонажами рассказов Лавренева 1925–1920 годов стали увядающие дамы, живущие воспоминаниями о былом великолепии и подачками от заграничных родственников («Моль», «Погубитель», «Мир в стеклышке»), распутные монахи, спрятавшиеся от вольных ветров эпохи за стенами отживающих свой век монастырей («Отрок Григорий»), провинциальные обыватели, с трусливой злобой взирающие на новых хозяев жизни («Таракан»). Недаром сборник рассказов, выпущенный Лавреневым в 1926 году, называется «Шалые повести». Название это подчеркивает ироничное и принципиально несерьезное отношение автора к нынешней действительности, так резко контрастирующей с недавним прошлым. Даже рассказы, построенные на материале военных лет, утратили на какое-то время героический пафос и романтическую настроенность более ранних произведений Лавренева. Рыцарски безупречный Орлов и великолепно бесшабашный Гулявин отступили в памяти на задний план, а на переднем плане воспоминаний оказался смешной, нескладный Пузыркин, так нелепо и несчастливо влюбившийся в графиню («Граф Пузыркин»), И очень показательно, что в то время как в «Сорок первом» героическая действительность представлялась писателю в своих праздничных, ослепительно желтых и сверкающе-синих красках, какой она была для детски наивной и жадной до жизни Марютки, – сегодня она рисуется через призму восприятия уродливо-нелепого, бесцветного и бесследно исчезающего с земли царского полковника («Конец полковника Девишина»).
Правда, сияющие краски и пряные запахи степного юга, призывный зов моря появляются в это время в одном произведении Лавренева, в повести «Таласса». Но в каком резком противопоставлении смехотворной пошлости и бессмысленности обывательского существования рисуется здесь вольная природа!
Однако сказать о Лавреневе этого периода, как это было когда-то принято в нашем литературоведении, что писатель «испугался нэпа», было бы неверно. Веселая и отважная муза Лавренева не покидала его, нэповскому мещанству он отвечал не мрачным испугом, а презрительной усмешкой. Стиль рассказов писателя того времени приобрел устойчивые черты сатирического бытописания.
Но и другие способы отрицания буржуазной морали не были чужды Лавреневу. В 1925 году он написал один из лучших своих рассказов, стоящий в ряду известнейших, хрестоматийных произведений, на которых воспитываются гуманные чувства не одного поколения советских читателей. Рассказ называется «Срочный фрахт». Речь идет о дореволюционном прошлом: в Одесском порту гибнет маленький чистильщик котлов по прозвищу Крыса. Его могли спасти, но это принесло бы убытки американской компании, владелице судна, и поэтому несколько взрослых людей, служа закону наживы, сознательно убивают мальчика. И убийство происходит не потому, что люди эти фантастически злы и жестоки: в «царстве жадности» неизбежно уничтожение всякого, кто, хотя бы случайно, окажется на пути больших денег к еще большей добыче.
Эта вещь стоит особняком среди романтических и гротескно-анекдотических произведений Лавренева 20-х годов. Целиком находясь в русле реалистических и гуманистических традиций русской литературы, она созвучна таким произведениям, как «Гуттаперчевый мальчик» Григоровича, «Белый пудель» Куприна, «Ванька Жуков» и «Спать хочется» Чехова, «Максимка» Станюковича.
Три года Лавренев не приступал к прозе большой формы, потерпев в 1922 году неудачу с созданием романа «Звезда-полынь», когда, по свидетельству, самого автора, 1600 страниц «литературного небоскреба» полетели в корзину. В 1925 году он выпустил в свет роман «Крушение республики Итль».
Новый роман не имел ничего общего с героической эпопеей, о характере которой можно судить по ее «осколкам» – «Ветру» и «Сорок первому». Роман написан в форме сатирического гротеска, высмеивающего буржуазную демократию, фальшь и хищничество империалистической политики. В создании сатирического и одновременно фантастического романа Лавренев в 20-е годы был не одинок. В конце концов, и «Хулио Хуренито» и «Трест Д. Е.» И. Эренбурга, и «Аэлиту» и «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого с некоторыми оговорками и частными определениями можно отнести к числу таких романов. А сколько их было – менее талантливых и забытых? Обостренно-политическое восприятие мира и времени людьми, прошедшими сквозь войны и революции, склонность к сатирическим обобщениям, рожденная исторической обнаженностью механики буржуазного общества в наступившую эпоху, иронический скепсис, явившийся результатом крушения некоторых романтических иллюзий в обстановке нэпа, – такова многослойная почва, породившая в 20-е годы поток условно-сатирических, приключенческих романов с антибуржуазной окраской.
Занимательно и иронично повествует Лавренев о том, как одна великая держава послала военную эскадру на помощь маленькой буржуазной республике – уродливому недолговечному осколку великой революции на севере материка, – как жадно адмирал эскадры пытался перекупить нефтяные промыслы страны, как торговались ее опереточные правители, в свою очередь стараясь захватить миллионы, о том, как легко устраиваются государственные перевороты при помощи тугого кошелька и наведенных пушек и, наконец, о том, как обречена в век революций буржуазная экспансия. Роман этот в своеобразной форме отражал отношение Лавренева к реальным явлениям международной политики.
В романе «Крушение республики Итль» присутствуют черты, явно пародирующие развлекательно-революционное чтиво, в то время очень модное. А некоторые страницы воспринимаются читателем как ироническая стилизация под авантюрно-приключенческую литературу. В целом же «Крушение республики Итль» подтверждает многогранность таланта Лавренева, в палитре жанровых форм которого находятся столь разнообразные краски – от героико-романтической до буффонадной, сатирической.
Недаром в письме Б. Лавреневу в 1926 году М. Горький писал из Сорренто; «Познакомился с Вашей книгой „Крушение респ[ублики] Итль“, книга показала мне Вас человеком одаренным, остроумным и своеобразным, – последнее качество для меня особенно ценно».
1927 год был переломным в творчестве Б. Лавренева. Получили развитие те изменения, симптоматические признаки которых критика заметила в повести 1926 года «Мир в стеклышке». Еще по-прежнему окрашенное в тона разочарования, произведение это, в отличие от забавных анекдотов «Шалых повестей», написано более серьезно, более строго.
Не раз высказываемое Лавреневым пренебрежение к «идейкам» русской «словесности» оказалось только задорным вызовом. Слишком органично все эти «традиции» и «идейки» вросли в национальный и социальный организм его родины, чтобы мог русский писатель вовсе и легко обойти Толстого и Достоевского. Подчиняясь ли их влиянию, или отталкиваясь от него, споря с ними или восславляя их – в любой форме талантливый писатель рано или поздно отдаст им свою дань. И проза Лавренева 1927–1928 годов – лишнее тому подтверждение. Отечественные традиции духовного правдоискательства, реалистической глубины и психологизма особенно ясно сказались в повести «Седьмой спутник».
В ней рассказывается о том, как по-своему принял революцию бывший царский генерал, к тому же старый человек, профессор Адамов. Он не испытывает обычной для представителей его среды ненависти к новому миру, но и не совершает активного перехода на сторону его строителей и защитников. Ему свойственно кроткое смирение перед возмездием революции, которое он рассматривает как искупление исторической вины перед народом. Это настроение покаяния, выросшее на почве глубокого душевного кризиса, сопровождает образ бывшего генерала на всем протяжении повести.
Внешние же события повести, как это свойственно Лавреневу, необычны и парадоксальны. По и ситуации, созданные, казалось бы, только затем, чтобы ошеломить и увлечь читателя своей курьезностью, оборачиваются проявлением главной мысли произведения: о совестливости и «комплексе вины» старой русской интеллигенции, о том, что самые страдания принимались ею как следствие вековой несправедливости, поставившей ее в привилегированное положение, и что интеллигенция, если она была достойна так называться, должна была понять эту историческую закономерность и пытаться разрушить недоверие, стоящее между ней и народом. Потому-то так кротко примиряется со страданиями старый генерал, потеряв все свое имущество, попав заложником в «домзак», вызвав ненависть и презрение людей той среды, которая некогда была его средой. Адамов погиб, как и многие герои Лавренева, мужественно и честно доказывая свое право остаться с народом. Героическая муза Лавренева не избегала трагических финалов в своих произведениях, в то же время всем строем своей поэтики отстаивая и утверждая оптимизм общего хода истории.
В 1927 году пришла к Лавреневу и слава драматурга. Весной театр имени Вахтангова предложил Лавреневу написать пьесу к 10-летней годовщине Октябрьской революции. Лавренев к этому времени был уже автором нескольких пьес, в том числе романтической мелодрамы «Мятеж» (1925) о гражданской войне в Туркестане и исторической драмы «Кинжал» (1925) о декабристах. Так что обращение к нему театра было хотя и неожиданно, но не случайно. «У меня мелькнула мысль, – вспоминал впоследствии Лавренев, – что… история и роль „Авроры“ в Октябрьском перевороте является одной из самых интересных тем. Я послал письмо в Москву с предложением такой темы: „Флот перед Октябрем…“»
Таково было возникновение замысла «Разлома». Приступая к работе над пьесой, Лавренев встал перед выбором: «написать ли историческую хронику или же попытаться написать пьесу обобщенного порядка, в которой не было бы слишком большой связанности определенными фактами и событиями». Вся сложившаяся к этому времени поэтика Лавренева склоняла его к выбору формы, в которой драматург был бы свободным творцом сюжета и характеров. Легендарная «Аврора» была прозрачно переименована в «Зарю», к известным фактам о переходе революционного корабля в ночь на 25 октября 1917 года к Николаевскому мосту была присоединена история офицерского заговора, имевшего место во флоте уже в 1919 году.
Две темы, глубоко и искренне волновавшие Лавренева, органично переплетаются в пьесе: участие флота в революции и снова взаимоотношения интеллигенции и революции.
В «Разломе» есть нечто общее с пьесами Горького. В уютных мещанских домиках, в комфортабельных буржуазных гостиных, на террасах богатых дач собираются разные люди, пьют чай и говорят о всевозможных предметах, только говорят, но уже в этих разговорах ясно обозначается тот неизбежный разлом, который надвигается на эти дома, дачи, гостиные, на этих людей, семьи, на всю страну. И как буревестник грядущих событий, предвидя их, ускоряя их, приветствуя, входит сюда дерзкий и твердый молодой человек – необычная, пугающая фигура в этом уютном мирке – Синцов во «Врагах», Нил в «Мещанах»…








