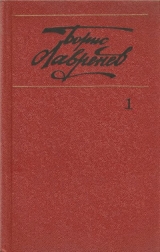
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 42 страниц)
МОЛЬ
1. О РЫЖЕМ ПИСЬМОНОСЦЕ И ГОЛОСЕ С ТОШНОТОЙ
Письмоносец спускается с моста декабриста Пестеля. Под рыжими тараканьими усами у него застывший навеки зевок и в лице сонная одурь.
Через итальянскую арку ворот он проходит во второй двор, поднимается на третий этаж. На двери квартиры 28 пялится бельмом карточка.
Звонок рассыпается мелким дребезгом за черной преградой из дерева и клеенки, и за стрекотом каблуков просачивается голос:
– Кто там?
Письмоносец приходит к двери через каждые десять – двенадцать дней. И каждый раз он ежится от этого голоса. Ему почему-то кажется, что обладатель голоса одержим постоянной тошнотой и от этого в голосе тошная истома, и самого письмоносца начинает подташнивать.
Он втягивает щеки и бросает рывком:
– Письмо… Машевской.
Сквозь щель, из-под лязга цепочки, просовывается препарированная кисть скелета, с сухим шелестом выхватывает письмо и скрывается.
Опять лязг цепочки. Письмоносец утирает лицо платком, как будто его прошиб пот, и торопливо спускается вниз.
2. ЖЕНЩИНА В ЯПОНСКОМ ХАЛАТЕ И ВОСПОМИНАНИЕ О ПАРОХОДНОЙ СХОДНЕ
Рука, перехватившая письмо, приделана к телу. Тело облечено в японский, когда-то роскошный, весь в тяжелом золотом шитье халат. Он вытерся и спереди закапан кофе.
Рука, тело и халат принадлежат Александре Николаевне Машевской.
Ей же принадлежит тошный голос.
В столовой Александра Николаевна брезгливо смотрит на следы рук на конверте, осторожно разрывает и, достав письмо, вытирает пальцы кружевным платочком.
Письмо от Диночки, из Парижа, Диночка аккуратна – пишет три раза в месяц.
– Париж! Париж! Счастливица Диночка!
Александра Николаевна вертит ручку кинопамяти.
Порт… Ледяное зеленеющее утро… Горы в снежной синеве. Нарастающий грохот.
С рейда в ответ раскалывающие землю удары страшных пушек дредноута. На молу у сходен давка… Сходни трещат. Приклады лощеных «томми» прилипают к русским спинам. Женщина в изорванном пальто, в смятой шляпке. Она визжит, кусается, она уже на середине сходни. Внезапно сзади рука вцепляется в воротник. Женщина оглядывается, кричит:
– Как вы смеете? Я дочь генерала Еремеенко… Мерзавец…
Сухопарый, желчный ротмистр с Георгием упирается бешеными глазами:
– А! Дочка обер-вора? Бежишь, шлюхина морда? Раскрали с папашей Россию? Катись в воду… сука!
Конец фильмы.
Александру Николаевну выловил из-под руля транспорта лодочник, перс.
Диночка уехала. Она еще с вечера забралась на транспорт по протекции жениха – контрразведчика. Жениха перед Константинополем фронтовые офицеры за борт спустили, но Диночка в Париже. Счастливица.
Александра Николаевна с ненавистью смотрит на мутное питерское небо, на сизый штопор дыма над крышей. Ненависть давит ее.
3. О ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ И ФАРФОРОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОКОЙНОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ
Ненависть черной печатью на пепле души Александры Николаевны Машевской, урожденной Еремеенко.
Род Еремеенко не древен, но славен милостью царской, верностью престолу.
Осенним утром унесла с Украины фельдъегерская тройка, по вызову царя, вольноопределяющегося англичанина Шервуда и фельдфебеля хохла Еремеенко.
В кабинете императора, поедая его светлыми британскими глазами, обстоятельно и точно рассказал Шервуд о заговоре, назвал фамилии, места сборищ.
Склонив лысую голову, слушал Благословенный, и вдруг сумасшедшей судорогой, как у удавленного отца, скосоротилось лицо, побелели глаза.
Сжав тонкую шею англичанина пальцами, захрипел:
– Иуда! Христопродавец! Сколько серебреников хочешь, негодяй?
Налилось синью лицо Шервуда, и быть бы беде, да выручил хитрый хохол Еремеенко. Бухнулся в ноги Александру:
– Ваше величество! Царь пресветлый! Як же ж? Чи можно ровнять? Юда царя небесного загубив за гроши, а мы ж царя земного задарма, вид широкого серця, спасаемо. Никаких грошей нам не треба, ангел ты ж наш.
Отпустив горло Шервуда, усмехнулся император, сказал:
– Пошли вон, прохвосты!
Но приказал произвести в офицерские чины и Шервуда и Еремеенко.
От хитрого Иуды, что спас царя земного, начался генеральский род Еремеенко. И последний генерал в хитрого прадеда вышел, выслужил генеральский чин по интендантству. В германскую войну награбил крутой хохлатской сметкой, а еще пуще у Деникина. Свое же обмундирование, что англичане слали, из-под руки красным вагонами продавал. Но деньги впрок не пошли. В налете на Екатеринодар выпростали буденновцы последнему Иуде живот и набили вместо кишок английскими обмотками.
Остались от рода две дочери: Саночка и Диночка.
У Саночки в документах жалованная грамота прадедовская припрятана да кольцо с солитером. А Диночка в Париже.
А еще гордость последняя у Александры Николаевны – ватер в питерской квартире, в старинном доме.
Ватер как ватер, чашка только особая, прозрачного фарфора, в золотых лилиях. Точь-в-точь как в личной уборной великомученицы государыни. Всех приходящих подруг ведет Александра Николаевна в ватер.
– Вот, вот, дорогая! Совершенно такая же! Нет, вы в середину взгляните!
В злых белесых глазах урожденной Еремеенко слезы.
Покажет чашку и за ручку непременно дернет. Весело прошумит вода, вздохнет горько подруга о дорогом невозвратном, и легче станет на сердце у Александры Николаевны.
Все отняли большевики, а чашки вот этой, последнего утешения, не возьмут.
4. О МАРКИЗЕ ПАРИЗО ДЕ ЛЯ ВАЛЕТТ И ЧИКАГСКОМ СВИНОБОЕ
Диночка пишет:
«Жизнь бьет ключом. Сумасшедший водоворот. Я совершенно завертелась в балах, раутах, концертах. Знаешь, – мы, русские девушки хороших фамилий, имеем колоссальный успех у французиков. За мной, не отходя, увиваются двое. Морской атташе из Лондона, – он сейчас в отпуску, – виконт д’Аржантей, пикантный брюнетик, но он очень легкомыслен и, говорят, кругом в долгах. Мне больше нравится другой – маркиз Паризо де ля Валетт. Летчик, блондин. Совсем голову потерял, ходит по пятам и умоляет назначить день свадьбы. Но я его еще поманежу. Ах, на днях мы танцевали фокстрот в бассейне у барона Нельи. В одних купальных костюмах. Это было восхитительно непристойно. Я всю ночь не могла уснуть от возбуждения. Кстати, как тебе нравится то манто, которое я прислала?.. Такое точно у мадам Бриан, а она первая здесь модница…»
Дальше на трех страницах подробные описания Диночкиных туалетов, с вырезками из модных журналов, из великосветской хроники «Matin».
Когда Александра Николаевна дочитывает, худое, изжелта-серое длинное лицо ее покрывается красными пятнами, глаза блестят.
Нос вытягивается лезвием над бледной черточкой змеиных губ.
– Боже, какая счастливица Диночка!
Правды Александре Николаевне никогда не узнать. Из гордости, из самолюбия никогда не напишет Диночка правды.
А правда – вот она.
Вонючий угол Парижа, седьмой этаж, мансардная конура без окон, соломенный мешок на полу. Вырезки из журналов и газет дает Диночке вислогрудая консьержка, которой Диночка ежедневно раздувает сырой торф в камине – у консьержки слабые легкие.
Деньги на жизнь зарабатываются в ночном притоне для иностранной сволочи, где – под именем русской графини Пугачевой – танцует Диночка танец лесбийской гетеры. О нем лучше не говорить, об этом танце.
Манто, посланное Александре Николаевне, добыто ценой ночи с квадратно-подбородочным чикагским свинобоем, который деловито мял до утра Диночкино хрупкое тело, точно желая убедиться, все ли у русской графини устроено так же, как у любой крепкоспинной девки со свиной фермы.
Помяв, утром бросил на столик в номере, не считая, пачку банкнотов и, не простившись даже, ушел.
Тяжело достаются Диночке подарки сестре, но еще много будет американцев, бразильцев, филиппинцев, даже негров, потому что никогда Диночка Еремеенко не напишет сестре правды о себе.
А Александра Николаевна, отложив письмо, думает:
«В этот раз нужно попросить Диночку прислать дюжины две шелковых чулок, концертную накидку и браслетик платиновый с радиоприемником на лодыжку, тот самый, что я видела в журнале. Это будет великолепно. Такого ни у кого еще нет. Я буду первая».
5. ПОПУТНО О ГОСПОДИНЕ МАШЕВСКОМ
К обеду приходит из треста господин Машевский. Он на аршин ниже жены. Личико маленькое, одутловатое, щеки обвисли, глаза вытаращенные, жабьи, и кажется, весь он обмазан еще свежей болотной слизью.
Служит он в машиностроительном тресте, в калькуляционном отделе, но дома друзьям говорит:
– Сами знаете, что поделаешь? Квартирная площадь, электричество, дрова… Приходится терпеть до лучшей поры… Но вы знаете – главное, я артист… композитор.
Господин Машевский импровизирует в кинематографах на рояле под боевики. У публики успех огромный.
На этом основании зарегистрирован он даже в КУБУ, как научный музыкальный работник, и каждое лето с достоинством ездит отдыхать в санаторию ученых в Детском Селе.
А главное удовольствие у господина Машевского – по углам рассказывать похабные анекдоты о власти.
Многие это любят. У иных едко выходит, здорово. Как огнем припечатает.
А от анекдотов Машевского даже у тех, кто любит пройтись по адресу власти, ощущение такое, будто в уши соплей налили.
Но Машевский расскажет и сам первый: «Хи-хи-хи, ха-ха-ха…»
За обедом Александра Николаевна спрашивает:
– Ипполит… Ты достал деньги?
– Да… то есть нет, Саночка… Тянут… Трудно и опасно торопить.
– Как? До сих пор? Я не понимаю… Что же мне, на премьеру в Александринский в старых тряпках идти?
– Господи… Да ведь месяца нет, как ты платье сделала.
– Что? Ваша комиссарша Телепнева за это время три сделала. Что же, я должна хуже мужички одеваться? Дочь генерала Еремеенко?
– Но, Саночка…
– Слышать не желаю… Завтра чтоб были деньги!
Александра Николаевна отбрасывает стул и уходит в свой будуар.
6. О ЗЕРКАЛЕ, ПАРИЖСКОМ ТЕМПЕРАМЕНТЕ И БЕССОННИЦЕ
Лампочка в сто свечей вспыхивает ослепительным блеском.
Александра Николаевна начинает ежедневную тяжкую работу свою, примерку и пригонку туалетов.
– Боже, какое время, какое время!
Только стены будуара знают неизмеримую тяжесть жизненную, что лежит на плечах Александры Николаевны.
Как трудно в большевистской стране не опуститься, быть всегда одетой, как подобает дочери интендантского генерала, взысканного государевой милостью. Приходится перекраивать, перешивать, подшивать.
Вокруг Александры Николаевны груды материй, хруст холста, шелест шелка, шуршание бархата. Худые пальцы препарированной руки упоенно тонут в материях.
Перед большим зеркалом, в парижской батистовой расшитой комбинации, Александра Николаевна примеряет одно, другое, третье.
Наконец все перемерено. Александра Николаевна спускает с плеч рубашку. Бело-лиловые блики лампы ложатся на острые плечи, на торчащие шишки бедренных костей, на темное дряблое тело. Груди трепыхаются выпотрошенными резиновыми кисетами над впалым животом.
Александра Николаевна улыбается углами губ.
У нее фигура настоящей парижанки. О, в Париже она могла бы…
В постели она долго читает Катюль-Мендеса в желтой обложке. От чтения по лицу опять красные пятна, в глазах мутный блеск.
Счастливица Диночка!
Понемногу успокаивается.
Думает о себе, о судьбе своей непереносной. Не может понять.
Ненавидит, остро ненавидит все вокруг. Не понимает этой власти.
Ну, захватили там себе места в правительстве – пусть сидят. Но зачем возиться с мужичьем, зачем угнетать интеллигенцию? Ведь те, что сейчас у власти, сами интеллигенты, такие же, как и она, Александра Николаевна.
Конечно, разница рода, дворянство, но ведь и раньше в обществе были и недворяне. Но все они образованные, ездят за границу, говорят по-французски. Почему же она, Александра Николаевна, должна всего опасаться, а хулиган слесаришка Батаев ведет себя в доме как хозяин? Конечно, во время бунта приходилось заигрывать с хамьем. Но теперь все успокоилось, можно перестать. Нет, положительно у этих людей нет вкуса. Одним образованием до культуры не дойдешь. Нужна шлифовка поколений. Конечно, отшлифуются – поймут. Но когда… Ведь она, Александра Николаевна, постареть может. Постареть?.. Боже, как ужасно так погубить молодость!
Александра Николаевна лежит на спине с широко открытыми глазами. Думает о своих туалетах, о Диночке, о Париже. Засыпает уже под утро с мыслью: «Завтра, когда Ипполит принесет деньги, надо купить этого файдешина с сиреневым отблеском. Великолепный тон».
7. О ВАСЬКЕ БУСЛАЕВЕ И УЧЕБНИКЕ ЭНТОМОЛОГИИ ЛИДЕМЕЙЕРА
Васька Буслаев сидит, поджав ноги, качаясь на табуретке.
В прошлом году припер пешком с командировкой от Порховского комсомола учиться на доктора.
В мутное окно серым киселем вползает рассвет Васька зубрит энтомологию.
В учебнике Лидемейера узким корпусом мельтешит перед глазами:
«Моль: простонародное название семейства бабочек Tineidae, из группы Microlepidoptera. Взрослые экземпляры не превышают в размахе крыльев 5 миллиметров. Различается довольно большое количество видов. Наиболее известны в повседневном быту платяная и шубная моль. По разрушительной деятельности является одним из вреднейших паразитов. Достаточно нескольких личинок, чтобы погубить носильное платье в квартире. Пользуется заслуженной ненавистью со стороны людей и жестоко истребляется. Чрезвычайная плодовитость затрудняет борьбу. Способы размножения…»
Васька поднимает голову. Смотрит в раздумье на мерцающий в тумане Петропавловский шпиль и говорит сам себе:
– И что за штука? Чем гад мельчее – тем вреднее! Поди ж ты!..
1924
«3б. 213 437»
1
Когда, в гомоне, визге, дребезге и треске, 9-й кавполк влетел на станцию, – вокзальные здания уже пылали.
В багровых протуберанцах огня, лизавшего мощные бревна лиственниц, мелькали черные тени метавшихся людей, огромными рубинами блестели стекла вытянувшихся на путях вагонов, и в дымном, клубящемся озарении бледно пыхали синие молнии выстрелов.
Командиру полка все это показалось до чрезвычайности, до нелепости похожим на лубочную картинку ада, виденную в детстве на кухне, над кроватью богобоязненной кухарки.
Так же оранжевыми спиралями вилось дымное пламя, шебаршились мохнатые тени чертей, рубинами пылали отверстия топок под котлами, в которых варились грешники.
Только не хватало на станции жирного, раздутого сатаны, хвост которого, усеянный шипами, обвивал весь ад и концом душил грешника.
Лошадь командира прянула на передние ноги и шарахнулась вбок, протяжно и тонко заржав. Командир нагнулся, почти под копытами увидел мертвого человека, вцепившегося в землю раскоряченными пальцами.
Вокруг шеи тугой петлей, как сатанинский хвост, завилась скрученная взрывом телеграфная проволока.
Командир вздрогнул, нахлобучил глубже папаху, сказал комиссару:
– Хорошенькое дельце!.. А?
Комиссар задумчиво поглядел на пламя исподлобья, белесыми латышскими глазами, подумав, ответил с резким балтийским акцентом:
– Вы, товарищ Скобельцын, есть непоправимо заражен офицерской идеологией. Это дело имеет очень мало хорошего. Это есть разруха народного достояния.
Командир хохотнул и хлопнул комиссара по ляжке:
– А ты, Яков Артурыч, сплошная пепельница! Комиссар недоуменно поднял брови, опять подумал и равнодушно спросил:
– Что есть пепельница?
Не получив ответа, поморгал ресницами и, подтягивая поводья, кинул начальнику ординарческой команды:
– Надо искать станционного начальника, пусть он указывает, какие вагоны есть с ценным имуществом. Красноармейцы вытаскивают вагоны из фейер.
2
Начальника станции нашли красноармейцы в свином хлевушке за его домом и вытащили оттуда.
Весь он был перепачкан жидким вонючим навозом, испуганно жался подальше от винтовок, но маленькие глазки на жирном лице бегали безостановочно по лицам окружавших его кавалеристов с хитрой наглостью.
Комиссар спросил:
– Вы есть начальник станции? Огонь может сжигать вагоны. Приказываю говорить вагоны, где есть воинский груз.
– Слушаюсь, – ответил хрипло начальник станции, – прошу в первую очередь откатить эшелон с четвертого пути. Очень опасен… гружен пироксилином и снарядами тяжелой артиллерии. Взорвет – все полетит к черту!
Комиссар отдал приказание.
Скобельцын нагнулся к нему с седла.
– Ты обрати внимание, Яков Артурыч, на его харю. Поганая харя! Как бы не подложил свинью? А?
– Нишево! Если будет измена – имеет быть расстрелян!
Начальник станции швырнул глазками в комиссара, ничего не сказал и только дрогнул усами, не то в улыбке, не то в гримасе.
К утру пожарище угасло. Синим куревом дымились угли, хрустели под ногами, в серую вату неба ввинчивался штопором желтоватый столб душного дыма.
Комиссар и Скобельцын ходили по путям с начальником станции.
Он бежал впереди, семеня ногами; казенная черкая шинель расходилась над тугим вихляющим задом. Держа в руках сверток накладных и путевок, указывал вагоны с военным грузом, и комиссар твердым взмахом метил меловыми крестами эти вагоны, а также вагоны с продгрузом в центр.
У депо щелкали рваные выстрелы – расстреливали пленных каппелевцев.
Начальник станции время от времени бросал в сторону депо короткие острые взгляды, очевидно боясь ночной угрозы комиссара.
На тупиковом пути, у поворотного круга, забагровела свежевыкрашенная теплушка, на боку которой белилами, с претензией па замысловатую вязь, было выведено трехвершковыми буквами:
СОВНАРКОМУ РСФСР ОТ РАБОЧИХ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ГОРОДА ЧИТЫ – БРАТСКИЙ ДАР
– Что это есть за вагон? – спросил, оживившись, комиссар, опустив руку, испачканную мелом.
Начальник станции нервно дернулся под пристальным взглядом белесых латышских глаз и быстро бросил:
– Это, значит, изволите видеть, как в Советской стране недостаток машин, и наши рабочие, изволите видеть, осведомлены о бедствиях, скажем, добывающей промышленности, то от чистого сердца послали в подарок машину. Какая – я вам не могу сказать, по причине малого понимания в печатном производстве, но только, изволите видеть, два человека, которые ее сопровождали, говорили, что таких машин всего две имелось в России даже в хорошее время. Чрезвычайно, изволите видеть, дорогая вещь… Как эти подлецы, каппелевцы, налетели, – у меня, можно сказать, сердце все три дня кровью исходило. Боялся очень за машину. Помилуйте, при такой нужде, и вдруг еще уничтожат из буржуазной подлости…
– Как же они ее не тронули? – перебил Скобельцын.
– А изволите видеть, ихний командир сразу на эту теплушку внимание обратил, вроде вот вас. Сказал, что надо с собой увезти, как линию от вас очистят, а тут ваши налетели как снег на голову. В суматохе, изволите видеть, забыли напакостить.
– Хорошо! Товарищ Скобельцын, поставь сейчас часовой к этой теплушке. Завтра мы отправляем ее первым эшелоном на Москву. Это очень ценный подарок. Товарищ Ленин будет рад!
Начальник станции, похлопав ладонью по яркому боку теплушки, довольно улыбнулся.
– Они сделали большую глупость, изволите видеть, белые. Они даже не открыли ее.
Комиссар осторожно пощупал свисавшую на проволочках пломбу и, поджав губы, размашисто написал мелом на свободном месте:
«биль бран плен каппелевска бандит,
отбита доблести атака девяти кавалерски полк».
Скобельцын захохотал. Начальник станции захихикал подобострастным свиным визгом.
Комиссар бросил мел об рельс, ответивший серебряным звоном, кончив с металлическим лязгом в голосе:
– Товарищ Скобельцын! Ты имеешь давать наряд на конвоирную команду. Десять человек. Начальником команды назначаю командира второго эскадрона, товарища Завихляева. Он крепкий рабочий, хороший, твердый коммунист. Команда провожает вагон до Москвы. Канцелярии написать документы и литеры. Вы, – комиссар повернулся к начальнику станции, – имеете завтра давать оборудованная теплушка с печью для команда. Случае невыполнения – расстрел.
– Слушаюсь, – дрогнул побелевшими губами начальник станции.
Комиссар вытер руки о полу полушубка и твердыми солдатскими шагами пошел к водокачке, за которой, в уцелевшем от пожара станционном домике, работал штаб полка.
3
– Почитай, мила-ай, третью неделю ташшимся, а сколько верстов уехали? Не боле семисот. Если дальше таким манером, когда ж это мы в Москве будем? А? И чего в этой машине такого? Неужто така силишша, что всю государству вывести можа? А по-моему, – лешего в ей пользы. Добро б хлебушко делать могла, а то гумагу. Что с ее, барам подтираться? Гумагой, мила-ай, сыт не будешь! Для суесловия она мысленного, думками блудить. Мужика ты ей не накормишь, а без мужика и государства… тьфу! Ты как полагать?
Стены чугунки лили удушливый красный жар и казались прозрачными. По раскалившемуся металлу скользили яркие звездочки искр.
Старик говорил, помешивая головешки в печи и осторожно разминая слова.
Теплушка скрипела и дрожала, из-под пола бил в уши назойливый гулкий, железный лязг.
Мимо дверной щели проплывали медленно мохнатые медвежьи лапы сосен, согнувшиеся под сахарной тяжестью голубого снега.
В розовой полумгле торчали с нар ноги в пимах и валенках.
У жерла чугунки, на березовом обрубке, сидел в рваной ситцевой рубахе старик. Зеленая всклоченная борода просвечивала на огонь плавленой бронзой. Сбоку на нарах, закинув ногу на ногу, примостился высокий в накинутой на плечи, подбитой медведем кожаной куртке. На широком ременном поясе висел, без кобуры, наган.
У сидевшего было острое, похожее на лезвие шашки, лицо, с резко вылезающими чугунными желваками скул, из-под которых выползал серый небритый волос.
Он пыхнул махоркой, растянул губы смешливой гармошкой.
– Бумага? Для чего, говоришь? А деньги забыл? Хаешь вот бумагу, а сколько небось керенок в портянках погноил, хрыч лесной?
Голос был упругий и колючий, слова падали звонкими, жесткими ледяшками.
Старик съежил лукавые морщинки.
– А кто ж их знал, что спразнят? Деревня прятала, ну и я, как все, миром, а только цены в ей, в гумаге, настоящей нет. На веру она, с воздуху. Видал на станциях, по чалдонам, много ты на ее купишь? Морды воротят. Вещь, говорят, давай, а этого хлама у нас полны сундуки. Девать некуда. Вот и голодуем с твоей гумагой. Почитай, скоро одежу загонять придется?
Высокий нахмурился и зло поглядел в огонь.
– С продовольствием вправду скверно. Потерпеть нужно, Евстратыч. Земля тут развороченная, порядку еще нет. За Омск перевалим, там уже лад установлен. На питательных пунктах от комендантов кормиться будем.
Старик махнул рукой – коричневой кочерыжкой.
– Лешего в ей, в комендантском довольствии! Стрескаешь, – все пузо тебе блевотой вывернет. И так парни на животы жалятся. Пухнет, и в кишке задержка идет. Не проносит, значит, на двор: в середке загнивает. Сусорова в околодок уже сдали. Гляди, остальные своротятся. Ох, машина!.. Тоже!
Высокий передернул плечами, как от озноба.
– Не понять тебя, Евстратыч, как ты в красные залез? Сидел бы на печи да хлебушко жевал. Вот непонятна тебе машина. А я тебе что скажу. Пермский я, деревенский. Деревня у нас в глуши сосновой, одни пни кругом. Не родит твой хлебушко. Погнало на заводы. Ижевский, слыхал, верно? Ну, как пришел мальчонкой, тоже невдомек было, к чему машин столько. А пообходил вокруг машин пятнадцать годов, понял, что в ней, в машине, вся суть земная. Оттого и большевиком стал, от машины. Сила в ней, могучесть, облегчает машина человека, трудящемуся при машине жизнь во сто раз легче. Барин это хорошо понимал. Потому и допускал рабочего только вокруг машины похаживать, к середине, к сути не дозволял. Знал, что как только дойдет рабочий до того, чтоб понять машину в самом нутре, так конец хозяевой власти над машиной. Так оно и вышло. И я за машину три раза башку отдам, коли понадобится, потому что Советская власть – это, дед, и есть машина!
– Оно верно, – прошамкал в бороду Евстратыч, – рабочему машина допрежь всего, ну, а нашему брату, мужику, ни для какой потребы! Что ты в тайге с машиной наворочать, товарищ Завихляев? А?
Завихляев покрутил головой.
– Ишь упрям ты, ровно пень таежный! Погоди! Лет через десяток, как пройдем мы по твоей тайге с такой машинкой. Трактором называется, разное может делать. Возьмет твою тайгу и начнет рвать соснины трехобхватные, как ты лебеду выпалываешь рукой. Вот когда сделаем тебе на месте тайги ровное поле под пар – тогда поймешь, «кака в машине силишша», шишига ты дремучая!
Старик прислушался. Железный лязг под полом становился реже л резче.
Евстратыч встал.
– Должно быть, что станция… Ровное поле говоришь, сделать, мила-ай? Сделай, сделай. Углядим – поверим в твою машину. Мы, мужики, народ упористый: пока не пощупам – не поверим. Разговор твой хороший, а ты мне раньше ситчику на порты отпусти, а машина потом…
– Эх, душа ваша мужицкая, темная! Все себе только. Ситчику! А у других, может, и рядна нет.
Теплушка дрогнула на стрелке. В щель мелькнули тусклые огни в замороженных окнах. Евстратыч похлопал по бедрам.
– Оно так! Каждый допрежь всего к своей плоти заботчик… А ты, товарищ Завихляев, сходил бы на станцию. Может, дадут покусать чего ребятам?
Завихляев отодвинул дверь и спрыгнул в ветряной свист. Старик посмотрел ему вслед, покачал головой:
– И-эх, народ пошел какой! Цены себе не знат, не жалеет себя. Сам без портов, а для обчества на щиблеты старается. Чудные дела!
4
Оранжевые блики от ламп ложились жирными пятнами на острые скулы Завихляева и прыгали на них.
Нагнувшись над столом, упершись жесткими глазами в закутанную дохой до глаз фигуру, Завихляев бросал слова, нервно цепляясь пальцами за край стола:
– Вы не имеете права отказывать в довольствии, товарищ! Не для собственного удовольствия катаемся. Вы прочли документы, видите, что команда сопровождает чрезвычайно важный для республики груз. Красноармейцы голодны. Денег нам не могли дать на всю дорогу. Полк – не казначейство. Я буду жаловаться на саботажное отношение.
Доха вскинула глаза и равнодушно сказала:
– Жалуйтесь хоть самому черту! Много вас таких сопровождающих тут шатается каждым поездом. Словчились с фронта дернуть? Сопровождение груза? Без вас не доедет? Отправляйтесь обратно в свою часть!
Завихляев дернулся от обиды.
– Это мне как же понимать? – сказал он, повышая голос. – Кто это с фронта словчился дернуть? Я на фронте два года без передыху, а ты вот видал фронт? Закутал морду в доху ворованную и думаешь, что цаца!
Доха вскочила.
– Что? Вы мне тут партизанскую демагогию не разводите, товарищ, а то отправитесь в ящик! Вы видали, как я доху крал?
– Видать не видал, а по вашему обращению так полагаю.
– Потрудитесь оставить комендантскую и больше не являться! Вы вообще подлежите задержанию и отправке в особый отдел, как незаконно покинувшие часть, а вы еще имеете наглость требовать довольствия!
– То есть, как же это незаконно, ежели у меня на всю команду документы имеются по форме: командировка, литера, аттестаты?
– Да что у вас дубовая, что ли, башка? На основании приказа Реввоенсовета, который вам должен быть известен, никакая часть без утверждения Ревсовета армии не может командировать людей в центр. А кто вас командировал? Полк? Здорово! Какой-то полк будет командировать людей в Москву! За это одно под суд, а вы еще довольствия требуете. Этак каждый взводный будет командировать красноармейцев в Америку! Убирайтесь, пока я вас не арестовал!
– Так вы отдайте под суд комиссара, ежели он неправильно сделал, а людей, которые свое дело исполняют, чтоб голодом морить, так это ж бюрократичный саботаж, и ничего больше.
Доха окончательно вспылила:
– Последний раз говорю вам, товарищ: убирайтесь, пока целы! Иванов, сходите за агентом особого отдела. Если вы не уйдете, я отправлю вас в особняк, как дезертира!
Завихляев сжал кулаки и шагнул к дохе. Но вспомнил: «А машина? Арестуют, пока разберутся, а с машиной опять что-нибудь стрясется». Махнул рукой.
– Черт с вами! Уйду! Может, как-нибудь до следующей станции доедем, там кто поумней найдется. Счастливо оставаться!
– Сволочь! – бросила вслед хлопнувшей двери доха.
5
– Нет таких положениев, чтоб не кормить командировочных, которые сопровождающие…
– Пятые сутки без хлеба…
– Даешь жратво!
– Тише, ребятки!..
– Служба, вошь ее раздави! Как кровь лить, так это в момент, а как кормить, так по месяцу волынят!
Голоса гудели злобно и настойчиво:
– Требуй сполна!..
– На муху коменданта!..
– Какой ты командир, ежли хлеба достать не можешь?
– Тише! – крикнул Завихляев, свирепея.
– А ты хто: генерал? – отозвалось из угла теплушки, но все же крики затихли.
– Дело такого рода, товарищи, что если рассудить, комендант, значит, скотина. Я от этого не отказываюсь, но по закону выходит, что его правда. Потому, совершенно верно, как полк часть маленькая, и ежели каждый полк начнет людей посылать от себя в Москву, то получится разврат и дезорганизация. Это уж Яков Артурыч, комиссар, прохлопал, значит. Оно, конечно, если б комендант не собака был, а свой рабочий человек, то не допустил бы людей по всей строгости закона с голоду подыхать. Ну так что ж с человеком сделаешь, если он скотина? Нужно, братики, до следующей большой станции еще потерпеть. Больше терпели!
Сразу взорвало деревянные стенки криками:
– К ляду терпеть!
– Добро б на хронте терпеть, а то в командировке, по закону…
– Полагается, чтоб кормить…
– Забирай, робя, винтовки! Сыпь коменданта на муху брать!
– Зажирел, гад, на сытости…
Бросились к винтовкам. Завихляев сорвал наган с ремня. Ощерился.
– Не позволю! Первому, кто с винтовкой сунется, – пулю вворочу! Не самовольничать! Белякам под руку играете?
Тряс револьвером, и по лицу было видно, что выстрелит.
Сумрачно и нехотя поставили винтовки в углы. Избегали смотреть в лицо Завихляеву. Рябоватый нескладный детина виновато улыбнулся, сказал простецким, разрядившим напряженность голосом:
– И то! Что мы – разбойники, шпана? Пойдем, ребята, по мужикам просить жратвы. Село, видать, богатое. Не дадут же людям с голоду подохнуть.
– Дело! Собирайся, рать честная, Христа славить. Оно и впрямь сочельник подпирает.
Выпрыгивали из теплушки с хохотом, угрузая ногами в снегу, подхватывая вещевые мешки.
Завихляев тоже выпрыгнул из вагона. Рядом – буфер к буферу – стояла, поблескивая темным багрянцем свежей краски, теплушка «3б. 213 437».
Завихляев подошел, прижался щекой к ледяному дереву.
Там, за топкой шелевкой, молчало во временной дреме огромное сердце машины. И Завихляеву показалось, что в снеговой тишине, на запасном пути он слышит внутри легкие, чуть уловимые содрогания этого сердца.
Затаив дыхание, слушал несколько секунд, оторвался, застенчиво улыбнулся обветренными губами и, смотря в дымный хоровод снежинок, бросил крепко и коротко:
– Довезу, родная!
6
Поезд тронулся и проходил семафор, тяжело повизгивая на обледенелом подъеме, а двоих из команды не было.
Завихляев дергался по теплушке, спрашивал:
– Куда ж могли деваться? Оповестил я всех вчера, что нынче в семь уйдем. Неужто забыли? Вот раззявы, олухи непеченые! И без документов. Попадут в работу!








