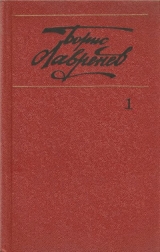
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 42 страниц)
С окончанием романтической эпохи в городах вновь появились часы и собаки.
Люди на Большой Монетной начали спокойно кейфовать на выстиранных настоящим жуковским мылом простынях до того момента, как дружелюбная стрелка на их глазах подходила к урочному времени, и не бегали больше к окнам. Многие же дошли до столь счастливого состояния, что вовсе перестали обращать внимание на часы, ибо, кроме государственной службы, возродилось прежнее многообразие профессий, и одной из наиболее популярных стало состояние в списках биржи труда, не требовавшее учета времени, как бесконечное.
Профессор Благосветлов, неблагодарно забытый соседями, продолжал, однако, ходить ежедневно в свою лабораторию, по времяпровождение его в ней значительно изменилось. Порезанное сукно на столе в кабинете было зашито, появились пробирки и колбочки. На прозекторском столике каждодневно дрыгала лапками совершенно свежая собачонка, и звонкоголосые молодые республиканцы, под руководством профессора, обогащали отечественную науку новыми исследованиями. В пол вставили новую кафельную плитку, точно так же, как и в бок плиты в профессорской кухне, изувеченный двухгодичным расколачиванием ударной воблы.
В зимнее время в настоящей круглой печи трещали охапки сухих дров.
Переменился только сторож, так как Нестор Котляревский покинул возрожденную республику, несколько опередив своего знаменитого тезку, из какового события люди мистически настроенные могли бы сделать всякие выводы. Но новый сторож, Пимен, сохранил в своем имени историческую традицию, и таким образом порядок не был нарушен.
Существование организмов профессора и Анастасии Андреевны поддерживалось теперь персональной ставкой и индивидуальным кредитованием в ПЕПО, явственно утверждая превосходство государственного капитализма над военным коммунизмом.
Все шло бы совершенно благополучно, определяясь условиями бытия, и автору пришлось бы поневоле закончить рассказ на этом месте, если бы профессор не обнаружил в один из весенних дней, что шляпа, самоотверженно служившая ему с начала войны и бывшая свидетельницей величайшего в мире идеологического катаклизма, по количеству дыр не соответствует благосостоянию и процветанию республики.
В этот день Благосветлов, выйдя из лаборатории, изменил обычный маршрут и сел на трамвай, идущий в сторону проспекта 25 Октября.
Трамвай, позвякивая о рельсы и разбрызгивая с наглостью юного шкета мутные весенние лужи из-под гулких колес, привез профессора к Апраксину рынку и высадил в толчею граждан, метавшихся под галерейными аркадами, столь сходными с отверстием русской печи.
Проталкиваясь сквозь толпу и по не вытравленной еще привычке вежливо извиняясь, если задевал кого-нибудь локтем, Александр Евлампиевич, после глубокого раздумья, окончательно остановил свой выбор на витрине, где посреди обычных человеческих шляп и шапок красовалась, в виде приманки, неимоверной величины фуражища, способная вместить восемь профессорских голов.
Профессор Благосветлов, как приличествует экспериментальному физиологу, был полным профаном в вопросах прикладной экономики, и колоссальная фуражка неудержимо повлекла к себе его сознание.
Он поглядел на нее, застенчиво улыбаясь, и подумал: «А ведь замечательное явление реклама. Ну, кажется, зачем это нужно делать такую фуражку? К чему она, для кого она? Разве для слона в цирке? Казалось бы, что такая нелепость должна отвратить благоразумного покупателя, а между тем не пройдешь мимо, не остановясь. Вот пример рефлекторного импульса».
Закончив столь округленную и ясную мысль, профессор зачем-то обдернул новое пеновское весеннее пальто и решительно вступил в магазин.
На шум открытой двери владелец, расставлявший головные уборы на полках, с живостью обернулся к покупателю.
Профессор заметил, что у него было длинное и желтое, похожее на ломоть тыквы лицо, безволосое и какое-то бабье. Это оригинальное строение лицевого аппарата окончательно подкрепило убеждение профессора, что выбор магазина сделан им удачно.
– Что вам желательно, гражданин? – спросил хозяин, облокотись на прилавок худыми пальцами и подавшись вперед. Раскрывшийся рот его перерезал лицо узкой щелью, как будто ломоть тыквы переломился пополам.
Мне?.. Мне, как это… – профессор несколько смещался и не мог найти сразу точного слова, – мне необходимо переменить вот это… шляпу.
Хозяин взял профессорскую шляпу, посмотрел ее на свет и нежно причмокнул.
– Чудная шляпа!.. Прекрасная шляпа! – он даже зажмурился. – Ай-ай, какая превосходная шляпа! Такую шляпу до войны носили самые щегольские франты. Но только теперь, извините меня, гражданин, она немного потеряла фасон.
– Я… знаете… то есть… это очень смешно, – совершенно растерялся профессор, – видите ли, я в эти годы, когда не было дров… спал в ней. У меня лысина, и я боялся простудить голову…
– Это очень резонно, – возразил с нежностью продавец, – у меня, знаете ли, в подобном положении были две выдровые шапки, так я выверну, бывало, их мехом внутрь, натяну на ноги и бечевками привяжу. И совершенно ноги не мерзли, уверяю. А то еще был у меня заказчик один, старик, из бывших камергеров, значительная персона… – Тут владелец магазина прервал нить воспоминаний и, приятно осклабившись, спросил: – Так какой головной убор прикажете, гражданин?
– Мне бы такую же точно шляпу фетровую… серенькую, – пробормотал профессор, любовно поглаживая кончиками пальцев останки своей шляпы, как будто извиняясь перед любимой женщиной за измену.
Продавец окинул профессора критическим взглядом и, протянув руку через прилавок, почтительно коснулся пуговицы профессорского пальто.
– Что я вам скажу, гражданин! Я вам, если позволите, посоветую. Теперь шляпа не модно и даже рискованно – в смысле общественного определения. Кто сейчас носит, извините, фетровую шляпу? Нэпман! А что, позвольте спросить, нэпман? Нэпман – это как бы осколок упраздненного существования, нечто чрезвычайно презренное, как бы не человек, а обезьяна, но только обремененная обязанностями. И если к вам, например, придет гражданин финансовый инспектор, то при фетровой шляпе вы можете совершенно незаслуженно подвергнуться неправильной категории.
– А что же вы мне посоветуете? – спросил обескураженный Александр Евлампиевич.
– А, простите, вы чем занимаетесь, гражданин?
– Я профессор… физиолог, – неуверенно вымолвил Благосветлов.
– Вот. Значит, можно утверждать, представитель научного знания. Если бы вы были гражданский служащий до пятнадцатого разряда, я предложил бы вам кепку… Но для мыслящего человека кепка вещь несерьезная… Вам нужно такое, чтоб сразу внушало понятие. Картуз!.. Именно картуз! Великолепнейший головной убор. Имею один совершенно замечательный и прямо на ваш размер.
Он повернулся и достал с полки картуз.
– Вот! Сукно первейший сорт, работы довоенного фабриканта Штиглица.
– Но позвольте, – отшатнулся профессор, – что за невероятный фасон?
– Фасон? Не извольте беспокоиться. Дерниер крик. Поглядите на свету.
Он поднес картуз к окну. Картуз был сделан из желто-кофейного сукна, и верх его, необычайной величины, вздувался над околышком пышным воздушным шаром, из которого наполовину выпустили газ. Помимо этого была еще странность – козырек, длинный и плоский, был обтянут сукном ярко-бирюзового цвета, а на самой верхушке картуза, на темени, прикреплен был помпон, вырезанный из тонких лоскутиков такого же бирюзового сукна.
– А козырек? Козырек? Почему козырек голубой? Зачем помпон? – возмутился профессор.
– Простите-с! Как республика нынче в тесной дружбе с разбудившимся Китаем, то фасон нанкинский и цвета небесной империи. Подлинно небесный картуз и выражает пробуждение сонливого Востока.
– Но это неприлично ярко. Это хорошо для какого-нибудь мальчишки, но не для меня, – возразил ошеломленный профессор.
– Помилуйте, гражданин! Как вы можете говорить? Разве ж вы старик? Вы еще в женихи годитесь при современных женских излишествах. А потом, извините, у вас цвет лица даже необычайный для переживаемой эпохи. Нынче все какие-то желтые или серые, а у вас обличие вовсе полнокровное. А это уж всякому даже непонимающему известно, что к розовому бирюзовое чрезвычайно прикидывается.
– Но у меня седая борода. Надо мною хохотать будут! – выдвинул Александр Евлампиевич уже ослабленное возражение.
– Не извольте беспокоиться. Мало ли над чем зловредный народ потешается. К примеру сказать, над гражданином товарищем Лениным темная буржуазия тоже потешалась насчет Советов, а что вышло? Да вы извольте на голову примерить. – Продавец ловко насадил картуз на лысину профессора.
Александр Евлампиевич взглянул в зеркало. Голубой блеск козырька действительно оттенил нежно-розовый румянец, которым профессор втайне гордился. Но все же вид был достаточно нелепый и оглушающий.
– Нет… Не нравится мне как-то. Может быть, что-нибудь другое? – вяло сказал он.
– Ах, не спорьте, гражданин! Замечательный картуз, второго такого не найдете. А главное – материя. Нынешний продукт – шесть целковых заплатите, три месяца поносите, – глядишь, и развалилось. А это штиглицовская выделка на десятки лет, и всего два с полтиной.
– Почему так дешево? – удивился профессор.
– По своей цене. Давний товар. Почем купил – по том и продаю. Будете довольны, вот вам слово!
Профессор снял картуз и повертел в руках. Цена была вправду исключительно низкой, и он уже начинал колебаться, не отличаясь никогда стойкостью характера и твердостью волевых начал. Внезапно глаза его рассмотрели над козырьком маленький, нашитый золотым жгутиком кружок, а в нем вышитую красным шелком змейку.
– А это что?
– Это-с?.. Это вроде как бы медицинского ореола. Это, собственно, я на заказ тоже для медицинского профессора делал, а он помер, не дождался. Вот и остался.
Упоминание о медицинском профессоре окончательно пошатнуло упиравшееся недоверие Александра Евлампиевича к ослепительному картузу, но он сделал последнюю робкую попытку к сопротивлению.
– А может быть, это спороть?
– Можно. Как угодно! Но только следы останутся. А зачем, спрошу, пороть? Вы ведь тоже изволите врачебной наукой заниматься? Прикажете вашу шляпу завернуть?
– Заверните, – с надорванным вздохом сказал профессор и, надев картуз, полез в карман за бумажником.
На улице он пошел к трамваю, чтобы отправиться домой, но вспомнил, что нужно еще зайти постричься, и, тихонько пошаркивая галошами, побрел к парикмахеру.
Он не заметил, что его появление на тротуаре вызвало движение, граничащее с паникой. Молодая, модно одетая республиканка столкнулась с ним вплотную. В ее подрисованных серых глазах вспыхнуло веселое изумление, затем они сжались, губы расплылись, и, фыркнув в лицо профессору, она бросилась в сторону. Профессор не увидел этого, ибо он был достаточно близорук.
В парикмахерской, очевидно настроенный покупкой картуза к омолаживанию, он приказал снять накоротко свою почтенную бороду лопатой и сделать из нее тонкий клинышек. По окончании этой операции он почувствовал себя помолодевшим на пятнадцать лет и поехал домой.
Дома его постиг первый удар. Он вошел из передней, не снимая картуза, в спальню Анастасии Андреевны, чтобы немедленно похвастать покупкой.
Но, к его удивлению, Анастасия Андреевна, занятая штопанием вязаных подштанников супруга, уронила их и в испуге вскочила с кресла.
– Что вам угодно? Кто вас впустил? – взвизгнула она и, прежде чем профессор успел разжать губы для ответа, ахнула: – Саша!.. Господи боже мой! Что с тобой?
– Это я купил… вместо старой шляпы, – несколько озадаченно ответил профессор.
– Купил?.. Это? Ты с ума сошел? В пятьдесят четыре года клоунский картуз? У тебя совсем идиотский вид! Что ты сделал со своей бородой? Это наваждение! Сними сейчас же эту дрянь, чтоб я ее не видела!
Профессор от природы был робок, но вспыльчив. В возмущении и гневе старой подруги он усмотрел покушение на свою самостоятельность и вышел из себя.
– Что? Я не мешаюсь, когда ты изволишь накручивать на себя спереди и сзади дурацкие финтифлюшки. Подумаешь – пятьдесят четыре года! Что же, мне по этому случаю гроб на голове носить? Имею я право делать, что мне хочется? Я не потерплю бабьего деспотизма!
– Он совершенно ополоумел, – всплеснула руками Анастасия Андреевна в неограниченном ужасе. – Пойми же, что у тебя в этом картузе вид кретина.
Хотя профессор и чувствовал втайне странную неловкость и готов был уже обвинить себя за поспешную покупку, гневный голос жены только раздразнил его, и он тоже закричал.
– У тебя без картуза кретинский вид! Я знаю, что я делаю. Еще раз попрошу не лезть с непрошеными советами. – И, повернувшись в дверях, швырнул зло: – Старая корова!
Анастасия Андреевна поглядела на хлопнувшую дверь, постучала сгибом пальца себя по лбу и беспомощно спросила у стен и мебели:
– Ну, скажите по чести, видели вы второго такого дурака?
ГЛАВА ПЯТАЯПоследующие пять дней принесли профессору немало огорчений. Знакомые при встречах шарахались от него, как полинезийцы от табу, и с самым неделикатным видом пялили глаза на его необычайный картуз. Молодые республиканцы в лаборатории, не сдерживаясь, гоготали ему в спину и присвоили непочтительную кличку «пятнистой медузы».
Анастасия Андреевна дулась, котлеты за обедом были явно пережарены и хрустели на зубах, подобно ландриновому монпансье.
Было совершенно очевидно – шатания основных жизненных устоев происходят от проклятого картуза. Стоило только выбросить его на помойку и купить новый, как все пришло бы в немедленное равновесие…
Но профессором овладело необъяснимое злобное упорство, которое появляется обычно у застенчивых от рождения людей, когда им приходится сталкиваться с противодействием их капризам.
Он исхудал, пожелтел, но упрямо носил блистательный головной убор и даже отбрасывал его пышную массу на затылок, благодаря чему в скромном лице его появился внезапный оттенок этакого гусарского ухарства.
По крайней мере, проходя утром в лабораторию, он встретился с двумя красноармейцами. Завидев профессора, один из них, румяный и гладкий, как девушка, с восхищением сказал товарищу:
– Вот это лихой папаня! Хоть сейчас на коня и к буденновцам!
Конечно, это было очень нелепо, но профессор от этих слов внезапно почувствовал себя молодым и сильным и, продолжая свой путь в святилище науки, даже выпрямил грудь и старался отбивать ногами какой-то внутренний такт.
По мере возможности он оправдывал в этот момент древнюю поговорку о Юпитере, лишающем разума.
Понемногу люди, знавшие Александра Евлампиевича, начали привыкать к бирюзовому ореолу над его лбом и кофейному воздушному шару, колеблющемуся над лысиной, и перестали замечать непристойную фривольность дьявольского картуза, а людей незнакомых не замечал сам профессор по причине отмеченной уже близорукости.
Даже Анастасия Андреевна успокоилась, котлеты приняли должную мягкость, и между супругами произошло полное примирение, в ознаменование чего профессор пожелал купить жене вышитую дорожку на рояль.
Утром он снова выехал на втором номере к проспекту 25 Октября, и этот серенький день нежданно ознаменовался…
Впрочем, не стоит забегать вперед и заранее открывать читателю карты.
Это могут делать только в романах, и то маститые романисты, автор же человек скромный, и ему нужно приобрести своего читателя.
Профессор благополучно купил желаемую дорожку, цвета крем, по которой были вышиты узором ришелье очаровательные, бесподобные, непревзойденные розы. Вся вышивка была так нежна, так трогательна и прозрачна, что Александр Евлампиевич, не торгуясь, заплатил восемнадцать рублей и отправился к домашним пенатам.
Правда, он потолкался еще по Гостиному двору, стоял не менее шести минут у витрины кожтреста и зашел к знакомому часовщику проверить свой хронометр, но на эти невинные занятия ушло не более пятнадцати минут в целом.
Приехав домой, он дружески поцеловал в обе щеки Анастасию Андреевну, которая вручила ему полученное от сына письмо.
Сын Александра Евлампиевича, по окончании военно-медицинской академии, заинтересовался изучением малярии и получил командировку в Кушку, где, как известно, для обитателей крепости природа вырабатывает только два продукта широкого потребления: двухвершковых скорпионов и тропическую малярию.
Профессор уселся за обеденный стол, повязался, как обычно, салфеткой и, прихлебывая капустный суп, прочел с любознательностью новые сведения о происхождении малярийных очагов.
Только дочитав письмо, он вспомнил о подарке и сказал жене:
– И принес тебе, Тасенька, подарок. Пройди в прихожую, он у меня в кармане пальто. Такой сверточек.
Анастасия Андреевна, порозовев от удовольствия, вышла, по очень долго не возвращалась. Профессор с удивлением посмотрел на дверь и хотел уже встать, как Анастасия Андреевна появилась на пороге, держа развернутую дорожку.
У нее было счастливое, но и несколько встревоженное лицо.
Подойдя к мужу, она ласково прикоснулась губами к его лысине.
– Спасибо, Сашенька! Прелестная дорожка. Но, голубчик, до чего ты стал рассеян! Почему твой хронометр валяется в кармане пальто? Счастье, что не вытащили!
Профессор опустил глаза на руку жены и в ямке ладони увидел золотые часы. Тепло поблескивала, раскачиваясь, свесившаяся цепочка.
– Странно, – сказал он, потянувшись к часам, – как же это вышло?
Но, еще не коснувшись часов, он вдруг отдернул руку и вскочил.
– Это не мои часы! – вскрикнул он. – У меня же не цепочка, а шнурок!
Анастасия Андреевна застыла, перебегая взглядами с лица мужа на часы и обратно.
Профессор, расстегнув пиджак, пощупал селезенку и вытащил из жилетного кармана хронометр, который закачался на круглом шелковом шнуре.
– Вот мой хронометр, – продолжал он, совершенно растерявшись, – а это… это не мои часы!
– Как же они могли попасть в твой карман, голубчик! – ахнула профессорша.
– Дай сюда, – твердо бросил профессор и взял часы таким странным движением, как будто золото раскалилось и обожгло ему руку.
Он повертел часы, открыл крышку и поднес к глазам циферблат.
– Нет… не мои, – упавшим голосом сказал он, – мои английские, а эти Лонжин. Тоже превосходная фирма, но это ничего не объясняет. Я отказываюсь понимать!
Он продолжал разглядывать часы, подержал на руке тяжелую анкерную цепочку и вдруг побледнел. Цепочка была оборвана, вернее перекушена острым инструментом, звена за два до кольца, продевающегося в петлю жилета. Профессор положил часы на стол с неимоверной быстротой, почти бросил.
– Они обрезаны… обрезаны! – выдохнул он трагическим шепотом.
– Но откуда они у тебя?..
– Ах!.. Я откуда знаю? Столько же, сколько ты. Невероятная вещь!
Профессор волновался, у него дрожали руки и брови.
– Успокойся, Саша, – положила руку на плечо ему жена, – припомни хорошенько, где ты был.
– Сейчас… сейчас. Сначала я ехал в трамвае, потом на углу Садовой купил газету, затем зашел в магазин за дорожкой, оттуда я прошелся по Гостиному… поглядел витрины. Еще стоял долго у обувного магазина. По дороге домой я зашел к Ивану Парменычу проверить хроно… – Профессор остановился и радостно хлопнул в ладоши. – Ну да же, конечно! Ах я, старая растяпа! Вероятно, часы лежали у него на прилавке, и я как-нибудь машинально… Но что подумает Иван Парменыч? Вот история. Давай я их отвезу. – Он схватил часы и устремился к двери.
– Саша! Куда же ты? Дообедай, тогда и отвезешь.
– Что ты?.. Что ты? – возмутился профессор… – Человек, верно, ищет, голову потерял, милицию вызвал, угрозыск. Может, сюда уже ищейка идет.
Он на лету поцеловал руку жены и убежал с необычайной энергией.
Анастасия Андреевна долго ждала его возвращения, но только около восьми вечера хлопнула входная дверь, и в столовую ввалился в картузе, пальто и галошах Александр Евлампиевич. На безмолвный вопрос жены он поднял руку жестом слепого Эдипа. В комнате, как свинцовый шар, повисло грузное молчание.
– Что? Что же ты ничего по говоришь? Ради бога! – крикнула Анастасия Андреевна.
– Часы… не Ивана Парменыча, – глухо выдавил профессор и тяжело бухнулся в кресло, так что точеные ореховые ножки обидчиво взвизгнули и затрещали.
ГЛАВА ШЕСТАЯУтром на семейном совете было решено, что профессор даст объявление в газету о находке часов. Александр Евлампиевич почти не спал ночью, осунулся, под глазами у него набрякли две лиловые арабские сливы.
Анастасия Андреевна, прощаясь с ним в передней, скорбно вздохнула:
– Саша, ты только не волнуйся, побереги себя. За эту ночь ты постарел на десять лет. Ведь ничего страшного не случилось. Глупое недоразумение. Ты же ни в чем не виноват!
– Еще не хватает, чтоб я был виноват! – окрысился профессор и надел картуз уже не на затылок, но резко надвинул козырьком на нос.
Объявление появилось, но за часами никто не приходил, и они продолжали мирно тикать на письменном столе, ежедневно заводимые профессором, сердце которого при этой процедуре раздиралось сомнениями.
Ровно через три недели профессор снова побывал на проспекте 25 Октября по причине необходимости купить себе полдюжины носков.
Он уже почти успокоился и даже показывал заходившим друзьям часы, рассказывая их фантасмагорическую историю.
Вернувшись после сделанной покупки домой, он хотел повесить пальто, но заметил, что перемычка вешалки оборвалась. Профессор был аккуратен и немедленно, взяв покупку в одну руку и пальто в другую, отправился к жене, чтобы привести вешалку в должный порядок.
Анастасия Андреевна взяла пальто, разложила его на коленях, достала из бархатного гриба иголку и принялась поправлять повреждение, а профессор ходил по диагонали спальни и с оживлением рассказывал о невском ледоходе.
Внезапно он остановился на полушаге, услышав металлический стук на паркете, у ног Анастасии Андреевны. Он нагнулся с юношеской легкостью и так и остался, присев на корточки, с растопыренной рукой и открытым ртом.
Анастасия Андреевна отбросила пальто и, нагнув голову, увидела у носка левого ботинка на полу золотой плоский портсигар, сверкавший алмазами монограммы. Она вздрогнула и посмотрела на тяжело дышавшего профессора.
– Что это, Саша? – спросила она, дрожа в ужасе и уставясь на портсигар глазами птички, повстречавшей очковую змею…
– Н-не знаю… П-порт-сигар, – произнес профессор, пронзительно икнув.
– Откуда же он?
Профессор поднялся и ухватился рукой за грудь. Лицо его мгновенно посерело, вытянулось, и на носу проступил пот.
– Нехорошо… сердце… – сказал он дурным голосом и сел на пол.
Анастасия Андреевна запищала, с быстротой экспресса проскочив спальню, коридор и переднюю, слетела по лестнице на площадку ниже, где жил давний домашний доктор, Серафим Серафимович Архангелов.
Когда, волоча за руку доктора, она вернулась в квартиру, профессор лежал на полу в обмороке.
Переложенный на кушетку, после шприца камфары он глухо застонал и медленно очнулся.
– Сашенька, дорогой! Тебе плохо? – спросила плачущая Анастасия Андреевна.
Зубы профессора разжались. Он несколько раз пытался произнести какое-то слово, но икал и проглатывал звуки, и, только наклонившись вплотную к лицу, доктор Архангелов наконец понял.
– П-плл-плор-лт-лсиг-лглар.
– Какой портсигар? О каком портсигаре говорит Александр Евлампиевич? – повернулся к Анастасии Андреевне недоумевающий доктор, но она только безнадежно взмахнула рукой.
Профессор устало закрыл глаза и задышал ровнее.
– Я думаю, лучше всего дать ему полный покой. Пусть полежит с полчаса. Я сейчас выпишу бром и хлоралгидрат. Сердце в порядке, тревожиться нет никаких оснований, просто легкий сердечный припадок на почве волнения. Пульс повышенный, но пройдет. Вы мне дадите бумаги и перо, Анастасия Андреевна.
В кабинете, подписывая рецепт, Архангелов, закусив клок смоляной разбойничьей бороды, оставлявшей на его лице в неприкосновенности только шишковатый нос и желтые остренькие глазки, выслушал с любопытством несвязный рассказ Анастасии Андреевны о потрясающих событиях в профессорской семье.
– Удивительно! Какие-то багдадские приключения. Ничего не могу понять. И вы говорите, приносят ценности в кармане пальто? Так! Занятно! А можно взглянуть на пальто?
Хотя Анастасия Андреевна и не поняла, зачем нужно смотреть на пальто, но с готовностью подала его доктору.
Серафим Серафимович внимательно осмотрел пальто с таким видом, как будто ожидал, что из него с треском и грохотом выскочит настоящий черт, ощупал затем подкладку и полез широкой лапой в карман.
Борода его вздулась широким веером, губы скривились, и он с торжеством сказал:
– Эге! Да тут еще какая-то штуковина! – и вытащил руку. Рука выволокла из кармана нечто блестящее, оказавшееся при ближайшем рассмотрении парой серег.
Бриллианты и сапфиры на его ладони заискрились в киновари заходящего солнца синими и розовыми звездами.
– Черт! Хорошие серьги! Бриллианты карата по полтора! – сказал он с удовольствием, не замечая, что Анастасия Андреевна осталась посреди комнаты женой Лота, недвижно глядящей на гибель содомского пепелища. – Н-да! Отменное приобретение. Тысячи полторы стоит! – невозмутимо продолжал он, перекатывая серьги на руке, чтобы полюбоваться блеском камней.
Анастасия Андреевна наконец очнулась.
– Серафим Серафимович!.. Что же нам делать? Чем вы объясните это?
Доктор меланхолически пожевал конец большого пальца, что делал всегда в затруднительные минуты, и неторопливо ответил:
– Не могу понять. Не поддается никаким логическим объяснениям. Думаю, что в средние века Александра Евлампиевича сожгли бы на костре за общение с дьяволом…
– Боже… только этого недоставало! – всхлипнула профессорша. – Но как же выйти из этого положения?
– Затрудняюсь посоветовать, – ответил Архангелов, не вынимая пальца изо рта, – на мой взгляд, лучше всего отвезти эти вещи в уголовный розыск и рассказать обо всем. За ночь Александр Евлампиевич отдохнет, а утром немедля пусть едет в угрозыск. Самое верное.
– А как вы думаете? – Анастасия Андреевна покраснела и запнулась. – Саша не мог заболеть внезапно этим… ну как ее, клептоманией?
Доктор подумал еще минутку и решительно сказал:
– Нет! Клептоманы обыкновенно помнят свои кражи и делают их сознательно. Сущность клептомании в том, что человек не может удержаться от воровства, но сознает его. Нет, это не клептомания!
Окончив это научное объяснение, доктор с достоинством откланялся.
После его ухода Анастасия Андреевна прошла в спальню. Профессор уже совсем очнулся и сидел на кушетке, охватив голову прозрачными старческими пальцами.
Он взглянул как бы сквозь жену и пробормотал:
– Я совсем ослабел. Что же делать?
– Ложись, Саша, спать! Тебе нужно отдохнуть. А завтра утром съезди в угрозыск, отвези вещи и заяви.
И Анастасия Андреевна передала свой разговор с доктором. Профессор послушно дал уложить себя, выпил в постели стакан горячего молока, проглотил порошок хлоралгидрата и через четверть часа уже нежно и заливисто посапывал носом.
Анастасия Андреевна присела у кровати в кресло, закуталась в теплый оренбургский платок и так просидела до рассвета, жалобно морща лоб.








