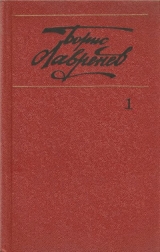
Текст книги "Собрание сочинений. т.1. Повести и рассказы"
Автор книги: Борис Лавренев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
После чаю адмиральша вынимала лакированную коробочку, доставала потертые многолетние атласные карты, спрашивала:
– Не угодно ли вам, Ефим Григорьевич?
Патрикеев похлопывал по животу, отвечал благодушно:
– А чиво не игрануть? Деньги наши несчитанные. Эх, мать честная, елки зеленые! Давайте буду сдавать что ли, Анна Сергеевна.
За картами Анна Сергеевна рассказывала Патрикееву о прошлом. Особенно любила приводить всякие мистические приметы, предсказывавшие судьбу империи и царского дома.
Сидит адмиральша, тасует карты покоробленными ревматизмом пальцами. Левретка Бици свернулась на шелковом черном подоле, счастливо повизгивает во сне.
Рассказывает адмиральша, мерно роняя слова:
– И вы представьте себе, Ефим Григорьевич. Совершенно замечательно, как все эти несчастья были предсказаны в свое время. Удивительно таинственно. Вот все, например, знают, как парижская предсказательница по именам царствующего дома пророчила одному из великих князей гибель. Она, представьте, написала подряд имена всех великих князей и царствующего императора: НАВАСАВАН, – адмиральша рукой выписывает на столе буквы, – и, понимаете, вышло: «на вас саван». C’est incroyable![40]40
Это невероятно!
[Закрыть] И оказалось правдой. А раньше один затворник, он жил в монастыре, в пустыни, питался одной травой – и к нему приехал государь Александр Первый за благословением. А пустынник ему открыл страшную тайну, представьте. Он сказал, что дом Романовых будет царствовать триста три года, последний царь, как и первый, будет Михаил, и что началось царствование Романовых в Ипатьевском доме и кончится в Ипатьевском. И опять ведь верно. Господь дал святому старцу чудный дар прозрения. От шестьсот тринадцатого до девятьсот семнадцатого – триста три года. Государь император Николай Александрович отрекся от престола и передал царство Михаилу, а Михаил отказался в пользу народа. Призвали великого князя Михаила Федоровича на царство из Ипатьевского монастыря в Костроме, а расстреляли государя в доме купца Ипатьева в Екатеринбурге. Это же необычайно, Ефим Григорьевич! Теперешнее правительство не признает ничего таинственного, – но ведь факты налицо!..
Патрикеев качает головой и выкладывает на стол козырного короля с дамой.
– Сорок, – и, отходив червонным тузом, говорит не спеша. – Н-да. Насчет того, что пустынник травой питался, этому, извините, веры не даю. Слесарничал я как-то в монастыре до перевертона, так тоже видел пустынника. Говорили: одной сушеной треской пробавляется; а я из любознания в щелку вечерком поглядел. Чуть не целого порося, сукин сын, упер в одиночку… А насчет предсказаний не могу ничего возразить по существу. Бывают чудеса, в этом, извините, расхожусь с программой вождей, потому сам видел. Брательник мой двоюродный, Сенька, напимшись, пошел на речку, глядь – старушенция белье стирает. Он, спьяну, пихни корзинку ногой, значит, в речку. Карга озлилась, кричит: «Чтоб ты утоп, проклятый, кишка твоя вонючая». И что ж думаете? Только снял порты искупаться, поскользнулся на плоту, бац в воду, под бревна, – и поминай как звали. Так что в гадалок очень даже поверить можно.
Адмиральша, сморщив лоб, соображает взятку.
– Вот видите. Я очень рада, что вы меня понимаете, Ефим Григорьевич. А то еще перед самой революцией было необъяснимое явление в Царском Селе. Прилетели в феврале совершенно необыкновенные птицы в дворцовый парк. Никто не мог узнать, какой породы: серые, громадные. Даже профессора-орнитолога вызывали, и он руками развел, – сказал, что в первый раз таких видит. Летали они над дворцом, кричали почти человечьими голосами, а потом с размаху падали наземь, рыли снег когтями и рвали себе перья на груди. И невозможно было их подстрелить.
– Ишь ты! – удивляется Патрикеев. – Да кто стрелял-то?
– Царские егеря.
– Ну, дело немудреное, – кривится Патрикеев. – Энти самые егеря с безделья всегда опимшись ходили, руки тряслись, и в зенках туманило. Нашего бы Михея Иваныча послать, был у нас в Сурове такой старикашка охотник; тот бы ежели вдарил, то всех птиц зараз бы поклал.
– Да, такие странные птицы… И ровно двадцать три штуки, по числу лет царствования государя.
Но чаще Анна Сергеевна рассказывает Патрикееву о выходах во дворце, о торжественных балах, подробно и тщательно описывая все мелочи священного ритуала двора.
Однажды достала Анна Сергеевна из шкапчика шкатулку птичьего глаза, раскрыла, показала Патрикееву парчовые туфельки-наперстки.
Патрикеев осторожно подержал туфельку в деревянных пальцах.
– Хы… Штучка! Поди целковых двадцать плачено. Только надсмешка это, а не обувка. Раз наденешь – и тьфу.
Адмиральша прижала другую туфельку к груди. Сказала тихо:
– В этих туфельках, Ефим Григорьевич, я танцевала на балу в Зимнем, когда его величество был еще наследником. И он подошел ко мне и сказал: «Вы прекрасны, как заря, мадемуазель». И он пригласил меня на вальс, Ефим Григорьевич, а после вальса он пожал мне руку и сказал, что он без ума от меня. Я храню эти туфельки, чтобы мне их надели в гробу.
Патрикеев посмотрел на часы. Стрелка переползла за полночь.
– Однако пора, – потянувшись, обронил он. – А насчет этого скажу, что напрасно вы, Анна Сергеевна, себе сердце терзаете, что он из-за вас ума решился. Он о детства еще тронутый ходил, без ума, значит, – так ученый историк товарищ Щеголев на лекции доказывал.
Адмиральша отерла повлажневшие, на мгновение озаренные юностью глаза и молча убрала туфельки.
6
В третье посещение Бориса Павловича Леля и он поняли, что любовь неизбежна и прятаться от нее глупо и смешно. И Леля первая сказала об этом Борису Павловичу.
– Я – нехорошая. Я всем, всем обязана Генриху: он спас меня от голода, от тротуара. Я обязана любить его, но ты же видишь, что я не могу, – сказала она Борису Павловичу, терзая пальцами край одеяла. – Мне немного ведь осталось жить, и я хочу любить в последние минуты. Ведь у меня ничего нет, кроме моего мира в стеклышке… и кроме тебя.
Борис Павлович стоял у печки и грелся, прислонясь к ней спиной и заложив руки за спину. Он смотрел в угол комнаты, мимо Лели.
Леля жалобно всплеснула руками.
– Что же ты молчишь? Мне страшно. Скажи что-нибудь! И потом, мы же не виноваты перед Генрихом, мы не делаем ничего плохого. Мы даже не целуемся. Меня ведь нельзя целовать. Мы любим друг друга, как дети. Мы соприкасаемся только душами.
Борис Павлович качнулся и сказал:
– Может быть, это и есть самая страшная измена. Пока женщина отнимает у мужа только тело, до тех пор она еще не изменила ему. Если она отнимет у него свою душу, это – конец.
Леля заплакала.
– Что же нам делать? Ну, что?
Борис Павлович пожал плечами.
Что делать, когда любишь? Разве не спрашивают об этом женщины у любимых с того времени, как появились слова, и разве отвечают любимые иначе как пожатием плеч, ибо нельзя выразить ответа словами?
Но все же, за пожатием плеч, Борис Павлович ответил:
– Что? Ничего. Скоро весна. Февраль, март, апрель. Я налягу на работу, попрошу у директора сверхурочные, вообще как-нибудь наскребу денег, и мы уедем в апреле на Кавказ. В Красную Поляну, в Новый Афон, куда-нибудь. Ты вдохнешь горного воздуха и станешь здоровенькой, перестанешь кашлять.
– И мы будем тогда любить друг друга по-настоящему? – спросила, улыбаясь сквозь слезы, Леля Пекельман.
– Будем.
– Боже, как чудесно! Иди, поцелуй меня вот здесь. Здесь можно.
Леля отвернула халатик над беспомощно детской, цыплячьей ключицей, возле которой легкими толчками пульсировала плечевая артерия, и притянула Бориса Павловича за борт пиджака. Он поцеловал выступающую косточку нежно и робко, как в детстве целовал бантик из косы знакомой гимназистки, подарившей ему этот голубенький символ симпатии на балу морского корпуса после третьего вальса.
Горячее плечо Лели пахло одеколоном «Саида», парным молоком и еще чем-то неуловимо трогательным и родным.
– Милая, – сказал Борис Павлович, – милая Лелечка!
Леля запахнула халатик и погладила Бориса Павловича по небритой щеке.
– Сядь. Расскажи мне что-нибудь хорошее-хорошее. Расскажи мне о своих плаваниях. Я люблю, когда ты рассказываешь. Ты так много видел. Очень страшно плавать в океане? Я никогда не ездила по морю, кроме Петергофа. Я смешная? Да?
Борис Павлович засмеялся.
– Отчего смешная? Ты – милая, ты – плюшевый игрушечный зайчик. Зачем же тебе плавать в пустом океане, когда тебе нужно бегать по полям и грызть колосья? Вот выздоровеешь – и будешь.
Он придвинул кресло и сел в его мягкую кожаную раковину. Леля слушала его рассказ, грызя шоколадку. Вскоре остановила его:
– А на Яве женщины умирают от чахотки?
– Не знаю, – недоуменно ответил Борис Павлович, – не знаю. Наверное, нет. Очень мягкий климат, тепло, морской воздух. Чахотки не должно быть.
– Счастливые! – прошептала Леля и опять схватила Бориса Павловича за борт пиджака. Непомерно огромные глаза воткнулись в Бориса Павловича, как гвозди. – А Генрих? Что же мы скажем Генриху? Как мы уедем? Генрих не вынесет. Меня не будет… Ты пойми, что это значит для Генриха. Нет, нет, я не могу смотреть, когда он заплачет.
Борис Павлович помолчал, – помолчав, ответил серьезно:
– Генриху придется не говорить. Мы уедем сразу, возьмем билеты, приготовим все и уедем, когда Генриха не будет. Ему оставим письмо. Иначе нельзя. Сказать ему все – будет слишком трудно для нас.
Стенная кукушка прокуковала десять, и за дверью раздались шаркающие, усталые шаги Генриха. Он вошел, как всегда серый, разбитый и осунувшийся. Борис Павлович неловко встал, и эту неловкость движения заметил Генрих. Он молча склонил гладко причесанную голову, Борис Павлович тоже молча поклонился.
Минута нависла над тремя, тяжелая, готовая оборваться и раздавить их, – и тогда Леля, спасаясь от обвала, от гибели сейчас, в эту минуту, трудно и горячо покраснев, сказала неестественно весело:
– Генрих, миленький, здравствуй! Мы так заболтались с Борисом Павловичем, что даже времени не замечаем. Как я рада, что ты пришел.
Генрих так же молча поцеловал Лелю в тоненькую линию пробора на темени. Повернувшись к Борису Павловичу, сказал мягко и грустно:
– О, я не знаю, как мне благодарить Бориса Павловича за твое развлекание.
И уже обращаясь непосредственно к Воздвиженскому?
– Лела так скучно, а я ничего не могу сделать. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы лечить Лела, а когда я дома – я такой усталый и скучный, что не могу ее развлекать. Лела совсем не нужно видеть скучных людей.
Борис Павлович быстро взглянул на Генриха Пекельмана: в последних словах ему почудилась покорная и знающая ирония. Но усталые складки морщин у Генриха были спокойно опущены и взгляд ясен.
Борису Павловичу стало мучительно стыдно.
– Я пойду, – сказал он нарочито шутливо, – я ведь при Ольге Алексеевне как в старые времена сказочник и рассказываю небылицы, пока не придет хозяин.
Генрих Пекельман проводил Воздвиженского через свою комнату до коридора и, закрыв дверь, постоял около нее в раздумье. Прямая морщинка у носа сломалась и задрожала. Он повернулся и вошел к Леле.
– Лела, ты отдыхай, а я буду работать.
Леля взглянула и увидела в вишневых зрачках Генриха знание. Ей стало страшно, она жалобно спросила:
– Ты не хочешь посидеть со мной, Генрих?
Генрих быстро отвернулся.
– Мне надо работать, Лела. Мне надо отправлять тебя в санаторий, – и шатающейся, вялой походкой вышел из Лелиной комнаты.
7
День двадцать второго февраля упал на квартиру адмиральши Ентальцевой, как рушится во время пожара крыша: внезапно и страшно.
Когда веселыми змеящимися лентами пламя обвивает стены, выбрасывается сине-оранжевыми фейерверками из потерявших глянец стекла оконных глазниц, – крыша высится черная, тяжелая, крупная, и кажется, что ее одну не трогает огонь.
Но приходит минута, когда, перекусанные жаркими зубами огня, стропила и балки ломаются, и крыша мгновенно и пугающе быстро, с тяжелым грохотом, рушится внутрь здания, давя и ломая потолки, пробивая перекрытия.
В день двадцать второго февраля, в субботу, Борис Павлович приехал со службы в половине третьего и, закинув в свою комнату портфель, прошел к Леле Пекельман. В руках у него был букетик подснежников. Он вошел к Леле не через комнату Генриха, а прямо из коридора.
Дома в этот час были только слесарь Патрикеев, не пошедший с утра никуда – работы не предвиделось, – и чумазые Сонька и Котика.
Патрикеев лежал на желтой шелковой кушетке с синими попугаями, курил самокрутку и вполголоса напевал любимое:
Родила нечаянно
Мальчика мать.
Стал мальчик отчаянно
Всей жистью страдать.
Сонька и Котька возили друг друга по коридору в самодельной тачке и неистово спорили, кому быть кучером, а кому лошадью. Грохот деревянных колесиков по паркету и разъяренный крик Соньки гулко катались по коридору, как кегельные шары, и вскоре из комнаты Лели Пекельман высунулась голова Бориса Павловича Воздвиженского. Он свирепо перекосил рот и сказал, обращаясь к Котьке:
– Ты, шарлатан, не можешь не шуметь? Перестань грохотать! У Ольги Алексеевны голова болит.
Котька остановил тачку, засунул палец в рот и с недоверчивым презрением поглядел на Бориса Павловича.
– Дай гливенник, – сказал он категорическим тоном, – тогда пелестану.
– Зачем тебе, паршивцу, гривенник? – спросил Борис Павлович, сменив свирепую гримасу добродушным удивлением: он питал слабость к Котьке и часто кормил его конфетами.
– Пивонелский галстук купью, – пропищал Котька.
Борис Павлович вынул из кармана двугривенный и сунул в черную обезьянью лапку Котьки.
– На, и катись воздушным шаром без шуму.
Борис Павлович скрылся в комнате. Сонька и Котька некоторое время совещались шепотом в углу коридора, как лучше истратить неожиданную получку, – и на цыпочках выбрались из квартиры через кухонную дверь.
В это самое время с парадного хода явился пан доктор Куциевский и нырнул в свою комнату.
Сонька и Котька возвратились вскоре с полными защечными мешками леденцов.
Проходя по коридору, Котька заметил, что дверь комнаты Лели Пекельман закрыта неплотно и в щелочку виден свет. Неудержимое любопытство всунуло Котькин замызганный нос в щелку. Поглядев, он обернулся и пальцем поманил Соньку.
Сонька подкралась и заглянула, упирая остреньким подбородком в Котькино плечо, понимающе ухмыльнулась и, задышав Котьке в ухо, зашептала:
– Целуются, сволочи!
Постояв еще у двери, оба тихонько отошли и направились в свою комнату.
Патрикеев продолжал тянуть свою нескончаемую песню, когда Сонька и Котька с таинственными лицами подошли и остановились рядом против отца.
– Вы чего, пострелята? – спросил Патрикеев, видя, что Сонька и Котька пришли неспроста.
Котька захихикал, а Сонька, тряся косичкой, восторженно выложила:
– Тятька! Долгоносый с немкиной женой целуются. Так и чмокают, так и чмокают. Ей-бо. Провалиться мине! – пискнула она, увидев недоверчивую мину Патрикеева.
– Цевуются… ей-бо, – подтвердил Котька.
Патрикеев встал с кушетки и пятерней поскреб черную, в седоватых подпалинах, бороду. Заговорил сам с собой:
– Вот так оказия! Что ж немец делать станет? А? И Борис Павлович тоже – чудило. Чего он в ей нашел? Помирает баба. Ни рожи, ни кожи. До могилы два аршина. Ну и дела!..
– Да, дева… хленовина, – поддакнул Котька.
Патрикеев, озлившись, дал Котьке щелчка.
– Ты мне… сопляк! Я тебе дам ругаться!.. С кого только учишься, пащенок! – и добавил: – Пойти взглянуть, что ли! Занятная машинка.
Он скинул растоптанные боты и босиком направился в коридор. Сонька и Котька, цыкая друг на друга и грозя пальцами, поползли за ним. В дверях Патрикеев обернулся, схватил детей за шивороты и стукнул лбами.
– Цыц, пащенки! Сидите здесь!
8
В день двадцать второго февраля Леля Пекельман с утра чувствовала себя отлично. Столбик ртути в термометре не поднялся выше тридцати семи, как обычно; голова была ясна и свежа, тело окрепло, стянулось, стало казаться упругим и жизнеспособным.
После ухода Генриха Леля почитала Райдера Хаггарда, но чтение не ладилось.
Леля протянула руку, взяла флакон и заглянула в свой стеклянный мир.
День за окном был синий, морозный, казался выкованным из звонкого голубоватого металла. От этого в скрещениях сказочных арок и дуг в хрустале засквозила глубокая, волнующая синева.
Леле показалось, что в шарике развертывается морская даль без горизонта, а над ней тяжелеет синий небесный шатер. Леля сощурила ресницы, так что остались лишь узенькие щелки: синева углубилась, и ярящееся южное солнце вскипятило Лелину кровь, – а гудение крови зазвучало в ушах прибоем, катающим круглую гальку по пляжу. Леля откинула одеяло, привстала и сложила ладошки перед грудью, как делает готовящийся броситься в набегающую пену буруна пловец.
В это мгновение вошел Борис Павлович. Леля оглянулась на него и засмеялась.
– Ах, это ты! А я так замечталась. Такой синий день, такой синий мир в моем стеклышке, что мне почудилось, будто я уже на морском берегу, и бегу броситься в воду… А знаешь: я начинаю верить, что я поправлюсь. У меня нет сегодня температуры, и я такая крепкая. Погляди – даже мускулы появились.
Леля откинула рукав, вытянула исхудалую желтенькую руку, согнула ее.
– Посмотри, пощупай…
Борис Павлович дотронулся до теплой, не вздувшейся кожи, едва заметно улыбнулся.
– Не смейся, злой, – обиделась Леля, – вот увидишь: я выздоровею и еще буду класть тебя на обе лопатки.
Она задумалась и внезапно спросила Бориса Павловича, заглянув ему в лицо, с тайным страхом:
– Борис! Почему ты полюбил меня такую, больнушку, дохленькую, когда ты сам здоровый и кругом так много веселых, здоровых женщин? Почему? Ты не раскаиваешься?
Борис Павлович присел на край постели и, положив Лелину ладошку на свою, тихонько похлопывал по ней рукой.
– Видишь, я сам долго думал об эти. И это совсем, совсем просто. Мы, мужчины, созданы, видно, затем, чтобы заботиться о ком-нибудь. Пока у нас нет детей, это чувство отцовства должно выливаться на любимых. А здоровые женщины сейчас стали слишком самостоятельны: они не позволяют даже заботиться о себе. А это насилие над моим отцовским чувством. С тобой же мне легко, как будто ты маленький ребенок, за которого я принимаю на себя всю ответственность…
Заглушая его слова, Сонька и Котька подняли в коридоре тот гвалт, который заставил Бориса Павловича дать Котьке двугривенный. Вернувшись, он продолжал:
– Вот поэтому и люблю тебя, что ты беспомощна, что за тобой можно и нужно ухаживать, беречь тебя от пылинок. Иначе – куда мне девать мою энергию, которая не вмещается полностью в службу?
– Ты хороший, – задумчиво уронила Леля и взяла одеколонный флакон.
– Как странно, – сказала она, поворачивая шарик, – сейчас жизнь требует от людей, чтобы они жили только в больших масштабах, в том большом мире, который беснуется за окном. Ну, а если я не могу? Если я больная, бессильная, разве нужно прогнать меня с земли, разве у меня нет своего маленького уголочка? Я никого не обижу, – я только жить хочу. Ведь я хотела бы жить большой, горячей, бьющейся жизнью, но не могу.
В ресницах ее закопошились готовые оторваться хрустальные, как шарики, капельки.
Борис Павлович ближе придвинулся к ней.
– О чем ты, маленький зайчик? Разве тебе кто-нибудь не позволяет жить? Скажи кто – и я его съем.
Леля горько вздохнула и уронила лицо в галстук Бориса Павловича. Он приподнял ее за подбородок и поцеловал в закрытое веко. Леля еще горше вздохнула, поежилась и подвинула к Борису Павловичу бледно-розовые губы.
– Поцелуй меня, Боря! Поцелуй! Я такая усталая, такая ненужная в большом мире – никому, кроме тебя. И я сегодня здоровая.
9
Патрикеев уперся руками в бок и пригнулся лицом к щели, оставленной Борисом Павловичем в дверях.
Он увидел уголок подушки, рассыпанный по нем пепел Лелиных волос и склоненного к подушке Бориса Павловича.
Борис Павлович приподнял Лелину голову, долго смотрел на нее со странным выражением и припал к ней, целуя.
Патрикеев увидел, как запрокинулись желтенькие оголенные руки, завернулись вокруг шеи Бориса Павловича, как все Лелино легкое тело поднялось, приникая к синему пиджаку Бориса Павловича, как будто ища защиты.
И Патрикеев услышал голос, как звон летящих осколков.
– Милый… – сказал этот голос так горячо, что у Патрикеева под крапчатым ситцем рубахи проползли по спине жгучие мурашки.
Он оперся о стену. Его удивило не то, что «долгоносый» и Пекельманша целуются. Это не раз приходилось видеть, не раз и сам Патрикеев проделывал эту несложную историю.
Его удивило и потрясло то, что он увидел в запрокинутом Лелином профиле, тянувшемся к Борису Павловичу. В нем была никогда не виданная Патрикеевым нежность изнемогающей от счастья любви, невыразимая ласка, трепетность, порыв.
Смешливо-похабное настроение, с которым он подходил, крадучись, к неприкрытой двери, слетело с него, как шелуха, и сменилось знобкой дрожью, от которой Патрикеев побледнел и задышал тяжелее.
За его сорок четыре года никто не смотрел на него так, никто не запрокидывал рук на его шею, никто не целовал с такой обволакивающей счастьем лаской.
Он припомнил свою деревенскую молодость, несложные ухаживания на посиделках за девками, под плач гармошки, лошажье ржанье и похлопыванье ладошками в темных углах по упругим грудям, и ничем не прикрашенную грубость торопливого соития в сенцах на сундуке или в травяной пыли сеновала, равнодушную покорность жены, никогда не целовавшей его, и упрощенную животную требовательность Меланьи.
От этого у него защемило под ложечкой и внезапно пересох рот.
Вместе с вспыхнувшей жалостью к себе он ощутил неожиданную и тревожную, царапающую нежность к этой чужой тоненькой, больной женщине, умеющей любить по-иному, чем его женщины, и подумал:
«Всё образование! Где нам, серым?.. Эх, мать родная, елки зеленые! Так и подохнешь, не знавши настоящего любовного обращения».
Ему даже стало неловко, что он заглянул в эту дверь, куда не следовало заглядывать. Это было похоже на дурной поступок.
Он поднял руку, чтобы тихонько прикрыть дверь, но ощутил у себя на затылке теплое дуновение и торопливо оглянулся, с захолонувшим сердцем.
Лоб о лоб он столкнулся с паном ветеринаром Куциевским. Пан Куциевский, идя в кухню с кувшином, издали увидел пригнувшегося к двери Патрикеева и, заинтересовавшись, неслышно подкрался к нему.
Рыжая лапша пана Куциевского возбужденно шевелилась, горошины покрылись слоем масляного лака. Он ухватил Патрикеева за руку, забыв шляхетскую гордость.
– Цо, – шепнул он, брызнув на нос Патрикеева слюной, – амуры? Цо пан скажет? Как это можно? Такой разврат, ай-ай! То нужно сказать пану Генриху.
Патрикеев отклонился к стене и из-под бровей поглядел в лоснящуюся сковородку пана ветеринара. Щеки Патрикеева вздулись и налились темно-бурачным соком. Он взял Куциевского за плечо и молча потащил за собой по коридору. У двери в кухню он выпустил плечо пораженного и покорно следовавшего за ним ветеринара.
– Гадюка, – сказал Патрикеев низким шепотом. – Зачем живешь? Землю пакостишь, клоп вонючий! Да ежели ты только словом заикнешься Генриху, так я тебя на части раздеру и собакам побросаю! Да рази ж ты способен, змеюка, понять, как люди любовь чувствуют?! Пес паршивый!
Обомлевший Куциевский выронил эмалированный кувшин. Он загремел, катясь по паркету. Дверь Лелиной комнаты открылась, торопливо выглянул Воздвиженский. Он увидел стоящих у кухни Патрикеева и Куциевского и успокоенно скрылся.
Ветеринар, оправившись от первого испуга, вздыбился и подпрыгнул.
– Цо?! – визгнул он. – Как ты осмелился? Хам!.. Хлоп!..
Патрикеев побледнел еще больше и, пошарив рукой в штанах, вынул короткий, тускло блеснувший сапожный нож.
– Хамов уже семь годов нет. А мой сказ тебе, гадюка ползучая, всерьез. Видал? Так ежели ты только пискнешь про Пекельманшу, вот тебе святой упраздненный хрест, я тебе им кишки поразверстаю. Сука!
Куциевский подхватил кувшин и метнулся от Патрикеева, оглядываясь на бегу, словно за ним гналось диковинное чудовище.
10
Патрикеев сидит у стола, чешет седую подпалину бороды, скучно жует ржаную корочку. Не дает покоя Патрикееву увиденное.
Скованный из голубого металла день мутнеет за окном, словно вода, в которую шалун-мальчишка подливает чернил, размешивая пальцем.
В чернильной мути мерещатся Патрикееву запрокинутые руки и лицо Лели Пекельман, чудится звенящий стеклянными осколками голос. Мешаются мысли во взлохмаченной патрикеевской голове.
Крепко ввинтив в комнатные сумерки ругань, от которой приседают возящиеся на полу Сонька и Котька, Патрикеев встает, надевает ватную куртку с продранными локтями и, наказав Соньке и Котьке ложиться спать через час, уходит.
Тайное беспокойство и тревога тащат его под руки к желтому огню, бьющему от окон пивной. Он вваливается, отряхивая снег с сапог, присаживается за свободный столик, кричит пробегающему официанту:
– Троечку!
Гуляй, слесарь Патрикеев! Пей, человек, почуявший трепетное беспокойство любви. Каждому дано испытать его томительные уколы. Сегодня твой черед, Патрикеев. Пей и думай о поцелуях, обволакивающих ласковым счастьем, стыдливых и отдающихся, каких ты не знал в многотрудной, суровой и грубой, как небеленый деревенский холст, жизни.
После третьей бутылки Патрикеев совеет. Рваная финка сползает ему на налобье, борода мокнет в пивной пене. Он требует четвертую бутылку.
Выйдя из пивной, он бредет, пошатываясь справа налево, изредка цепляя плечом стены домов. Рукав куртки покрывается цветными пятнами известки.
Патрикеев бормочет:
– Елки зеленые… гадюки! Зачем земля терпит такую пакость? Люди счиста слюбились. Она такая ма-ахонькая, бе-елеиькая, травиночка… а Борис Павлович – он парень хоть куды, крепкий. Ей такого нужно. Генрих, он тоже гражданин приятный… ничего не скажешь. Только ску-ушный. Немец. В немце завсегда машинка вместо души. Вместо обходительной душевности канитель сучит. А змею пилсуцкую зарежу… ей-бо, зарежу!..
Патрикеев поднимает голову, уткнувшись в чье-то тело.
На тротуаре женщина в фетровой шапочке и сером пальто.
Она тоненькая, из-под шапочки сыплется пепел волос, всей фигурой она напоминает Патрикееву Лелю Пекельман, и, от неожиданности и удовольствия, Патрикеев растекается весь в широкую блаженную улыбку.
Женщина смеется тоже. В свете ночной улицы на губах ее дрожит алый глянец.
– Надрызгался, дяденька? – спрашивает она хрипловатым говорком.
Патрикеев, не дыша, глядит на алый глянец губ. Пиво бередит его мозг, заверчивает в нем головокружительный ералаш. Он еще боится высказать выплывающую все четче мысль.
– Довести тебя домой, может, дяденька? – опять говорит женщина.
Патрикеев решается.
– Барышня, – произносит он прерывающимся, отчаянным голосом, – барышня… – Дальше голос и сознание изменяют. Патрикеев, задыхаясь, ищет слова и вспоминает ежедневную фразу адмиральши: – Барышня, позвольте вас просить… пожаловать на чашку чаю…
Женщина испытующе взглядывает на Патрикеева и уже совсем по-иному, деловито и коротко, спрашивает:
– Где живешь?
Услыхав адрес, она успокаивается.
– Близко. Когда б далеко, не пошла бы. А то попадаются фрукты – завезет на Охту: что заработаешь, то на извозчике и прокатишь. Ну, идем дяденька.
Она берет Патрикеева под локоть.
В комнате Патрикеева она останавливается, немножко удивленная. Большая пустая зала, нелепый мраморный камин, спящие на нарах дети – вызывают в ней мимолетное сомнение, но разве не все равно, разве не привыкла она в любой час и в любом месте выполнять свою тяжкую и неприятную работу?
Но взволнованному слесарю Патрикееву нужен не бесстрастный труд, не холодное и бесчувственное ремесло: Патрикееву хочется, чтобы раз в жизни его приласкали по-иному, непосредственно и чисто. Чтобы ласки были как источник живой воды.
И, накачивая дрожащими от пива и ожидания небывалого руками прыскающий огнем примус, чтобы угостить сказочную посетительницу чаем, Патрикеев не замечает ничего. Поставив чайник, он предлагает гостье снять верхнее платье.
Без пальто она еще тоньше и похожа на девочку, гладко причесанная, с открытым лбом. Патрикеев усаживает ее на табуретку, сам садится напротив, долго и внимательно разглядывает женщину, не произнося ни звука. От напряжения начинает сопеть.
Женщина усмехается.
– Что у тебя – рот запаянный? Молчишь, как рыба.
Патрикеев вздрагивает. Он не может придумать слов, да и не хочется ему говорить, будто словами всколыхнешь, замутишь зеркальную благостную тишину, овладевшую Патрикеевым. Но он соображает, что женщина права, что нужно же занять гостью разговором. Он кладет локти на стол.
– Вот, к примеру, могу рассказать вам, барышня, чудобный случай из старого режима. Как это еще за Александра Первого было, и приезжает, к слову, этот Александр кровавый, значит, до одного монаха. Так и так. «Скажи, говорит, монах, желательно мне знать, сколько мое семейство процарствует?» А монах ему и отвечает: «Триста, говорит, лет и три года будете пить народную кровь, а потом будет вам конец. И последний царь Михаил будет, как и первый; в Ипатьевском дому начали, в Ипатьевском и кончите». Царь это на дыбки: «Как ты, говорит, монах, смеешь этакое болтать?» А монах ему: «Пшел, дескать, ваше величество, вон, не мешай мне бездельничать». С тем и разъехались. И всё, на поверку, капелька в капельку сошлось.
Женщина откидывается и с недоумением смотрит на Патрикеева. Ей странно, смешно и неловко. Она пришла трудиться; она не может понять, почему этот угрюмый человек, заросший черной бородой с седыми подпалинами, вместо того чтобы потребовать от нее привычной работы, болтает чепуху.
Она встает, подходит и просто садится на колени к Патрикееву, запрокинув ему руки на шею. Говорит с улыбкой:
– Дурной ты какой-то, дяденька.
Патрикеев неловко охватывает ее талию и тянет к себе. Женщина покорно склоняется, и Патрикеев попадает бородой в ее мягкие вялые губы. Он чувствует будто вливаемый в жилы и разрывающий их горячий напор – и задыхается.
Женщина отклоняется, отталкивает руки Патрикеева и хохочет.
Ах, хахаль! Присосался. Ты мне, дяденька, выложь раньше трешницу. Я так, на холостой ход, трепаться не согласна.
Поднявшиеся руки Патрикеева опускаются. Дым алкоголя взвивается, рассеянный холодным вихрем. Он сжимает кулаки:
Рвань!.. Сволочь!.. Я думал, ты по-честному, а ты…
Он швыряет в женщину последнее слово, как грузный шлепок вонючей грязи. Женщина свирепеет.
Заткнись, пьяная харя! Честную тебе надо? Хайло! Даром из-за тебя подол отрепывала?!
Патрикеев сжимает правую кисть, узловатые пальцы его сводятся в тяжелый кулак; веки стягиваются над мутным блеском белков. Женщина испуганно пятится, раскрывая рот, понявшая, что близко, вот сейчас, удар и смерть, готовая закричать… и обрадованно бросается к двери, ручку которой кто-то дергает.








