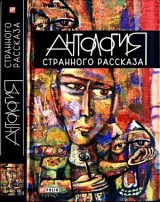
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 39 страниц)
Внук, подняв бровь, на одном ролике поковылял в свою комнату.
Президент долго сидел на кухне, смотрел в окно. Потом пошел в свой кабинет, нашел рюкзак, сунул туда два свитера, теплые носки, пару футболок и черную бейсболку. Влез в джинсы и с особым удовольствием, хотя и не без труда, вытащил из дальнего угла шкафа, из-под горы вещей, пакетов, коробок, похороненную там когда-то косуху. Потом он отправился к зятю, безапелляционно переодел его в походное обмундирование и стал быстро выталкивать из дому.
Из своей комнаты заинтересованно выглянул внук.
– Мы уходим, – сказал президент.
– Надолго? Что маме сказать? А то она уснула.
– Скажи – на неопределенное время. Деньги в сейфе. Живите дружно.
– Ага, – покивал мальчик. – А что же Ольга Яковлевна? Ей кому звонить?
– Пусть Абрамцеву позвонит. От меня. Я ему перезвоню, скажу, что он и.о. Ну пошли, Коц-Готлиб, чего ты встал, как жена Лота.
Папа и дедушка скрылись в лифте, а мальчик сидел на пороге своей комнаты и в задумчивости грыз наконечник шнурка.
Президент поймал машину, они выехали на загородную трассу, и там он машину отпустил, дал водителю десять долларов и переложил оставшуюся пару-тройку сотен из заднего кармана джинсов в потайной кармашек любимой и правильной во всех отношениях косухи.
«Контекст, исчерпывающий противоречия». Дорога. Милый старик Керуак! Дорога!
– Смотри, – сказал он королю Артуру и указал на уходящую вдаль трассу (они стояли строго посередине). – Если идти на восток, то там – будущее, а сзади – ну, пусть будет прошлое. – Потом он развернул зятя на сто восемьдесят градусов. – Но если идти на Запад, то там будет будущее, а сзади будет оставаться прошлое. Понял?
Король Артур смотрел на тестя, и взгляд его постепенно концентрировался.
– Понимаешь? – счастливо говорил президент и даже ковырнул носком потертого «казака» асфальт. – Дорога! Куда повернешь – там и будущее, что за спиной – то и прошлое. Это дорога! Она вообще, если хочешь, вне пространства-времени и даже вне твоего дерьмового прошлого-будущего, у нее своя метафизика. Ну, куда пойдем?
– На Запад, – сказал король Артур. И они пошли. Через полкилометра они хрипло и немного не в унисон запели «Yesterday…»
Это был тот самый миг, когда заходящее солнце последним лучом озаряло родные равнины.
СнобыДети есть вид уродства. Что-то растущее, меняющееся. Постоянно попадаешь в дурацкое положение – говоришь с ним, как со взрослым – не из высокоумных педагогических соображений, а сналету, машинально. Вдруг видишь – а у него еще мозги не выросли. С другой стороны, пожалуй, только глядя на детей, понимаешь кое-что про человека. От остановившихся взрослых вообще тошнит. Дети вместе со взрослыми – наиболее приятное разуму сочетание. В любом варианте: маленькие дети – старенькие взрослые, недавние взрослые и догоняющие их дети…
Еще хороши в этом смысле влюбленные. Там тоже никакой остановленности. Там под бесконечно длящимся единым мигом – ужас подобия. Любовь проходит, когда догадываешься, что у других так же точно. А ты-то думал – только у вас! Отсюда и уникальность, и восторг. Любовь – это восторг. Когда же начинается компаративистика– все, the end. Оказывается, куда бы вы ни ступили, постоянно попадаете в схему. Все описано, воспето, ужас какой-то. Ужас подобия. Ты смотришь на него (на нее) – ой! Что-то мне все это напоминает.
Здесь есть одно утешение – слабое, потому что редко встречающееся. Бывают какие-то страшно глубокие связки, скрепки, пугающие своей неразбавленностью соединения – это не имеет имени. Все возникающие поверх формы отношений неизбежно искажают то, что в глубине. Как рябь на воде. И не будем об этом.
– Ваш ребенок ест бумажки.
– Что?
– Что – «что»? Я говорю: ваш ребенок ест бумажки.
– Пусть ест. Чего вы волнуетесь? Мой ребенок, мои бумажки, притом ненужные.
– А если понос будет?
– Умоляю вас… Ладно, Мальчик, выплюнь бумажку, дядю это раздражает.
Написал? Теперь сложи листок вдвое и спрячь экзерсис в стол. Он никому не нужен, ты же знаешь. У дивана на газете сохнет старый шлепанец, образовав вокруг себя рыхлое мокрое пятно. Мальчик уронил его в ванну. Или Фердинанд уронил – они по очереди таскали его в зубах.
Кто за стеной включил телевизор? Умоляю вас.
Зеленое сукно стола вызывающе плоское и теряется в перспективе комнаты. Старый Фердинанд пришел – вертикально плоский рядом с горизонтально плоским столом. Ты помнишь, как ты его нашел? Ты увидел его, прозрачного, вяло идущего по обочине дороги – мимо промчались два грузовика. «Не может быть! – сказал ты, – беспризорная русская борзая!» Мальчик пошел к нему, говоря «кис-кис-кис, собачка», и будущий Фердинанд, смирив гордыню, сдался Мальчику без сопротивления.
А как вы с Мальчиком фланировали по майской ялтинской набережной? Впрочем, фланировал ты, попивая пиво из бутылки, а Мальчик спал у тебя на загривке, всем являя свою длинноногость и тощую шею. В этот день пришел пароход из Хайфы, а вы с Мальчиком прокладывали себе путь среди русскоговорящих бывших соотечественников, и ты услышал, как пожилая тетечка внятно сказала своему спутнику: «Смотри, наш папа с нашим ребенком». На что спутник буркнул: «Не слишком ли сопливый для папы?»
– Дети! – говорит тетя Нюся, ваша соседка по коммуналке, – пельменей хотите?
Дети, разумеется, пельменей хотят, они пельмени любят и в две глотки съедают пол-кастрюли. Тетя Нюся смотрит на все это и дежурно произносит:
– Мальчику нужна мать.
– Не нужна! – сварливым тоном отвечаешь ты.
Когда Мальчик проявляет безосновательную жесткость и специфическое мужское упрямство, ты смотришь на него поверх очков и говоришь:
– Лучше бы у меня была дочь. Я понял. Воспитывать девочек – дело мужское. А воспитывать мальчиков – дело нечеловеческое. Никто не преуспел. Ты понял?
– Да, – кивает смышленый Мальчик. – Никто не успел.
– Вот именно.
Снобизм есть чувство формы. Или, точнее, реакция на недооформленность, на бесформенность, словом – на размазню. Форма есть первая и последняя претензия идеального к реальному со всеми его благоглупостями. Холодная заинтересованность, сдержанное участие по отношению к жизни и к телам, в ней движущимся, много лучше, нежели эмоциональное без-различие. Где много чувств, там проблемы с сущностью.
– Ваш мальчик плачет.
– Что-о?
Ты вылетаешь на лестницу прямо из ванны, накинув рубаху, но забыв надеть плавки, ну да черт с ним, длинная же рубаха, а он и правда плачет – сидит тощей попой на холодной мраморной ступеньке под разбитым витражом и ревет, с омерзением воротя рожицу от окровавленной коленки. Ты хватаешь его в охапку, коленка пачкает белый китайский шелк рубахи, Мальчик сипит сквозь зубы от прикосновения ткани, – сейчас, – шепчешь ты, целуя его в затылок, – потерпи, сырок.
По мягким прохладным щекам обильно катятся теплые слезы.
«Сырок» – это позавчерашнее, когда сонный Мальчик пришлепал на кухню и сообщил:
– Я спал, как сырок.
Ты радостно заржал, держа на весу дрожащей от смеха рукой черную кофейную чашку, кофе пролился на стол, Мальчик оценил юмористичность ситуации, – день начался хорошо.
Тебе хотелось на регату, и ты рванул, и Мальчика взял. Не потому, что Мальчика деть некуда, – кто угодно из твоих друзей будет рад усыновить его на день-другой, а потому, что без него «сильно горестно» (выражение Мальчика).
Ты на берегу, Мальчик, как всегда, на шее, лето. Человек с яхты глянул через плечо, потом развернулся всем корпусом и спросил:
– Твой?
Ты поднял подбородок и карими продолговатыми глазами глянул в рыжее спесивое лицо римского сенатора. Ты кое-что понимаешь про свои глаза, потому что сказал о них однажды: «Это не Иудея, но это Палестина». Твоя няня знала древнееврейский. Может быть, поэтому такие тонкости?
– Залазьте, – распорядился сенатор, фыркнул что-то себе под нос и поддернул полотняные шорты.
Кстати, на регату ты опоздал. Все уже свершилось, ты перепутал числа. И эта яхта уже прошла свое и пришла четвертой.
– Давайте быстро, – пробормотал сенатор, – завтракать будем.
В каюткомпании был круглый стол с красной клетчатой скатертью и синими салфетками, китайский фонарик над ним и неожиданнная фотография смеющегося молодого Селинджера, шагающего с тележкой по супермаркету.
– Ребенку, – сказал он, – творог, молоко, клубнику, – и в названной последовательности достал все это из холодильника. – Нам – коньяк, маслины, копченую свинину.
Ты положил ногу на ногу, скрестил руки на груди и улыбнулся. Была явная валентность. Было чудное утро на взморье, загорелый человек с умным лицом, мальчик, уплетающий клубнику, и ты сам, задумчиво рассматривающий свои руки с мотком деревянных четок на запястье.
Надо ли уточнять, что вы оказались из одного города?
Через месяц вы перебрались к Вовушке.
Ваш роман с Вовушкой был романом в подлинном, а значит, совершенно не в том смысле, который моментально предположили и простые, и сложные соседи. Ваша интимная близость ограничилась одним эпизодом, когда ты сидел за фортепиано покойной Вовушкиной мамы и наяривал любимого Моцарта, тихонько подвывая от удовольствия и скользя глазами по нотам – наизусть ты почти не играл. Наверное, у тебя получилось что-то особенное, или просто день был такой, но когда ты бросил кисти и прогнул позвоночник, Вовушка подошел сзади, взял твою руку и поцеловал. Ты повернулся на стуле и с изумлением посмотрел в его светлые злые глаза.
– Ну чего уставился? – сказал он. – Такие руки надо целовать.
И ушел на кухню, задрав голову и шаркая шлепанцами.
Вот и все, собственно. А сколько версий было вокруг!
Жизнь – это перманентное одиночество. Даже когда вокруг шумно толпится твое окружение. Все отмирает, отваливается в тот момент, когда появляется призрак настоящего. Настоящее никогда не является само, оно высылает призраков, фантомов. Если оно явится само и навсегда – ты умрешь, это нежизнеспособная ситуация. Если оно явится, а потом покинет тебя, ты тем более умрешь. Поэтому все наши восторги и слезы по поводу «настоящего» – это восторги и слезы по поводу фантомов. Главное – уметь с жесткой регулярностью просыпаться примерно в одно и то же время, надевать свои легкие доспехи и ясными глазами смотреть в лицо каждому встречному.
У вас с Мальчиком одинаково ясные глаза. Только у Мальчика круглые и серые, а у тебя длинные и коричневые. В остальном Мальчик – твоя копия. Во смеху-то будет, когда ему исполнится двадцать, а тебе, соответственно – тридцать восемь. Пока тебе двадцать три, а ему пять. И вы прекрасно уживетесь. Мальчик умеет очаровываться и привязываться. И это у него от тебя. Вовушка очаровал его в два приема, и Мальчик регулярно огорчался до слез, когда тот уезжал в командировку и оставлял вас на хозяйстве в своей гулкой четырехкомнатной квартире.
Была жара, а тебе хотелось дождя. Ты произнес заклинание – и дождь пошел. Он начался в полдень и лил, не переставая, три дня и три ночи. Мир вымок и стал расползаться. Ты забыл заклинание, прекращающее дождь. Тогда Мальчик, который устал сидеть у окна и смотреть на мир в косую линейку, сказал с сарказмом: «Некоторых (конечно, имелся в виду ты) надо дезинфицировать от общества». А потом, глядя в небо, попросил: «Перестань, пожалуйста». И дождь кончился. До сих пор ты так и не понял: вот это его «перестань, пожалуйста» имело конкретного адресата или было обращено к безличной стихии, которую ты вызвал, инициировал, сотворил, а справиться с ней не смог?
Надо ли говорить, сколько было попыток увидеть все сразу, увидеть все как-оно-есть и стать правильной необходимой частью этой картины?
«И будешь ты картиной мира…» Потом ты впал в крайний сенсуализм и уверился, что ничего не существует вне и помимо твоих ощущений. Потом, частично благодаря Вовушке, ты понял, что есть лишь то, что мы сами сотворили, сделали, все остальное– белый шум. Вовушка примерно так тебе и сказал, а поскольку не был чужд прямых сентенций, сделал это жестко и по поводу. Повод, правда, забылся, а ощущение внезапного понимания осталось и выжило в череде неуверенных и смазанных будней, когда вы с Вовушкой перестали понимать и видеть друг друга. И поэтому то, что ты понял об акте творения, ты впоследствии мог обсуждать только с Мальчиком и Фердинандом.
– Ты любишь прошлое, – заметил однажды Вовушка.
– Все любят прошлое, – ответил ты. – Все, кроме социалистов-утопистов.
Таки да. В будущем темно. В нем мы трудноразличимы. В нем ты – старый, Мальчик – взрослый, мир – изменившийся. Все наши надежды на длящееся детство – суть иллюзии. Горестно.
Нужно прямо и открыто признаться в нелюбви к тебе. Нельзя любить высыхающий после дождя подоконник с двумя сосновыми иголками и заблудившимся между ними кофейным зерном. Нельзя любить налетевший внезапно ветер – ты обрадуешься его внезапности, но тут же и забудешь о нем. И собственные легкие нельзя любить. Это уж вообще непредставимо. Есть они – и есть. И ладно. Но однажды, очнувшись от необязательных размышлений и посмотрев прямо и трезво на мир-как-он-есть, хочется сказать большое искреннее спасибо за одну сущую безделицу Тому, у кого много имен, и ни одно из них не хватает духу произнести вслух.
Пастораль– На кого ты похож? – сказал он мне и закашлялся. Я посмотрел в его всегда влажные серые глаза. – Пойди, глянь на себя в зеркало.
Я пошел в прихожую и уставился на свое отражение. У меня в зеркале были длинные волосы (с весны не стригся, а уже сентябрь), ноги в клеточку от сиденья коленками на плетеном кресле, а у пояса болтался короткий римский меч. Дед показал, как клеить его из картона, и я склеил сам. Я вернулся и ожидающе произнес:
– Посмотрел…
– Гай Юлий, – сказал дед. – Маленький Гай Юлий. Подними подбородок.
Я поднял.
– И не сутулься. Не втягивай голову в плечи… Особенно глаза.
– Что – глаза?
Я лукавил. Я уже тогда знал, что у меня прозрачные зеленые глаза и что они всегда взрослее меня.
Я хотел написать тебе сказку, дед, но ничего не получалось, все начала были дурацкими и сели не туда. Я вырос из красной майки с надписью «леопард», и короткий римский меч стал мне слишком короток, и кисти рук болтались – длинные, костлявые, не приставленные к делу. Я вообще-то ничего не мог, кроме болтовни, и сам вид линованного листа вызывал у меня глубокую тайную жуть. Но сказку я очень хотел написать – и что имя ты мне придумал не какое-нибудь, а Гай Юлий, и что за треснувшим зеркалом в прихожей, между рамой и стеклом, я различил кусок бурого холста, вытащил его – на нем был вечерний лиственный лес, и что я уже был ничей, потому что ты умер.
Я расстелил картину на полу и долго смотрел на лес – там садилось солнце, там холодало, и на переднем плане в правом углу переливалась тонкая ассиметричная паутина. Потом я перевернул холст и прочел написанное чернильным карандашом: «Мальчик, надо идти, иначе заснешь, а это незачем. Будь здоров. Дед».
Да-да, так мы и будем звать теперь его: Гай Юлий, а как же еще? Дед звал его еще Мальчиком, но это не для нас, да уже и не для него, а настоящее его имя приносит с собой ненужные подробности и в конечном итоге не объяснит ничего – таких имен, как у него, – много, поэтому зачем оно вам? Гай Юлий – как раз очень подходит, оно чужое, из глубины, и ведь что существенно: благодаря этому имени и еще кое-чему вы никогда не сможете понять привычное: откуда он пришел, куда стремится, и кто повинен в его беде и печали. Заранее прошу извинить за это неудобство.
Спереди был лес. Он оглянулся. И сзади был лес, лес был вокруг. Он посмотрел вверх. Длинные тонкие стволы тянулись в розовую вечернюю перспективу. Жужжало что-то в траве и на упругом стебле, сгибая его, сидел толстый кузнечик. Гай Юлий качнул стебель, но кузнечик не прыгнул, а стал лениво сползать вниз.
– Объелся, гад! – удивленно сказал Гай Юлий. – А ну скачи! – и качнул стебель сильнее. Кузнечик лениво и неумело прыгнул в сторону и пропал в траве.
– Странный какой-то, – пробормотал Гай Юлий, разглядывая место, куда скрылся кузнечик, и вдруг замер. «Холод сковал все его члены», – заменили бы здесь просвещенные предки. Холод не холод, но что-то сковало. Он выпрямился. Вокруг был самый настоящий лес, и ему не было ни конца ни края. Это откуда-то Гай Юлий точно знал.
«Мальчик, надо идти», – было написано на холсте. «Почему я должен?» – отчаянно подумал он, вытягивая шею и пытаясь разглядеть даль, но там были только деревья и кусты, все сгущалось и переплеталось темно-зелеными и черными пятнами будущих лесных тупиков. «Я никогда ничего не обещал. Жил себе. Может, что-то было бы раньше. Там – был бы. А здесь вдали то же самое, что и вблизи. А вблизи…» Он посмотрел под ноги. Под ногами чернела толстая доска с дырками от гвоздей. Перевернул. На обороте шевелились гнилые листья. Из-под них скользнул вниз и ушел в траву блестящий уж, и листья осыпались один за другим, открыв дичайшую надпись, сделанную перочинным ножиком по неровному спилу:
Лес № 3
Расписание дождей:
с 13.00 до 13.40 – кроме выходных
с 16.45 до 17.20 – ежедневно, но нерегулярно
Гай Юлий вздохнул, поискал глазами пенек, не нашел и сел прямо в траву. Из-за кустов шумно вышла большая собака и легла напротив.
– О! – удивился Гай Юлий. – Собака какая! Собака-барабака. Ты живешь здесь?
И вздрогнул с головы до пят, потому что услышал ответ:
– Прихожу.
Собака лежала, закрыв пасть, и неподвижно смотрела на него яркими коричневыми глазами.
Но ответ был не просто неожиданным, он был каким-то странным и требовал следующего вопроса. Гай Юлий, пристально глядя в круглые невозмутимые глаза, спросил:
– Откуда?
– Оттуда, из дома, – сказала собака. Голос был требовательным и женским.
«Мне не пять лет, – устало подумал Гай Юлий. – И я знаю, что говорящих собак не бывает».
– Ты не собака, – сказал он и почувствовал горячую, разливающуюся в груди ненависть к себе. Она – не собака. Но и он – не человек, судя по всему.
– Увы, – сказала собака. – Я собака, ты же видишь. А что тебя беспокоит?
– Я надеялся, что… Мне нужен человек.
– Да? – в голосе собаки прозвучала улыбка.
– Мне нужен человек, – упрямо повторил Гай Юлий. – Какой-нибудь.
– Сейчас или навсегда? – по-деловому осведомилась она.
Горячий кисель в груди стал сжиматься в тугой пульсирующий комок. Собака посмотрела в сторону и равнодушно зевнула.
– Навсегда, – сказал Гай Юлий. И зачем-то прибавил: – Пожалуйста.
Собака молчала, смотрела, иногда дергала головой, отгоняя комара.
– Я один, – начал он. – Но не в этом дело…
– Хорошо, – перебила собака. – Но ты придешь и будешь принимать все как есть. А иначе ничего не выйдет.
– Ну да, – согласился он. – Конечно.
Собака встала, оглянулась, вильнула хвостом и пошла вперед. Он пошел следом, глядя на свои ноги в плетеных кожаных сандалиях с перетертыми добела ремешками. Ноги пружинили в сырой траве. Они шли и шли, и ему понравилось идти – он не знал, куда они идут, придут ли, но идти было хорошо.
– Смотри, – сказала собака.
Он поднял голову и увидел дом. Обыкновенный, бревенчатый, старый, он плыл над белой вечерней травой и дышал дверным проемом, и не чем-нибудь дышал, а запахом кофе с булочками, из трубы шел пар, окно светилось желтым, и на крыльце стояла трехлитровая банка на треть с молоком. У Гая Юлия защипало в носу, потому что только дурак не понял бы, что все это бессовестный обман Леса № 3, – не то чтобы сейчас все исчезнет как не бывало или рассыпается в прах от прикосновения, но совершенно точно, что этот дом не имеет к нему никакого отношения, потому что они – просто в разных мирах.
Он поднялся на крыльцо. Крыльцо скрипнуло. Звякнуло блюдце на банке.
– Прости, пожалуйста, – сказала собака, – но первой войду я.
Она мягко обогнула его и вошла в сени. В сенях пахло ромашкой и чистотелом. Собака остановилась.
– Послушай, – сказала она. – Там внутри – девочка, Сонечка. Ей тринадцать лет. Ты ее как-нибудь… не испугай. Она и так всего боится. И нечего не спрашивай при ней у меня. Я для нее просто собака, и меня зовут Марта.
Он шагнул вслед за собакой Мартой в тускло освещенную комнату с бледной старой мебелью, даже пианино стояло в углу – желтое и облезлое, а на нем лежала маленькая стопка книг. Маленькая беленькая стопка каких-нибудь глупых книг тринадцатилетней дурочки Сонечки, которая сидит тут в глуши, и не просто в глуши, а в абсолютной, запредельной глуши – почти на том свете.
Марта прошла к печке и растянулась на полу. И только тогда он увидел Сонечку, она сидела за печкой. Сначала ее коленки и руки, и белую чашку в них, а потом она встала и, внимательно глядя на Гая Юлия, подошла к круглому обеденному столу и вежливо приподняла подбородок– так демонстрируют готовность выслушать ответ, когда вопрос уже задан.
– И ничего она не боится! – сказал Гай Юлий. Марта тихо зарычала, и он с опаской глянул в сторону печки.
– Простите меня, – сказал он девочке. – Я заблудился в лесу и только благодаря вашей собаке пришел сюда. Я подумал, что… может как-то… все равно кругом только лес, а ваш дом…
– Да вы садитесь, – улыбнулась Сонечка. – Вы будете кофе с булочками? И можно еще пожарить картошки.
– Да… – прошептал Гай Юлий. – Спасибо, да. Хочу. Картошки. Я сам почищу!
– А она чищеная. – Сонечка принесла на стол белую кастрюлю. – Соломкой резать можете? Нож, доска – вот здесь на полке. – Тут она сделала над собой явное усилие и произнесла взрослое: – если вас это не затруднит. А я Марту покормлю.
Гай Юлий ошалело резал картошку соломкой – не глядя, потому что смотрел, как Сонечка вынимает из печки глиняную миску, что-то размешивает в ней, ставит перед Мартой, гладит Марту по голове, вытирает пол у печки влажной тряпкой.
«Что это надето на ней?» – подумал Гай Юлий, заметив наконец не то чтобы странность, но явную нездешность ее одежды. Вежливая темноглазая Сонечка с короткой косичкой, схваченной на конце широкой черной заколкой, была облачена в тускло отливающую металлическую чешую почти до колен, из-под нее торчало зеленое ситцевое платье с кружевной оборкой, а туфельки у нее были белые, лаковые, новогодние какие-то. И все это вместе оставляло ощущение неосознанного и неопасного безумия, а может, беды.
– А вы что не режете? – спросила Сонечка. – Вы… А! Это обыкновенная кольчужная рубашка. Настоящая.
Слова «обыкновенная» и «настоящая» были сказаны с невинным школьным хвастовством.
– Зачем? – спросил Гай Юлий, не очень рассчитывая на вразумительный ответ.
Сонечка вздохнула, убрала миску в угол, поцеловала Марту в голову.
– А понимаете, – задумчиво произнесла она, – в самом лесу неопасно, но иногда стреляют с неба.
Она расправила то, что сначала показалось ему толстым воротником вокруг ее шеи, и надела на голову шлем из металлических колец. Небрежно, как капюшон. Он смотрел на нее во все глаза. Перед ним стояла девочка Сонечка, тринадцати лет. Из-под шлема торчала длинная каштановая челка. Девочка сделала книксен и произнесла:
– Меня зовут Софья. А вас?
Он встал, незаметно вытер мокрую ладонь о шорты и поцеловал протянутую теплую руку.
Потом они пили молоко, пока картошка жарилась, шипела и стреляла маслом. Он пил медленно, с удовольствием, и молочная капля дрожала у него на запястье. Пил, опустив глаза, нахмурившись, – соображал что-то. Потом снял очки, потер глаза ладонью и глянул в мою сторону. Я отвернулась. Я вообще никогда не могла спокойно смотреть в эти глаза – особенно когда он снимал очки, а теперь и подавно. Такие яркие и умные глаза. Он всегда вел себя легкомысленно, но глаза выдавали. Глаза и еще его комната с книгами от пола до потолка, с рабочим столом, который имел не соответствующий возрасту хозяина честный трудовой вид, а когда открывалось окно, листы разлетались и их то и дело приходилось прижимать массивным «Лингвистическим словарем». Особенно мне нравилась настольная лампа, привинченная к столу, – ей можно было свернуть шею и она терпеливо сносила эти издевательства. Мне всегда нравились окружающие его предметы. Но самым замечательным в его доме было гаргантюэлевских размеров зеркало в прихожей – в резной деревянной раме, тусклое и глубокое. Он мог войти в него целиком, не пригнувшись, и я все время боялась, что он когда-нибудь так и сделает.
В тот день я уходила, а он стоял боком к зеркалу, засунув руки глубоко в карманы куртки, и говорил:
– Что может быть сказано, должно быть сказано, об остальном следует молчать. Шестой тезис Витгенштейна.
И я сделала вид, что не понимаю, о чем речь.
Итак, я отвернулась и лизнула известку. Кальция, что ли, не хватает? А он стал задавать вопросы Соньке. От каждого вопроса шерсть у меня вставала дыбом.
– Соня, – сказал он, – вы с Мартой давно здесь живете?
– Всегда, – подумала я и сказала она.
– А где твои родители?
Я отключилась. Лучше, если она скажет сама. Так будет точнее. Зря, конечно. Она заплакала, несчастное дитя, и стала повторять:
– Не знаю, не помню. Я их помню, а где они и почему я здесь – не помню, не знаю.
Я вышла на крыльцо. На светлом ночном небе черные стрелы чертили простейшие геометрические фигуры. Квадрат, треугольник, круг. Квадрат, треугольник, круг. О, вот конус появился. Но тут же дрогнул и погас, незавершенный. От первого квадрата отделилась стрела и направленно пошла вниз. Я прижалась к стене. Стрела мягко вошла в землю, и земля стала набухать водой. Потом полез зеленый горошек, оплетая перила крыльца, зацветая, отцветая, выбрасывая стручки, которые тут же созревали и лопались. Я оборвала стебли зубами и все затоптала. Очень надо. Огородники чертовы. Хотя грех жаловаться, мне-то вообще со всем этим очень повезло, нашла же я эту дыру между временем и временем (Гай Юлий, так можно сказать, – «между временем и временем»?), обустроила ее, и все стало так, как я хотела, а стрелы с неба можно и потерпеть. Я всегда успеваю увернуться, а Соньке, по правде говоря, вообще ничего не грозит, хотя она об этом и не подозревает. Самое трудное было – вытащить его сюда, провести по этой дороге. Большая все-таки удача. Но не добыча. Он никогда не будет ничьей добычей, а то, что он пошел по этой дороге – так это потому только, что увидел в холсте и надписи знак, а не приказ.
«Ну, ладно, – сказала мне третья, не я, Марта, и не Сонька, а та невидимая третья, которая нас объединяет, – тогда зачем все это, зачем я затеяла этот зоологический маскарад – для того, чтобы самой умной оказалась какая-то собака?» «Какая-то! – возмутилась я. – Ничего себе, заявочки! Не какая-то, а единственная в мире собака, а вы все только люди и все – как Сонька – инфантильные, маленькие, ничего не соображающие. А я – собака, у меня нюх, и я чувствую кое-что из того, что вам и не снилось. Когда-то давно Гай Юлий сказал мне, что не знает, что случится завтра, а тем более через год. Теперь будет знать. Он будет читать книжки и разговаривать со мной. Не с Сонькой же ему разговаривать. А больше здесь никого нет».
Гай Юлий стоял у плиты и сосредоточенно перемешивал картошку.
– Соль надо? – спросила Сонечка из-за спины.
– Солил, – сказал Гай Юлий и зажмурился. Перед глазами поплыли белые круги.
– А перец? – спросила Сонечка.
– Перец надо, – он оглянулся, посмотрел не нее, протягивающую перечницу, и сказал: – Фиг с ней с картошкой. Консервы какие-нибудь есть? Есть? Складывай в сумку. Хлеб есть? Бутылка для молока есть? Все тащи сюда.
Они вышли на крыльцо. Марта лежала у порога и смотрела на них снизу вверх.
– Пошли назад, – сказал Гай Юлий.
Марта поднялась, и он услышал:
– Ты не знаешь дороги.
– Я – знаю, – произнес он. – И эту дорогу, и все остальные.
– Ты погибнешь, – сказала Марта.
– Да никогда в жизни, – улыбнулся Гай Юлий и поправил ремень сумки на плече.
– Ночь, – сказала Марта. – Подумай головой, ночь же на дворе, что за упрямство.
– Ты пойдешь со мной? – спросила Сонечка и положила руку Марте на голову. Собака дернула головой и отвернулась.
Гай Юлий и Сонечка пошли к лесу. На небе зацвело коническое сечение, и тут же он почувствовал толчок в спину. Это Сонечка, тринадцатилетняя девочка, свалила его в какой-то колючий куст и сама упала рядом, закрыв его голову жестким кольчужным рукавом.
– Все? – спросил он, спустя минуту.
– Все, – сказала Сонечка. Они одновременно посмотрели в сторону дома. На том месте, где стояла и смотрела им вслед Марта, блестела под луной вода, и из нее выбивался и полз по перилам крыльца зеленый горошек.







