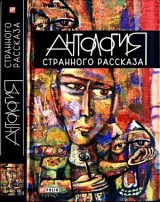
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)
– А…
– Правда! – хохочет Шкиля. – Спишь с чернокосой Люсией и счастлив, потому что для тебя она первая женщина, вроде как великая блудница Тиамат!
Ветки снова трещат, потому что Шкиля в полном восторге валится на них навзничь.
– Йа-а! – вопит Лютр. – Все новое! Каждый раз заново! Первый плевок, первый выстрел, первый глоток воды, первый проход по Реке! Первое пиво, первая драка и первая женщина! Завидно! Даже мне завидно, правда!
Он, в избытке чувств, наскакивает с дружеской трепкой на Пузо. Тот пыхтит, прыгает из круга света в темноту, обегает дерево и оттуда, из-за ствола, шлепает Корноухого по спине так звонко, что эхо катится от костра в чащу.
«Ну ведь правда!»– думает огорошенный Белесый. Сидя в сторонке на границе тьмы и скачущего огневого пятна, он потрясенно вспоминает… Точно. – Люсия ведь вправду Тиамат. Может быть, не вся Тиамат, может, еще две-три Тиамат есть в других городах… И за океаном тоже. Может, сестрица разделилась так, что в каждом большом городе по Реке есть своя Тиамат, легконогая и большегрудая, с толстыми курчавыми косами и глазами, от которых мужики шалеют, дети спешат вырасти, а сановные старики хотят вернуть себе ненасытную юность со всеми ее бедами… Может быть… Но наша Люсия – Тиамат…
Капитан Део снова вспомнил череду жрецов и жриц, храм, стонущий от пронзительных выкриков, черноту ночи и множество огней на Реке, голоногих запыленных гонцов, молчаливую стражу, тощих разрисованных рабынь, в которых Тиамат приходилось вселяться каждые десять дней по очереди, жесткие вышитые покрывала, пахнущие потом, смолой и красным перцем… И еще – красного вплоть до шеи сьера Даноро, несущего через площадь корзинку за обычной, если вдуматься, городской шлюхой… Пастухов-горцев, раз в полгода чинной задумчивой цепочкой выходящих на городскую площадь, звякая кошельками; вспомнил Паулу, хозяйку «Бархата», когда она по субботам, смущенная и разряженная, шмыгает в Люсиину дверь «посекретничать»; вспомнил падре Микаэля; вспомнил Рамо, старого толстозадого сержанта, которого жена подстерегает прямо у дома Люсии и там же лупит; вспомнил плутоватого Альварадо, спустившего с ней половину отцовской плантации; вспомнил Герберта, молодого сьера из-за Океана, застрявшего в городе ради Люсии, пока его тут не зарезали; вспомнил еще многих – моряков, солдат, ткачей, бандитов, носильщиков, торгашей, брадеков… Бедных мужчин – нищих, когда у них не было Люсии, и счастливых, когда была. Вспомнил Жанито, красавца-мулата… Чем-то он ей не приглянулся или обидел. Теперь красавчик копит по два месяца на каждую ночь с Люсией, хотя другие бабы дают ему просто так, бесплатно…
– Вправду Тиамат, – думает Белесый. – Без ошибки. Значит, она осталась так… Тоже неплохо… Интересно, как она помнит прошлое, коза блудливая, самая любимая из моих богинь?! А дерут ее чаще и лучше, чем тогда, это точно.
Юрий Бобрыкин
/Луганск/
Садовый столик/Эго-перформанс/
1.
После ароматного ливня, коему предшествовала липкая разжиревшая духота июньского дня (кстати говоря, дня солнечного затмения, сэр, так что этот день многое потом определил в судьбе Дяди Лазаря, сэрррр!), после мощнейших молниевых нокаутов, после урагана, после мусорных потоков с трупиками мелких грызунов и поразительно огромных жуков с рогами, после того, как в молодом соснячке зелено вспыхнули светляки, а у горизонта вдруг ожила дохлая Луна – красно-жёлтая, цвета лица пропойцы (хотя, возможно, в ином случае, при ином аллюзивно-ассоциативном раскладе, мы описали бы Луну несколько иначе, в духе Пути Чая, например, сеньоррррр!!!), после того, как была выпита бутыль чудесного Са-Кэ и опустошен ведёрный самовар густейшего чаю с можжевеловыми веточками (ох-хо-хо), и был уплетён мёд из пузатого глиняного горшка; после того, как были выкурены подряд три трубки самосада (мама!) и вдобавок– бразильская сигара (вау!) вместе с Кофе (0,8л – большой бронзовый кофейник 1888 года, сударррььь!); после того, как труп Луны был окончательно реанимирован током пряно-солёного ветра из долины, и брачные вопли изнурённых жарой жаб наполнили Пустой Эфир, рисуя в звуковом диапазоне Пространства замысловатую и део граф и ческу ю заумь– как бы расписывая матово поблёскивающие бока тёмного сосуда Ночи; ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТАГО, с трудом зажёгши старую лампу-керосинку, отвинченную чуть ли не с первого паровоза эпохи Н.В. Гоголя, выйдя в продрогший сад, облегчённо вздохув и удовлетворённо позёвывая в предвкушении ЧАСА ЛЮБОВАНИЯ, Дядя Лазарь СЕЛ.
2.
Дядя Лазарь СЕЛ.
Он медленно, как тополиную пушинку, как тончайший фарфор, как хрупкий хрусталь, опустил, осторожно расслабляя и напрягая нужные группы мышц в необходимой, отработанной десятилетиями упорного труда последовательности, известной только ему, ОПРЕДЕЛЁННУЮ ЧАСТЬ нежнейшего, чистого-чистого Тела на разостланную любовно (и, заметьте, определённым образом-с, Ваше Превосходительство!) шёлковую салфеточку с вышитым разноцветными нитками собственноручно Дядей Лазарем муравьедом.
О, миг прикосновения натруженных чресел к прохладному шёлку! – будто токи высокого напряжения бурей пронеслись от пяток до макушки (это был настоящий, подлинный экстаз, истинный праздник жемчужно-лотосового, золотисто-фарфорового Дядилазаревого Тела, пронзивший всё его существо, не сомневайтесь, Сиятельнейший Князь!), и в наивысшей, неисчислимой, вневременной и внепространственной точке просветлённости и чистоты, когда Душа тождественна распустившейся в полночь лилии, когда стёрты названия и имена, когда история Мира – лишь краткий вздох умирающей от любви непорочной девушки, подглядывающей (скандал!) за купающимся в ночном серебре юношей (о античные формы, sir…), когда блещущая расплавленным лунным золотом (может, оловом?) рыба ласково бьёт хвостом по незамутнённой, тонкой чешуйчатой плёночке мотылька-сознания, забывшего имя своё на веки вечныя, когда мысль о себе рассыпается в микроскопическую пыль и адсорбируется терпким туманом, настоянным на тысяче трав из оврагов тёмных, где и дна не видать… ДЯДЯ ЛАЗАРЬ УВИДЕЛ.
3.
…Дубовый, отполированный десятилетиями всенощных чаепитий, много познавший и многое забывший, возлюбивший и претерпевший много…
…Где вода в толстой глиняной кружке, которую выпил муравьед?
…И где пустота этой кружки с водой… и что за звук исторгает стареющая глухонемая древесина с прочерченными на блестящей поверхности прожилками-идеомами – чересполосицей зим и лет – и что за птицы поили своими звонкими вибрациями Тело Твое, о Дерево? И что за рыбы поверяли Тебе сокровенные сны, где– только переливы золотого, бирюзового; тёрлись рыбы чешуями о Тело Твоё, пестовали плавниками, доверчиво, как няньке, оставляли Тебе на воспитание детей своих, метали семя своё, увешивая, как бесценными бриллиантами, Тело Твоё светоносными икринками с ма-а-а-хоньким, но уже бьющимся сердечком; отдыхало Тело Твоё на илистом дне безымянной реки, в королевской мантии, с многочисленной свитой и прислугой – рачки, инфузории… О, Дерево! Безмерна ценность Тела Твоего, ибо удостоено Оно шелковистых ласк Первой и Единственной Женщины-Пчелы, источающей благовония рассветных лугов. Но берегись, Король! Как у всякой женщины, у Неё есть скрытое (смертоносное!) оружие – почти невидимое ядовитое жало – для тех, кто не любит Её.
Она – Космос.
Тысячи Солнц и тысячи Лун – в Её фасетах, и кто знает, ЧТО В ЧЁМ ОТРАЖЕНО? Наш мир – не одно ли из Её могучих фасетных излучений, не проекция ли?
Владычица!
Королева!
Мы – дети Твои, мы порождения Твои; даже ты, прочный, устойчивый, отполированный, весь из себя распрекрасный, хоть и королевских кровей, пушка на августейшей лапке Её не стоишь! Так что усмири гордыню и покорно неси свой крест в форме тяжеленного медного самовара, покрытого местами сульфидной голубизной (тоже, между прочим, из благородных – и клеймо мастера на донышке, таких, знаете ли, самоваров теперь – днём с огнём, Ваше Величество!). И опять же – свита, прислуга, правда, не такая многочисленная, как у тебя, Государь, и рангом пониже, но от этого ещё более самодовольная – спесивый Фарфоровый Сервиз (от пра-пра-бабушки, незаконной жены пра-пра-дедушки – о китайские корни, эх…), надменные ложечки – не коснись! – тоже от пра-пра, но уже от другой, законной.
Виват, Император! Твоя мощь – в смирении, радость и печаль – в едином пра-пра-семени, давшем тебе жизнь и возвестившем о Твоём божественном назначении и бытии, о маленький, низенький, колченогенький, кривенький, качаемый ветром, рассохшийся, мерзкий – в липких коричневых пятнах от раздавленных мух, Чистейший, Благороднейший, Почитаемый, Возлюбленный преданными Тебе придворными, СТАРЫЙ САДОВЫЙ СТОЛИК в глубине продрогшего сада, укрытый ровным слоем влажных листьев вперемешку с осколками Луны…
ДВА ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПОПОЛУНОЧИ… Пора бы и самоотождествиться…
Дядя Лазарь полез на сеновал и, обмяуканный старым, свихнувшимся котом, крепко уснул, чтобы, проснувшись, покосив сено и испив 2,5 л парного молока, идти купаться на речку.
The end
Олег Завязкин
/Донецк/
Хичкок– Покажите удостоверения!.. Маша, они показывали удостоверения?! Как вы сюда вошли?!
– Маша ушла в аптеку.
– Ночью?! В два часа?!
– В ночную аптеку… Вставать не надо – можете лежать, только руки из-под одеяла…
– Кто… что надо, а?!
– Что вы делали вчера около двадцати трех?
– Точно помню: без четверти я сидел в туалете. Курил и читал Гоголя.
– Вы книгу с собой туда принесли?
– Она у меня в туалете лежит, на полочке…
– Вы вырывали страницы?
– Зачем?
– Ну вы же в туалете читали?
– A-а, нет… Я просто читал.
– Ничего необычного не было?
– Ничего… А где все-таки Маша, а?
– Маша укатила к маме. В Белую Церковь.
– На такси?
– Вам что-то показалось необычным?
– Скажите, где Маша?
– Говорю же: Маша уехала в супермаркет.
– Покажите удостоверения! Покажите! Я позвоню сейчас…
– Так было что-то необычное?
– Да, было… Подъехала «скорая»…
– Почему вы знаете, что «скорая»? Вы ведь… Гоголя читали?
– Был шум мотора, но не легковая. И мотор шумел так, как шумят наши моторы. А «скорая» ездит как раз на «газелях». Да, и еще характерный звук: хлопнули сразу две двери – врач вышел из кабины, фельдшер – из салона.
– И потом?
– Потом я закончил и пошел спать…
– К окну подходили?
– Нет… Где все-таки Маша?
– Маша ушла к подруге… Сосед, между прочим, видел, как вы подходили к окну.
– Ну и что?
– Вы не захотели признаться, что подходили к окну.
– Да, я подходил… Но «скорой» уже не было… Я в чем-то виноват? И, пожалуйста, скажите, где моя жена?
– Покажи ему пистолет.
– Пистолет не мой!
– Это чтобы вы перестали задавать вопросы. Вопросы здесь… Вы стояли у окна не менее пяти минут. За это время сосед выкурил сигарету и поговорил по телефону.
– Так у соседа и спросите!
– Что?
– Про необычное.
– Он уже всё рассказал, а вы вот молчите.
– У соседнего подъезда стояли двое. Очень странные. Один совсем лысый, в кожанке, невысокий. Он притопывал, дергался и курил необычно – дым шел сплошной струей, он, вроде, сигарету даже изо рта не выпускал. А второй держался в тени, его я плохо разглядел. Только помню, что у него было на лице что-то темное, большое родимое пятно, что ли… И еще он пошатывался… Лысый шнырял глазами по сторонам и, похоже, меня заметил – уставился в мое окно. Я испугался…
– Почему испугались?
– Они были непонятные. Нездешние. Особенно тот, у которого родимое пятно.
– Это было не родимое пятно, а кровь…
– Стоп! Снято!.. Перерыв пятнадцать минут!.. Ментам грим подправьте!.. А это что?! Кто-нибудь, выгоните птицу из павильона! Откуда она здесь?!
– Это голубь. Они на свалке живут.
– Охрана!.. Охрана-а-а!.. Застрелите! Эту! Птицу!
– Сама, может, вылетит?
– Стреляйте, я сказал!..
– Кто здесь актер Лузгин?
– А этих кто сюда пустил?! Охрана-а-а!
– Да вот же он, на кровати сидит! Тот, который в «Семерике» играл?
– Гражданин Лузгин, мы хотим задать вам несколько вопросов.
– Паша, на кой хрен эти импровизации?! Этого в распечатке нету! Что мне отвечать?!
– Охра-а-а-на, ёб твою мать!
– Не надо орать: вот наши удостоверения.
– И ордер на арест.
– Чей – арест?!
– Гражданина Лузгина.
– Товарищи дорогие, так у нас съемки! Аренда! Сериал! Павильон!.. Ты понимаешь это своими тупыми ментовскими мозгами, козел?! Охрана!
– Гражданин Лузгин, вы обвиняетесь в совращении несовершеннолетних обоего пола, имевшем место быть вчера в ночном клубе «Пижон»!
– Что мне отвечать, Паша?!
– Ты совсем от водки свихнулся! Это настоящие менты! В полосочку!
– Ребята, здесь охраняемая площадка! Освободите!
– Товарищи, давайте разберемся…
– Я не зна-а-а-ал!!!
– Мужики, нам отбой! Павиан позвонил – в райотдел возвращаться!
– Заяву, что ли, забрали?
– Да поехали уже, хрен им в рот, клоунам…
– А вы не очень-то! Не очень, орлы! Я с Михалковым, знаешь! Ого-го!.. Что личики разинули?! Поехали, еще дубль!
– Лузгин, дай адрес клуба!
– Отвальная, восемь…
– А я думал, он пидар.
– Сказано ж: «Обоего пола».
– Добро пожаловать в реалити-шоу…
– Осветитель! Где осветитель?! Лисицына, быстро спрятала мобильный телефон! Совсем спрятала!.. И поехали!
– Маша! Машенька! Ты вернулась! Откуда здесь милиция?!
– Ты что вчера в «Пижоне» делал, мерзавец?! Ты что там делал?! Тебя закроют, слышишь, срань?! Не сегодня, так завтра закроют!
– Стоп! Лисицына, что ты порешь?! Обалдела?! Перерыв пятнадцать минут!.. Лисицына, хватит реветь!.. Гримерша! Где гримерша?! Подмажь эту реву-корову!
– Там менты вернулись… Автограф у Лисицыной взять хотят…
– Опять птица… Даже нагадила…
– Снимаем птицу! Крупно!.. Поехали!
АвтобусАвтобус полупустой. Маршрут длинный: площадь Восстания – бульвар Двадцати Двух.
– Постель возьмите.
– Спасибо, я спать не хочу.
– Долго ехать. Взяли бы…
Качнулся автобус, зевнул дверью, впустил ночь.
Уселась напротив моя первая учительница, оправила юбку-татьянку, колени вместе; гладкие, голые, самих себя стыдящиеся ноги.
– Ты был противный, толстый и задавака. Поэтому тебя лупили.
– Почему было не сказать это тогда? Я-то воображал себя милым, стройным и скромным… Позвольте, разве вы не умерли от рака в позапрошлом году?
Обиделась. Пересела, уставилась в темное окно.
Рухнул на сиденье рядом пьяноватый мужик в седых кудряшках.
– Сезанн был мудак, сынок. Иначе бы за Сезанна меня из клуба не выгнали… Как помер, сразу понял: в нем, суке, дело…
– Папа, учитывая долгую разлуку, первая фраза могла быть и попроще.
– Вижу: не рад. Займи десятку – уйду.
Пятерку дал. Убрался отец.
Кто-то крошечный и пушистый пощекотал шею, фыркнул в волосы, пискнул:
– И мне пора.
Мой ангел-хранитель выскользнул в окно, трепыхнулся на ветру, и его сожрала искристая темнота.
– Конечная! Выходим скоренько!
Я не узнал бульвар Двадцати Двух – потея ладонями, я узнал это место…
***
…Стоя здесь, на горбатом асфальте, под черно-фиолетовым небом Дуггура, дыша сладковатыми испарениями сочетающихся человекоподобий, испуганно мигая, когда мгновенная вспышка света доверху заливает город каменных муравейников, я заклинаю вас…
***
– Я же говорила: возьмите постель. Вон мокрый весь! Разве ж это дело – сидя спать…
ОбрывокЖизнь Пырха началась нелепо и неожиданно – собственно, как и миллионы прочих русских жизней.
Пырх вцепился в пуговку внутри Любаниного живота ранним утром. Случилось это в станционном буфете.
Командировочный мужичонка, покряхтывая, застегнул брюки и провез по столу десятирублевкой.
– Как звать-то тебя, комсомолка? – шлепнув распластанную девушку по пояснице, спросил.
– А зовуткой, – окрысилась Любаня, одергивая платье.
Мужчина вразвалку ушел. Шлепнулась на пол тень от мятого пиджака и мигом пропала. За дохлой пальмой смеялись свиные глазки буфетчицы.
Скользкой походкой Любаня двинулась к выходу.
– Эй, ты! – пронзительно крикнула буфетчица, выплывая из своего укрытия. – Нету у нас таких порядков, чтобы на столе! Не ресторан, чай! Вытирай за тобой, паскудой! Скоро пассажиры кушать придут! Ах ты, шелупонь стокопеечная!..
Любаня выбежала из мутно-стеклянных дверей и оглянулась. Буфетчица, вывалив груди на стол, примерялась к Любаниному интересному положению. Шатался столик. На оплывшем стеариновом лице буфетчицы было написано искреннее недоумение.
***
Пока Пырх делился на клетки, складываясь в крохотного розового червячка, у Любаши было много хлопот. Благодаря этим хлопотам Пырх, собственно, и выжил.
Урал. Зауралье. И дальше ходят поезда.
– Ори, дура! Ори!
– Мамочки мои! Ма-моч-ки!
– Ори, ну!
***
Пеленка щекочет щеку. Мрут россияне, как осенние мухи.
Пупок отвалился. Светится розовое. Бабка Ильинишна из пятой квартиры третьи сутки лежит в инсульте.
Ножки с перетяжками-ниточками шлепают по линолеуму. Под Кандагаром полег взвод мотострелков.
***
– Пырх, скажи, как называется столица нашей Родины?
– Кемерово.
– Почему?
– Там мамка тятьку восьмой год ищет.
***
– Пырх, кто такой часовой?
– Это сознательный человек с ружьем.
– Гм, а кто это сказал?
– Ленин.
– Три наряда вне очереди.
– Почему – три? Он это еще до Мавзолея сказал.
– Пырх, ты зачем водку не пьешь?
– У меня от нее воспоминания.
***
Любаня померла от воспаления легких 16 мая 2001 года, в деревне Челки Буденновского района Смоленской области.
***
– Пырх, ты на работу почему не вышел?
– Так мать поминал…
– Она ж два года как померла!
– Так мать…
***
Пырх стоит на мостовой и смотрит на красивое многоэтажное здание. Банк «Счастье» лопнул вчера.
Пырх красит стены в бывшей коммуналке. Питеру – триста.
Хмельной Пырх плачет навзрыд. Американский фильм под названием «Английский пациент».
У Пырха болит ухо. Он глубже натягивает ушанку и вгрызается ломом в вечную коммунальную мерзлоту перед парадным дома номер 33, улица Крылатские Холмы – само собой разумеется, Москва.
***
Почему, собственно, роман ложится в такую дурацкую формочку, будто он не роман, а кекс?
***
И когда она кончится – Россия?
***
Тургенев.
***
Никогда она не кончится.
***
Солженицын.
***
Плохие рассказы нужно обязательно кому-нибудь посвящать. Итак…
***
А может быть, это самое что ни на есть сольное одиночество?
Светлана Заготова
/Донецк/
Пространство любви1-й километр
– Солнце взошло в моей душе, – сообщила я мужу и поцеловала его в шею горячими губами. Он тут же зажмурился:
– Ну, взошло – и ладно. Зачем же так раскаляться и предательски светить всем, кто ждет дождя. Разве это гуманно? Вот ты сияешь, а они все вянут да сохнут.
«И правда», – подумала я.
– Солнышко… – он осторожно, едва касаясь, обнял меня, – ты слишком активна.
Я промолчала, но некоторые мои лучи преломились и осветили незнакомую сторону чужой мне жизни. Он заметил это:
– Ну-ка, повернись, ай-ай-ай, глянь-ка, да на тебе пятна, чиститься пора.
Оставшиеся мои лучи поменяли спектр. Он и это заметил:
– Людям больно от тебя. Посмотри, все в защитных очках ходят.
Я отвернулась и закатилась за горизонт.
– Людям сухо от тебя, слышишь, людям хочется влажных отношений.
И плюнул.
А в природе все гармонично: ночь обрушилась на наш дом, потом роса выпала – сыро стало в душе – новый виток жизни пошел, в эмбрион скрутился. Потом дни полетели, недели. Смотрю, муж опять дом обыскивает:
– Любовь-то где?
– Я отдала ее на время соседке, она ей как раз.
– Ну что ж, я тогда пошел?
– С Богом.
И стало хорошо.
7-й километр
Муж всегда любил не меня. Вернее, меня, но другую. А так легче. Та, другая, – идеал. Вот проявилась во мне черточка этого идеала – податливость, муж ухватился за нее и давай расширять внутри себя. А то, что следом за этой черточкой потянулась чертовщинка, он не заметил или не захотел сообщить мне, – чтобы я не заметила, что он заметил. И вот он стал развивать мою податливость, а я свою чертовщинку. И я стала большой, и он стал большим, и мы стали потихоньку отодвигаться друг от друга. Он к стене, а я к воздуху. А потом мы купили большую кровать, чтобы случайно не зацепить друг друга и не обидеть.
И стало хорошо.
49-й километр
Я все равно поеду. Это не я не видела мир, а мир не видел меня, и я должна показать ему свое лицо.
– Не уезжай, он не узнает тебя, – муж светился, как люминофор. – Смотри на меня. Зачем по сторонам глядеть. Весь мир во мне. Вот и поезд этот в меня въезжает целиком с грохотом своим и пассажирской бранью, с чужой любовью и нарастающей тяжестью известкующейся жизни. Неужто интереснее в нем ехать, чем в меня вглядываться? Я ведь твой свет, да?
– Ты – да! ты – ой! ты – ой-ой-ой! Ты – ой, боже мой!
И я люблю тебя. Но я хочу большего, я должна видеть взгляды, отражающие тебя и искажающие тебя, любящие и ненавидящие тебя.
– Но Я ведь твой дом – да?
– Ты – дом, да! Но ты в нем случайно запер меня. Отдай ключ!
– Зачем? Иди сквозь… Ключ – он для чужих. Хорошее препятствие – для любимых.
И я прошла. Я умела сквозить, да так, что ему становилось холодно и неуютно. Я выпрыгнула из его рубашки и побежала. Я так неприглядно побежала, что он за мной не погнался.
Я убежала от него, чтобы стать одинокой и нелюбимой.
И стало хорошо.
343-й километр
Шопен озвучивал все мои мысли. А думала я о подруге.
Муж оставил ее. Он не просто ушел – он умер. Она его не любила, живого. И только на кладбище вдруг почувствовала любовь свою – сначала спиной, покрывшейся холодным потом, – потом глоткой. Любовь наконец вошла в нее, но застряла, перекрыв дыхание. Осыпаются листья, мерзнут пальцы, горький комок любви взрывается в горле и выплескивается наружу, смешиваясь со злобой и ненавистью покинутой женщины.
– Знаешь, вот смотрю я на него, лежащего в гробу, и чувствую, как люблю. Вот уже и земле его предали, а любовь растет.
– Да, мертвых любить хорошо.
– Перестань, любить всегда нехорошо. Любовь всегда не вовремя, это всегда трудно.
Я понимала ее, понимала, как ходит внутри у нее печаль, как гудит тоска по несостоявшемуся «нечто». Но он уже не может разделить с ней эту любовь, не может выпрыгнуть и швырнуть в нее камнем, отвечая взаимностью…
Наверное, Шопен помог. Нет, он не был на похоронах, сейчас его почему-то не зовут, боли боятся. Он звучал у меня в голове.
Это был не фортепианный Шопен, а симфонический. Я и сама не ожидала, что он такое может. В своем звучании внутри меня Шопен превзошел себя. Это была божественная музыка. Или нет, не то, слово «божественная» не отражает сути. Это была Богова музыка. Бог играл сам. Играл на скрипке. Когда она запела, взошло солнце, затмевая смерть.
И стало хорошо.
2401-й километр
Я вернулась. Я не спала целую вечность, и она заговорила со мной:
– Скажи мне, какая я?
– О!О!О!
– Ты хочешь сказать «ноль», пустое место?
– Нет, что ты! Ты – наполненная пустота, исполненная особого света и цвета.
– Я не черная?
– С чего ты взяла?
– Просто в моей жизни так много ночей.
– Ночи бывают чистыми, светлыми, белыми, а в иной день выпадает так много грязи вместо дождя, и он становится черным.
– А почему все думают обо мне иначе, чем я сама, почему мое внутреннее представление о себе не совпадает с представлением обо мне других?
– Таков мир – никто не видит одного и того же.
– А как же нам тогда понимать друг друга? Может быть, можно приблизить и совместить мое видение себя с видением меня другими. Например, на мой абрис наложить абрисы всех тех, кто меня представляет.
– Не совпадут. У них же у каждого свой внутренний образ тебя. Надо сначала усреднить смотрящих на тебя, превратить их всех в ОДНОГО и затем совместить с собой, а это утопия.
– Получается, я так и буду скрываться от них за их представлениями обо мне?
– Получается, так. А почему тебя это волнует?
– Не знаю, наверное, хочется, чтобы хоть кто-нибудь заметил меня.
– ОН давно заметил тебя. – Глаза мои сомкнулись на этой фразе. И стало хорошо.
В душе было тихо и пасмурно.
Я села писать роман о любви, а написала заметку о жизни. Причем жизнь сначала раскрылась передо мной, а потом сжалась, как концентрат.
И вот что я заметила:
Мы ходим по ровным линиям судьбы, или не ровным, но все равно четко размеченным, очерченным. И если старательно ходим, соответствуем чертежам, с нами ничего не случается. Но нам скучно. Мы пробуем нарушать границы, – спотыкаемся, падаем в ямы. Вывих, ушиб, перелом и долгое лечение, в конце концов, идут нам на пользу, потому что в это самое время происходит расширение нашего пространства, создается новый, более сложный чертеж.
Места, где мы ушиблись, мы не будем обходить стороной, но станем чуть осторожнее. Эта осторожность вскоре войдет в привычку, затем в систему и станет новой, ровной, не опасной линией.
Но интерес к кривизне и изломам никогда не покинет нас. Ведь мы по натуре захватчики, нам всегда не хватает любви, нам хочется ощутить укол незнакомого пространства, получить очередную инъекцию (смесь боли и радости) и расширяться далее. И чем большие пространства мы будем захватывать, чем объемнее и значительнее становиться, тем скорее мы сольемся с величайшим «ничто», энергетическим шаром-Богом и его божественной любовью.
А дальше в соавторстве с ним мы станем создавать новые чертежи-маршруты для различных миров нашей Вселенной, а также для отдельных людей, которые предпочитают быть проще и ходить по заданным маршрутам. Что ж, так удобнее, комфортнее жить, так можно легко попасть в небо. И потом хорошо умирать, ощущая, что не несешь никакой ответственности за всех оступившихся.
– Что это ты пишешь? – спросил муж.
– Новую книгу о нас.
– Людях?
– Которые любят.







