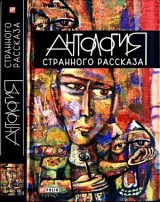
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц)
Стоя на балюстраде городского музея, я смотрела в пустые глаза динозавра. Огромный череп венчал линию шейных позвонков, тянущихся вверх, к балкону, изнутри опоясывавшему второй этаж, так что взгляд ископаемого приходился на уровень человеческих глаз. Это пресмыкающееся шаталось по окрестностям, жрало папортниковые пальмы и с десяти метров плевало на мелкие опасности, копошащиеся под его лапами, а потом вдруг вымерло вместе со всеми своими родственниками, и жадные грызуны растащили его плоть, муравьи подчистили кости, а солнце выбелило остатки. Через миллион лет далёкие потомки тех грызунов, расплодившихся по земле, вернулись и откопали в горячем песке его кости, скрепили их проволочками и выставили на забаву детёнышам. Растопырив сухие лапы и обернув вокруг себя хвост, он, единственный из своих собратьев, скелетами замерших на первом этаже музея, подглядывал на второй этаж эволюции, в логово победивших млекопитающих.
Там выстроились друг другу в затылок чучела теплокровных, от местных коал и кенгуру до невиданных на этой земле горилл и оленей. Огромный белый медведь, вставший на задние лапы, возглавлял строй. Его взгляд, словно в ожидании нового ковчега, устремлялся вперед, но упирался в белый тупик стены в метре от медвежьего носа. Ещё выше, на третьем этаже, висела над головами посетителей музея модель первого самолёта, воспроизводящая то чудовище, что совершило межконтинентальный перелёт и приземлилось в городе лет сто назад. Крылья модели изрядно выцвели, сообщая, что больше на такие подвиги не пойдут. И наконец, на четвертом этаже застыли увековеченные в картоне и цветных фото чучела регбистов в натуральную величину– высшее достижение эволюции на континенте.
Впрочем, возможно, это были и не регбисты, а футболисты, играющие в ту разновидность фути-соккера, где мяч держат в руках и бегают по полю со зверскими выражениями лиц. Не знаю. Ко времени, когда я добралась до верхнего этажа музея, мысли мои были заняты чем угодно, но только не особенностями популярного спорта.
Я вылетела в город до рассвета, первым утренним самолётом, ринувшись на это собеседование, когда уже отчаялась найти работу в Сиднее и была готова мчаться в деревню, в пустыню, в джунгли, лишь бы позвали, лишь бы там нужен был дизайнер с красным российским дипломом и десятилетним опытом работы. Я спешила на назначенную накануне встречу с агентом, но, добравшись до офиса, увидела только откормленное лицо секретарши с вежливым: «Извините, пожалуйста, но место уже занято. Мы не успели Вас предупредить, я вам звонила, но вы, вероятно, выключили телефон». И милая улыбка на коровьем секретарском лице. Эта улыбка бесит меня больше всего. Когда наши люди делают гадость, их лица перекашиваются, они прячут глаза или заводятся в откровенной злобе, они орут на тебя, и ты закипаешь и высказываешься им в ответ и уходишь отчасти удовлетворённый. Здесь они улыбаются, и ты должен выдавливать ответную улыбку: «Да, конечно, я выключила телефон в самолёте, когда летела к вам на собеседование, как мы вчера договаривались». «Вот видите, – густо-бордовые губы секретарши продолжают улыбаться, – вот я до вас и не дозвонилась. А вы в первый раз у нас в городе? Мой вам совет – пройдитесь по молу. Знаете что – возьмите экскурсию, лучше речную, с реки такой красивый вид на новую набережную! А на площади, у музея, идут представления аборигенов, я сама всё собираюсь сходить, но никак не выберусь…» – девушка хлопает толстыми ресницами, она даже завидует моей свободе от обязательств, работы, начальства… Ведь я могу прямо сейчас пойти гулять, прокатиться на пароходике, поглазеть на аборигенские пляски, пока она сидит в офисе и разговаривает со всякими неудачниками. «Всего доброго», – развернулась я, пока ещё могла улыбаться и вежливо разговаривать.
Я действительно зашла в музей, надеясь успокоиться и скоротать время до вечера, до обратного самолёта – вход в святыню естественной истории был открыт для всех, за исключением холодного уличного ветра. И вот, как разведчик из старого советского фильма, я брожу по полупустому музею среди чучел и скелетов. Кроме меня, по залам гуляют, заглядывая в брошюрки, пара ребят в шортах и с рюкзачками и мамаша со стайкой белобрысых детей. Их было человек шесть или семь, бегающих вокруг и галдящих у экспонатов, и ещё два разновозрастных младенца мирно посапывали в общей коляске– годовалый сзади, двухлетний спереди. За малышней, занимающей пространство залов по типу активного газа – всё, сразу и целиком, я не сразу обратила внимание на элегантную даму в возрасте. Дама была несколько полновата, но держалась очень прямо и только качала головой в редких кудряшках, когда очередной резвящийся младенец налетал на неё. Тогда она понимающе улыбалась мне с другой стороны чучела и, делая вид, что не замечает голосящих детей, подносила к глазам лорнет, чтобы прочитать таблички, рассказывающие о прежней жизни экспонатов.
Наконец чучела закончились, и я зашла в туалет, скинула туфли на каблуках и вылезла из деловой юбки. Я боролась с искушением выбросить её в урну, когда дверь распахнулась, и давешняя стая младенцев заполнила предбанник. Мамаша только улыбнулась мне, а дети торопились в кабинки, не обращая внимания на полуголую тетку с юбкой в руках, рюкзачком у ног и потёками туши под глазами. Я бросилась приводить себя в порядок и уже оделась в джинсы и, глядя в зеркало, стирала остатки слёз, когда элегантная старуха возникла позади меня и через плечо заглянула в глаза моему отражению.
– Называйте меня Алекс, – улыбнулась она. – А как твоё имя, деточка?
– Лиза, – хмыкнула я, понимая, что по местным меркам отвечаю не слишком вежливо.
– Откуда ты?
– Прилетела на день из Сиднея. А вообще – из России.
Дама всполохнулась и перешла на русский, чётко выговаривая согласные:
– А я ведь тоже из России, только уехала очень и очень давно. В прошлой жизни, – приосанилась она. – Тогда ещё – уехал. Видишь ли, дорогуша, чтобы жить на новом месте, мы сами должны измениться. Твоя беда, милочка, – дама взяла меня за подбородок и провела по лицу чистой салфеткой, – твоя беда в том, что ты держишься за прошлое. Поэтому ты рыдаешь тут в туалете так, что дети пугаются.
Я протестующе замычала, но она крепко держала мой подбородок, продолжая промакивать расплывшуюся косметику.
– И не возражай, дорогуша, мы все прошли через это. Знаешь, как я изменилась? Я стала совсем другой, когда покинул страну.
Мы вышли из музея. Алекс держала меня под руку, как престарелая тётушка, опирающаяся на племянницу не из физической немощи, но из желания оберечь несмышлёную родственницу от соблазнов этого мира. На площади, у входа в музей, танцевали бурые, в гирляндах белых точек, аборигены. Тётка с плоским носом и мясистыми губами дула в деревянную трубу, а молодые соплеменники приседали, прыгали и стучали себе по груди в такт её завываниям.
Алекс махнула тётке кружевным платком, и та радостно замахала в ответ, сломав ритм своего гудения, а потом передала трубу сородичу и, волнуясь телесами и улыбаясь сотней сверкающих зубов, подплыла к нам.
– Познакомьтесь, девочки, – провозгласила Алекс. – Это Елизавета, она недавно из России и сегодня впервые в нашем городе. А это – миссис Фрезер.
Я протянула руку. Миссис Фрезер, похоже, ожидала другой реакции. Она выглядела разочарованной.
– Я же тебе говорю, она только недавно тут и ничего про тебя не слышала, – хихикнула Алекс – Зато ты можешь рассказать ей свою историю!
Аборигенша снова расцвела и, схватив меня под другую руку, потащила в соседнее здание, тоже оказавшееся музеем, уже художественным. Его залы были увешаны множеством картин, написанных уверенной, хотя и своеобразной рукой. Большинство полотен изображало всадника в квадрате черной маски на месте головы. Из прорези в центре маски глядели крупными полумесяцами глаза. Картины производили впечатление грубости и невинности, это были скорее памфлеты, хотя смысл их без знания истории персонажа оставался неясным и отчасти пугающим. Миссис Фрезер проволокла нас мимо ряда полотен к картине, изображающей ручей посреди джунглей. На дальнем берегу ручья белела обнажённая фигура неясного возраста и пола, очевидно, стыдливость не позволила художнику изобразить детали анатомии. Подпись под картиной гласила: «Миссис Фрезер». Аборигенша довольно ухмыльнулась, глядя, как я недоумённо перевожу взгляд с полотна на неё и обратно.
– Пойдёмте, любимые, – вывела меня из ступора Алекс, – выпьем по чашке кофе, и миссис Фрезер расскажет о себе.
Кофе мы нашли тут же, на набережной, в открытом кафе под матерчатой крышей, пришедшейся очень кстати, когда небесное полотно, с утра густо-серое, прорвалось мелким холодным дождём. Алекс попросила официанта принести чашку чая, я – кофе, а миссис Фрезер – шоколадный коктейль и воздушное пирожное.
– А вы знаете, – светски заметила Алекс, когда смуглый молодой человек, счастливо улыбаясь, водрузил на стол белую горку безе, залитую густыми сливками и с ягодкой наверху, – вы знаете, что это пирожное названо в честь балерины русского императорского театра. Я видел её выступления, не здесь, разумеется, а в Петербурге… – она мечтательно прикрыла глаза и причмокнула губами.
Я немного путалась. Алекс легко переходила с женского на мужской род, рассказывая о себе прошлой, а её аристократическое изящество естественно сочеталось с почти военной осанкой, причём, какая из черт относилась к женской, а какая – к мужской ипостаси, я не понимала. Но тут вступила в разговор аборигенша.
– Я приплыла к этим берегам на двухмачтовом корабле, капитаном которого был мой дорогой муж, – заученно начала миссис Фрезер. – Я оставила на родине троих детей и носила под сердцем ещё одного, но нездоровье моего супруга требовало моего постоянного присутствия рядом с ним.
Я последовала за ним, как велел супружеский долг, не подозревая, что наше путешествие обернётся несчастьем. Корабль потерпел крушение неподалеку отсюда, и почти все члены экипажа погибли. Только мой супруг, один из его помощников и я выбрались на берег, – она зачерпнула полную ложку крема и отправила её в чёрную пропасть рта, крошки безе светились на её лоснящихся щеках и вылетали изо рта. – Мы погибли бы в джунглях, без воды и еды, но тут появились дикие люди. Они ходили совершенно голые, и мы, чтобы походить на них, также вынуждены были раздеться, – она слегка хрюкнула, подавившись вишнёвой косточкой. – Но дикие люди бросили копьё в спину моему беспомощному супругу и убили его. А потом схватили меня и заставили выполнять их необузданные желания вопреки моему положению замужней женщины. Они увели меня в лес, а когда у меня родился ребёнок, бросили его в воду и дали мне взамен своего младенца – самое отвратительное существо, которое я только видела. – Она допила шоколад и довольно рыгнула. – С тех пор я живу с аборигенами как мать и сестра и по мере сил тружусь над развитием и пропагандой туземной культуры. Вот, праздники провожу, – она довольно огляделась.
– Простите, миссис Фрезер, – робко спросила я, – но вы говорите так, словно вы – белая? Что это – такая шутка? Или аборигенский миф, который передаётся от матери к дочери? Аборигены верят в переселение душ? – обернулась я к Алекс, под слоем пудры порозовевшей от сдерживаемого смеха.
– Твоя подруга – расистка, – возмущённо заявила миссис Фрезер, поднимаясь из-за стола. – Я с такими субъектами вообще не разговариваю.
Она встала и, гордо покачивая бёдрами, отправилась обратно в круг танцующих аборигенов.
– Элиза, я зайду домой с девочкой, ты не против? – крикнула Алекс ей вслед, но миссис Фрезер даже не обернулась.
Алекс рассмеялась в голос и погладила меня по руке.
– Нет-нет, это не переселение душ, это простое изменение личности. Она изменилась, что и тебе советую. Ты только посмотри, она ведь нашла себя. Насколько счастливее и осмысленнее её существование в качестве старейшины аборигенского племени, и в том числе, – она подняла палец и со значением взглянула на меня, – в качестве посредницы при общении аборигенов с властями, чем в качестве стервы, изъедающей печёнку несчастному мужу и смакующей свои страдания среди аборигенов. Насколько верное решение она приняла, полностью сменив личность, став одной из них, и неизбежно – став их вожатой, уважаемым и нужным членом племени аборигенов. В этом и только в этом, – провозгласила Алекс, поднимаясь из-за стола и отсчитывая монеты по счету, – ответ на вопрос, как нам существовать на чужбине.
– Мы меняемся, дорогуша, – продолжала она, снова взяв меня под руку и уводя в город, под дождём, пропитывающим мою шёлковую рубашку и тонкие кроссовки, которые я надела взамен чёртовых туфель. Мы шли мимо стеклянных витрин, мимо одноэтажных домиков на сваях, и дождь поливал нас, – мы должны измениться, чтобы выжить. Изменения уже внутри нас. Ты, наверно, скажешь, что мою новую личность определило бегство из Зимнего, но это ложь! Очередная наглая большевистская ложь, должна я тебе сказать! – она больно сжала мою руку. – Ни в какое женское платье я не переодевался. В тот день ещё с утра, ни от кого не скрываясь и ни в кого не переодеваясь, я уехал в ставку Северного фронта. Уехал на своём автомобиле, и многие меня видели. Солдаты видели и отдавали честь, когда я проезжал мимо них. В тот же вечер я узнал о захвате Зимнего и отдал приказ о походе на Петербург, но… – она замолчала. – Это, как я тебе говорила, дорогуша, дело прошлое. И по многолетнему размышлению я полагаю, что эта легенда, которую я пыталась опровергнуть, всё же апостериори подтолкнула меня к решению реализовать свою женскую сущность. И я начала новую жизнь, – она подмигнула. – Не стоит опираться на старую, тут это никому не нужно. Вот ты, кем ты хотела устроиться?
– Дизайнером, – ответила я.
– Ты прежде работала дизайнером?
Я кивнула.
– Забудь! Твоя прошлая работа, твои дипломы тут никого не интересуют. Девочка, я пришла на кафедру славистики здешнего университета, когда они объявили о вакансии преподавателя русской истории. Я – глава русского масонства, депутат Государственной Думы, секретарь Верховного совета Великого Востока, председатель Временного правительства России! И что ты думаешь – меня не взяли! Место получила какая-то двадцатилетняя пигалица, жена местного лейбориста, а мне они отказали. Вот тогда я и понял, что надо меняться.
Я поежилась, насквозь промокшая, но Алекс уже сворачивала к домику с яркой надписью на балконе второго этажа: «Спи только с лучшим! Хостел Виктория». Моя спутница достала из сумочки пластиковую карточку, провела ей вдоль замка и толкнула дверь.
– Добро пожаловать в моё скромное жилище!
Жилище в самом деле было скромным, я бы сказала – убогим, если бы не была так вымотана утренним перелётом, неудавшимся интервью и прогулкой под холодным дождём. В этом же состоянии я была рада и комнатке, пол которой сплошь завален тряпками и пакетами, а половину пространства занимают две металлические двухярусные кровати. С одной из нижних кроватей из-под покрывала свешивалась пара тонких рук и нога с татуировкой. Татуировка изображала китайского водяного дракона с длинными усами, а руки были женскими, и обе – правыми. Алекс подошла к столику, тоже заваленному – кружевным бельем, косметикой, вскрытыми пачками печенья, компьютерными дисками и прочим барахлом. Глядя в зеркало на стене напротив, она сняла тяжёлые серёжки и накладные ресницы.
– Ты знаешь, – сказала она, не оборачиваясь, – наш певчий Сирин к концу жизни мог позволить себе качественную гостиницу, моего же пособия хватает только на этот хостел. Но на год вперёд я его оплатила и гостей могу принимать. Хоть ночевать оставайся, кровать свободна.
– Спасибо, Алекс, – в горле у меня першило, я, кажется, простудилась. – Ночевать не буду, у меня вечером самолет. Но можно я сейчас прилягу?
– Конечно, – Алекс бросила через стекло настойчивый мужской взгляд, – раздевайся, ложись. Миссис Фрезер сегодня не придёт, девочки спят после вчерашнего. Отдыхай.
Мне хотелось плакать.
– А можно я душ приму?
Она кивнула в сторону узкой двери:
– Моё полотенце – синее, чистое, только утром повесила. Мыло, шампунь – на полке.
После душа я залезла наверх и завернулась в клетчатое покрывало. В комнате было холодно, и зубы у меня стучали о зубы. Я бы всё равно, наверно, не заснула, но тут кровать заскрипела, и над лесенкой появилась голова Алекс. Она тяжело взобралась на второй этаж и опустилась на постель рядом со мной.
– Ты всё дрожишь, девочка моя. Давай-ка я тебя согрею.
Она обняла меня. Её рука была сухой и жёсткой, от волос пахло сладкими духами. Меня передёрнуло.
– Ну, не дрожи так, сладкая, – крепко прижимаясь ко мне, она шарила у меня под майкой. – Ты что же, даже джинсы не сняла, ой как неудобно.
Она взяла мою руку и потащила её вниз, себе на лобок. Там ничего не было. Я не знаю, что ожидала встретить у неё на этом месте, и что было дальше, в глубине её тела, куда она продолжала меня тащить, но я сжала пальцы в кулак и села на кровати.
– Алекс, извини. Я не могу, я не знаю, что со мной, прости, пожалуйста. Я не знаю, кто ты, я совсем не понимаю – то ты как мужчина, то – как женщина, что мне делать, я…
Она покачала головой, снова положив руку мне на живот.
– Всё в порядке, просто расслабься… Если я сменила пол, это не означает, что мне перестали нравиться женщины. И я знаю, что нравится женщинам, поверь мне, просто закрой глаза…
– Да нет, – подскочила я, едва не влетев головой в потолок. – Дело не в тебе, ты замечательная, правда. Дело во мне, я просто не понимаю…
– Да-да, – она отсела подальше и поднесла ладонь к губам. Движение было таким изящным, таким женственным, что меня снова передёрнуло. – Я понимаю. Я пойду, а ты отдыхай. Спи.
Алекс развернулась на кровати и поползла вниз.
– Помоги мне, пожалуйста, с моим диабетом трудно ступать на железные перекладины.
Я обхватила её, снова ткнувшись в пушистую как одуванчик голову, и держала, пока она сползала по ступенькам вниз.
– Спасибо, – тихо сказала она. – Раз залезла, уже не вылезти: с этой кровати, из этих юбок, из этого города. Это круг, замкнутая кривая без начала и конца, как в неё попадаешь, выхода уже нет. Навсегда тут…
Она ещё что-то бормотала, по-старушечьи разговаривая сама с собой, но я с головой закуталась в покрывало и не слушала. Мне действительно удалось поспать до самолёта.
Алекс разбудила меня за пару часов до вылета. Она вскипятила чайник и разгребла угол стола для двух чашек и вазочки с печеньем. Девочки всё ещё спали на соседней кровати, и мы говорили шепотом, чтобы не разбудить их, и старались не глядеть на них, счастливо сопящих в плечо друг другу.
Алекс вызвалась проводить меня до самолёта. Уже стемнело, и пока экспресс вёз нас в аэропорт, я разглядывала в вагонном стекле её точёный профиль. Отражение проглотило морщины, розовую пудру и пушистость белесых волос. Проглотило десятилетия искусственной женственности, возвращая жёсткий мужской профиль – нос горбинкой, кадык, твёрдый подбородок.
Автомат при входе в зал отлёта распечатал мой посадочный талон. Я не стала сдавать в багаж единственную сумку, документы у нас никто не спрашивал, как не спрашивали их у меня и при посадке. Деловитые девушки провели сканерами вдоль наших тел, металлические ворота промолчали, когда мы проходили в зал ожидания, сквозь стекло которого уже был виден самолет, переходной гармошкой соединённый с пассажирскими воротами.
– У тебя ещё десять минут до отлёта. Кофе хочешь? – Алекс была спокойна, как подлинная леди.
Я постаралась так же ответить ей.
– Нет, пожалуй. Но я бы сходила умыться. Посмотришь пока за моими вещами?
Она кивнула в ответ.
Когда я вернулась, Алекс за столом не было, как не было на нём и моего посадочного талона. За столиком, у которого я поставила сумку, ещё пахло кофе. Под блюдечком лежала магнитная карточка-ключ от комнаты и клочок бумаги с витиеватой росписью «Удачи!».
Самолёт за стеклом выруливал на взлётную полосу.
БЕЛАРУСЬ

Тим Скоренко
/Минск/
Слово мальчика МишкоМальчику предстояло родиться в самый первый день осени, на какой бы месяц года он ни выпал. Марфа знала это и старательно готовила колыбельную, чтобы спеть сразу после того, как ребёнок появится на свет. С песней мальчик скорее бы уснул, спящим-то жить гораздо проще, а Марфа всегда хотела для сына простой жизни. Листья уже желтели и были похожи на капли вина из полыни, тени вытягивались к полудню и пахли жжёным сахаром, снег постоянно грозил, нависая над горизонтом, а осень всё не наступала.
Блажо посматривал на живот жены с завистью, но врач с корабля слепых сказал, что позволит Блажо разделить с супругой муки деторождения, и последний готовился стать отцом, принимая настой из бересклета и трилистника. Время протекало слишком медленно, густой вязью покрывая окна и книги, а в дверях дома Блажо никогда не затихало движение, потому что стоило одному гостю выйти, как появлялся новый. Поэтому Блажо всегда мёрз, а Марфу держал в отдельной комнате, не позволяя выходить в выстуженную гостиную. Мальчик, которого звали Мишко, уже барахтался где-то внутри Марфы так, что опрокидывал кувшин с вином, стоящий на противоположной стороне деревни, и старая ключница ползла к Йоновичам корить их за неумение обращаться с младенцем, которого ещё не было. Марфа гордилась сыном, потому что он рос сильным, а Блажо боялся за Марфу, потому что не верил, что она сможет родить самостоятельно. Впрочем, врач с корабля слепых сказал, что всё будет в порядке, а Блажо не имел оснований сомневаться в его словах.
Когда Мишко решил появиться на свет, осень пришла, но не та, которую ожидали Йоновичи, а следующая, осень 1968 года, тяжёлая и мрачная, полная падающих теней и свободных птиц, умирающих прямо в полёте. Акушер с корабля слепых смотрел внутрь Марфы, точно надеялся найти там золото, а потом протянул руку и извлёк на свет серебряную ложку. «Там ещё достаточно», – сказал акушер и ушёл, оставив Мишко внутри. Мальчик выбирался аккуратно, глядя на жёлтую лампочку под потолком, на сосуд с молоком и на мотылька, который пытался вылететь через окно к таким же, как он, только иссохшим и опавшим. Когда Блажо взял мальчика на руки, он расплакался, потому что вспомнил, что так и не принял боль Марфы.
Впрочем, всё обошлось. Через некоторое время Марфа заново научилась ходить и говорить, а после того, как её грудь исторгла из себя первое молоко, Блажо снова узнал в ней свою жену и принял обратно в дом.
В первый же свой день Мишко поймал глазами ворону, которая пыталась пролететь сквозь стекло в тёплую комнату Марфы. Он удержал её взглядом за правое крыло, ворона билась и роняла перья, а Мишко смеялся, чувствуя, как у него отрастают зубы и крылья. Когда Блажо посмотрел на сына, Мишко отпустил птицу. Ворона упала под окно и долго смотрела остекленевшим взглядом на навозного жука, пытающегося преодолеть преграду в виде соломинки, брошенной акушером с корабля слепых. Жук соскальзывал, но упрямо продолжал ползти вперёд, а маленький Мишко уже рисовал пальцем узоры на трёхнедельной бороде отца.
Каждый день приносил Йоновичам новые заботы, и не всегда они были связаны с новорожденным. Иногда ветер сдувал крышу с коровника, и Блажо с печальным выражением одевался, чтобы идти и ремонтировать её. Он брал с собой клетку с прирученным дроздом, который умело собирал соломинки и складывал их так, что крыша получалась на загляденье – лучше, чем старая. Но в третью неделю жизни Мишко ветер не пощадил даже стен, и коровы разбредались по двору в поисках еды. Мишко смотрел на диковинных животных и пытался подражать их мычанию, но у него выходи-ла песня, которую услышал музыкант с корабля слепых. Музыкант явился в дом Йоновичей под вечер, когда половина коров уже ушла на север.
Он предложил учить мальчика песням, но Блажо не доверял музыкантам, потому что хотел, чтобы его сын овладел другой профессией. Он пригласил учителя с корабля слепых, тот пришёл, в рваной кофте и новых сапогах, заперся с маленьким Мишко в комнате и не выходил оттуда в течение пяти дней. На пятый день, когда ухо Блажо устало прижиматься к деревянной двери, а Марфа готова была забраться в комнату через окно, учитель вышел и сказал, что он научил мальчика всему, что знал сам. Блажо заглянул в глаза Мишко и отшатнулся.
«Что там?» – спросила Марфа.
Но Блажо не ответил и никому не позволил повторить свой опыт. С этого дня Блажо начал стареть. Его волосы седели и покрывались пеплом, его кожа обвисала складками, а по утрам Марфа жаловалась ключнице, что муж спит рядом с ней, а не на ней, как всегда бывало раньше. Ключница утешала Марфу и давала ей сахарного петушка для Мишко, но врач с корабля слепых запретил ребёнку баловаться сладким, и Марфа сама съедала петушка по дороге домой.
Тем временем наступил 1970 год и в городе по соседству появились страшные зубастые автомобили, в которых сидели люди без глаз и ушей. Эти люди пока ещё не добирались до деревни, но город подчинился им полностью, и Марфа со страхом смотрела через бычий пузырь на улицу, где мужчины готовили оружие, чтобы сопротивляться незваным гостям.
Блажо поехал в город в самом начале лета. Он передвигался с трудом, в его глазах не было ничего живого, а врач с корабля слепых разводил руками и ничего не мог сделать. Блажо хотел купить в городе новой одежды для себя, супруги и малыша, да ещё цветных книжек и игрушек, да гостинцев для ключницы и других жителей деревни.
Он ехал на своей пегой лошадёнке по раскисшей от летних дождей дороге и насвистывал песню, сочинённую музыкантом с корабля слепых. Песня лилась далеко, стелилась по полям и лугам, просыпалась на деревья и поливала траву. Она бежала по дороге впереди Блажо, хлюпала по грязи, спотыкалась о коряги, но не останавливалась ни на секунду, пока не уткнулась в серебристую статуэтку на капоте чёрного автомобиля. Водитель вышел, хлопнул дверью, разбрызгал грязь каблуком и прижал песню большим пальцем к заляпанному крылу. Песня пыталась вырваться, извивалась, как могла, но в итоге проиграла сражение и безмолвно скрючилась у ног человека в чёрном.
Блажо почувствовал недоброе, когда песня уже успела убежать за холм, машину же он не видел.
Мишко в этот момент пронзительно кричал, и старуха-ключница снова ползла через всю деревню корить Марфу, но Марфа и сама не знала, что делать. Только теперь она решилась заглянуть в прозрачные глаза сына, чтобы понять, что же увидел там отец.
В этот момент Блажо уже подъезжал к чёрному автомобилю, а водитель поднимал руку, приказывая ему остановиться. Блажо усмирил лошадёнку и спрыгнул на дорогу, а человек в чёрном спросил: «Не у тебя ли родился сын Мишко?» Блажо внимательно посмотрел на вопрошающего и ответил честно: «Нет, не у меня». Честность его заключалась в том, что родился мальчик всё-таки у Марфы, и потому чёрный не распознал лжи. «Ну тогда иди себе дальше», – сказал человек в чёрном, и Блажо тронул лошадь.
Только когда он отъехал на расстояние полёта бабочки-капустницы, чёрный достал тяжёлый пистолет воронёной стали и отправил пулю вдогонку отцу Мишко.
У старого Войчи дома нашёлся пулемёт, который он хранил ещё со времён большой войны. Войча пережил не один обыск, дрожа от страха и поглядывая в сторону сеновала, где было закопано оружие. Но все, кто искал, находили только золото и уходили, не солоно хлебавши, потому что золото – такая штука, сегодня есть, а завтра – нет, а пулемёт – дело настоящее, стоящее, железное.
Войча выволок пулемёт на пригорок недалеко от деревни, но сержант с корабля слепых сказал, что его будет слишком хорошо видно, как ни маскируй, и пулемёт поставили в низину. В это время Блажо уже кормил стервятников своей правой ногой и левой рукой, а маленький Мишко ловил взглядом облака и заставлял их принимать форму чёрных автомобилей.
Собственно, чёрный автомобиль двигался по направлению к деревне, и каждая его фара по отдельности была ярче солнца, хотя обе вместе светили довольно тускло и едва выхватывали из наступившей ночи разбивающихся о лобовое стекло мотыльков.
Волновались все. Марфа сидела на скамье около своего дома, старуха-ключница кушала пареную репу, а врач с корабля слепых смотрел документальный фильм про восстание на Кубе.
Мишко играл с чёрным автомобилем, сделанным из туч, заставлял его ездить направо и налево, разворачиваться и сигналить. Наконец ему надоело это занятие, он погасил у автомобиля фары и разорвал его на две половинки, смял каждую из них и отправил в разные стороны, а маленькую серую тучку, исполнявшую роль водителя, распылил по всему небу, смеясь, когда её обрывки образовывали смешные сочетания с другими небожителями.
Старый Войча с пулемётом и мужики с оружием попроще ждали чёрный автомобиль много дней, но он так и не появился. Приезжавшие в деревню торговцы из города говорили, что на целую неделю дорога на одном из участков стала красной, как кровь, а одна корова подавилась металлической деталью, найденной на пастбище.
Жизнь пошла своим чередом. Врач с корабля слепых регулярно осматривал всех деревенских детей, кроме Мишко, потому что тот взглянул на него всего один раз, и этого хватило. Марфа удивлялась и врачу, и покойному Блажо, потому что она сама не раз смотрела в глаза мальчику и никогда не находила ничего необычного.
Мишко взрослел. Его макушка уже почти доставала до потолочной балки, мир по-прежнему прятался за железным занавесом, а Блажо вечно ехал в город, где царствовали люди в чёрных машинах с серебристыми маскотами на капотах. Марфа не могла напастись картофеля и брюквы на растущего сына, а Мишко ходил по двору, гладил коров и молчал, глядя в холодное небо. Зима 1974 года без всякого перерыва стала зимой 1975-го, а та переросла в зиму 1976-го, и эта бесконечная зима плохо влияла на здоровье Марфы. Она постепенно двигалась всё медленнее и медленнее, пока окончательно не превратилась в ледяной столп, застывший посреди двора.
Соседские мальчишки приноровились бросать снежки в её прозрачную голову, а Мишко и не думал защитить мать, потому что был занят совершенно другими делами. Он ел очень мало, то старуха-ключница подавала кусочек чего-нибудь вкусного, то сердобольные бабы с другого конца деревни приносили пирожка да каши, то повар с корабля слепых подкидывал мальчику свежесваренной конины. Впрочем, Мишко не был гурманом и мог есть почти всё что угодно. Когда становилось совсем плохо, он собирал ягоды, выползавшие из-под снега ранней весной, и доил коров, кормить которых, как ни странно, не забывал.







