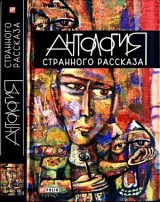
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Было искушение использовать последнюю возможность и распороть шов у Кукла на спине, но этого он не сделал.
Музыка. Одиночества мучительный ритм и жажда любить.
Свои желания ты мне когда-то доверяла, Анна. Ты рассказывала мне все о себе и своих друзьях, я жадно впитывал всякую мелочь, хоть и старался это не выказать, я же люблю тебя, Анна. Я тебя создал и наивно думал, что с твоей, твоего тела помощью достигну того, что остается для меня недостижимым в жизни реальной. Я обманул тебя, Анна. Твоя душа была для меня раскрытой книгой, но твоя плоть – замкнутый ларь. В душе я могу пережить все твои страдания и мгновения счастья, но мое тело не способно ощутить дрожь, превращающую твою кожу в наждак, ощутив его первое прикосновение под простыней.
Ты плакала у меня на плече и спала в моей постели, ты не стеснялась в моем присутствии переодеваться и мыться, ты подкрашивала свои фарфоровые глаза и однажды назвала меня своей лучшей подружкой, Анна. Я чувствовал себя счастливым. Я – дурак. И тогда ты внезапно решила, будто я тебя предал. Это не так, Анна.
Ты просто не понимаешь, что Любовь – такая Большая.
***
В тот раз, когда я забрался к вам через окно, я был просто сумасшедшим тогда, сумасшедшим от ревности, Анна, я мог бы убить вас обоих. Ерунда, не смог бы. И поэтому я говорил, говорил гадости, вылил на вас целый поток грязи, на вас, лежащих в постели, забывших весь мир голубков, я врал даже, но – разве ты в самом деле не понимаешь, Анна, что я просто выблевывал свое одиночество.
И никогда, никогда не повторяй того, что ты сказала в тот раз, Анна, ведь ты знаешь, как я стремлюсь к чистоте чувств.
***
Он поднялся и выключил магнитофон. Яркий солнечный свет ломился сквозь оконное стекло, в его лучах, как море, волновался сигаретный дым, он открыл окно. Позволил соскользнуть с бедер полотенцу, возле большого зеркала побрился, надушился. Чистое, белоснежное белье. Чистая рубашка и светлые брюки. Валидол во рту.
Он шел по улице торопливыми деловыми шагами, как человек, отправляющийся исполнить нечто неотложное, как человек, чей день обещает быть долгим и прожитым полнокровно, люди оборачивались – как он красив! как чист! тот ли это самый, что недавно свалился в отхожее место? Через улицу, за угол, газетный киоск, свежие газеты, так же, на ходу, политический раздел, страницы культуры, кратчайший путь через подворотню возле магазина, мусорные контейнеры давно не вывозили, толстая крыса перепугалась, убегает на цыпочках, опять на улице, люди в своих обычных заботах, школьники в школу, дамы с собачками, памятник, прохудившаяся канализационная труба, люди в грязных спецовках, он гордо минует их, налево, тоннель, на стене непристойный рисунок, нет, это не любовь, через парк, пахнет сирень, прыгают воробьи, маленькая поперечная улица, тупик, внутренний двор, крышка отхожего места снята, низкий деревянный дом в восемь окон, занавески, приглушенная музыка, сквозь занавески электрический свет.
Осторожно открывает наружную дверь, нащупывает путь сквозь темный подъезд.
Они еще танцуют?
Открывает следующую дверь.
…Мужчина в углу играет на аккордеоне, протяжно, щемяще, часто сбиваясь и начиная заново, свечи на полу выгорели, дневной свет превращается занавеской в сумеречный, комната похожа на странный аквариум, у предметов нет тени, без тени перемещается какая-то пара, раз-два-три, и-раз-два-три, музыканта одолевает кашель, он пытается совладать с ним, звук инструмента тогда болезненно вибрирует в согласии с дрожью его тела, и танцующие сбиваются с ритма, их лица белы, как одежда, как одежда матовые, ничего не видящими глазами они смотрят за спину друг другу, кто-то выключил ночник, у нее на ногах золотые туфельки, в самом деле золотые, каблучки вспыхивают, попадая в полоску света, который солнце просунуло в щель между занавесками, шаль на плечах, в помещении сыровато, счастлива ли ты, счастлива ли ты еще, Анна?
Он не ощущает ревности, он любит их, настолько любовь велика.
РОССИЯ

Наталья Антонова
/Калининград/
из цикла «Перемены»/интерпретация китайской классической «Книги перемен»/
Течение
Вот представь себе, что ты находишься в утробе: тепло и влажно, и никакого выхода. Снаружи баюкает чей-то приятный малознакомый голос, рассказывает то про суп с брюквой, то про ширину-длину прозрачных занавесок, которые будут висеть на окне в твоей будущей комнате, из которой есть выход в яблоневый сад. Там, на палевом теплом камне, сидит повечеру трехпалая жаба, смотрит по сторонам и находит, что жизнь прекрасна, наполнена мухами, и соловьями, и спелой клубникой, вызревающей где-то рядом с древесным строением, кажется, это дом женщины, окружившей тебя уже сейчас розовым бархатом со всех сторон. Тебе еще недоступна ее нежность, истинные ощущения появляются, когда начинается отсчет: час, месяц, год от твоего дня рождения и когда тебе, моя радость, наконец, становится чуть легче, потому что ты больше не пребываешь вне времени безо всякой веры в надежду на любовь.
Бегство
Утренние звуки таят в себе чувство какого-то неземного счастья. Не будь их, мы бы ни за что не признались себе, что живем. Необыкновенно однажды проснуться в мире, в котором ничего не звучит, и дерево растет неслышно, одинокая рыба под водой не обнаруживает себя, и даже ворон, севший случайно на темную ветку, безмолвно раскрывает черный блестящий клюв, чтобы сказать, что он еще в полном расцвете, и каждое перышко одно к одному скрывают птичью его суть от досужих взглядов. Бесшумно вспархивает и улетает. Вот был и нет, разве про это расскажешь?
Убранство
Решись я уйти прямо сейчас, мне пришлось бы оставить здесь все, что я нажила непосильным трудом и удачей, что насобирала в лесу, на пляже, в горах, бесценные предметы силы (камушки, желуди, листья, песчинки, снежинки), и то, что подобрала на улице, лежащее бесхозно, никому не нужное, поломанное и проржавевшее, вышедшее из моды, жалобно мяукающее, потерянное случайно в дневной суете, выброшенное среди ночи в бессильной злобе, снять с себя все: одежду, ожерелье из ракушек, мило побрякивающих при каждом неверном движении, потемневшее нательное колесо Дхармы, и, набрав в легкие побольше воздуха про запас, шагнуть за порог, оставив среди прочего и самое ценное, то, что получила в подарок от любимого и в дар от высших сил – в белых пеленках исходящее криком дитя.
Суд
Потребовать вдруг невозможного от сурового и справедливого небесного лица и заступиться за всех людей разом, за всех богов, голодных духов и зверей, за птиц и насекомых, за людей, которые, словно черви, извиваются в собственных нечистотах, за богов, путающихся в складках своих выгоревших одежд, за духов без тела, но с плотскими желаньями, за зверей с человеческими глазами, за птиц, мерзнущих в ожидании ее прихода, только ее одной – весны, и кружат бабочки, пчелы, черно-белые шмели над единственным цветком, благоуханным, и одно его присутствие вселяет надежду.
Приближение
Все улицы впадают в море, и если долго ли коротко ли идти по одной и той же улице, не сворачивая на другую, не заходя к друзьям, чтобы погреться и выпить чаю, просто все время идти, то выйдешь прямиком к морю, урчащему, словно дикий кот, к морю, бросающему в глаза соленые брызги. Нас с тобой в таких очевидных на свежий взгляд вещах убеждать не надо, может, пожалеем тех, кто, куда бы ни шел, всегда оказывается лицом к лицу с самим собой? Пожалеем и все расскажем, ласково шепнув каждому на ухо: «Распознай!» Распознай доброе в злом, сильное в слабом, красивое в безобразном и наоборот, распознай себя во мне, себя во всех остальных людях, животных, деревьях, камнях, распознай сияние в полной тьме, подступающей со всех сторон света.
Беспорочность
Мы убиваем время – время убивает нас.
Оказалось, что карма отменяет чудо, если только чудо не является следствием себя самого, но это еще надо заслужить. Можно представить себе ту еще картину, в которой Чудо и Иуда встречаются, чтобы поспорить о вечном, выпить чаю с лимоном и мятой и разойтись по домам, потому как последняя капля дождя уже упала на последнюю горсть земли, брошенной на твой гроб, в котором тебя, как водится, уже нет.
Смена
Перемены наступают задолго до того, как определишься, что необходимо что-то менять, перемены не к добру, не к худу, а потому что пришло время. Как змея меняет кожу, когда ей надоедает ее предыдущая форма, ее обыденность, так и я ложусь под нож, когда устаю от себя. С отрубленной головы валится золотая корона, катится по земле до края, с плеском падает в воду и тонет, а я плыву вверх по реке, преодолевая теплые воды, преодолевая волны прозрачного цвета, сквозь ласковое время вверх по течению, все время вверх.
Взаимодействие
Видите ли, сон приснился мне – я пела так протяжно, так красиво, так тонко и набело. Я высилась немного вверх и вправо над другими, кто-то высился надо мной, и там, в небе, насколько хватало глаз, пели и пели ангелы Господни, и я с ними, потому что это был мой сон. Захотелось поделиться этой благодатью хоть с кем-то, стала искать глазами твои глаза, губами твои губы, руками твои руки. Хорошо, что ты был рядом, спал со мной рядом обычным своим тяжелым сном, я передала тебе благодать всю, что получила, чтобы наутро ты проснулся отдохнувшим, отчего-то счастливым, пусть даже меня рядом не окажется.
Изобилие
Может пройти год, а может и сотня лет, и тот, кто способен обнаружить разницу, скажет: прошли годы, так много лет, что вереском поросла округа, и от немногочисленных старожилов остались лишь впечатанные в сырую землю следы босых ног. Меж тем, в самой середине леса появилось маленькое озерцо, в котором просвечивающаяся до самых костей рыба все время плавает по кругу, по часовой стрелке, о, если б она могла знать, что есть время, и оно так необъяснимо: вроде поспеваешь ко времени, а приходишь с опозданием; вот только был час пополудни, а уже полночь; как странно, десять лет минуло с нашей встречи – будто день прошел. Той, созданной одним взмахом кисти рыбе, конечно, все равно, плыть ли по кругу или вдоль реки, немногословна и одинока она, ей не достичь славы и почестей тех ее сородичей, которые висят в длинных залах скучных музеев, написанные дорогим маслом на темнеющих холстах; она плывет вслед за солнцем, боясь потерять его из вида, умудряясь каждый день находить его по запаху, на вкус и цвет бесконечно медовый.
Подъем /исход/
Мой хороший знакомый Семен Тургор говорил как-то февральским вечером под скрип пера и треск самопальных свечей: «Я тут изобрел новый закон равновесия и противодействия – старый, как мир. Он целиком основан на собственно моих заблуждениях, состоящих в том, что нет и быть не может борьбы между добром и злом, потому что добро, оно же свет, деятельно по своей природе, а зло, оно же тьма, – пассивно; добро сухим всегда из воды выходит, а зло пахнет плесенью и влажно даже в самые жаркие дни. Свет, отражаясь от всего, что препятствует его движению, проникает в пыльные, потаенные углы и простенки, под диван, за икону Антония Великого, по узкому коридору в дверной проем, по аллее столетних дерев за поля и горы, моря и реки зло змеится в полную, непроглядную темень, в непроглядную, беспросветную тьму-тьмущую и, лишенное тепла и света, околевает до тех пор, пока его не тронет ласково первый утренний свет. Вот и вывод: сколько добра ни делай, столько и зла сделать придется – надежно это равновесие, и никакого противодействия».
Войско
Такая оглушающая тишина стоит (ни стона, ни всхлипа), что хочется закричать что есть сил, крик обрывается сам собой, когда замечаешь: какая тишина вокруг, еще не улеглась пыль, все малые и большие водоемы до краев наполнены кровью, в багряном закате догорают дома, с любовью построенные ради долгой и счастливой жизни. Только вчера закончилась война, закончилась, потому что закончились люди, способные ее вести, позавчера их еще оставалось трое или четверо, сегодня же не осталось никого, кто бы мог спросить, с недоумением озираясь по сторонам, с чего началось это отчаянное смертоубийство, никого, кто бы мог ответить. А уж назавтра жди гостей: прямо с утра сюда сбегутся стаями дикие бродячие псы, слетятся стервятники-одиночки и устроят себе настоящее пиршество, не отличая врагов от друзей, хороших от плохих, тех от этих, лежащих теперь вповалку, в обнимку и как придется.
Через год или два эта земля даст невиданный урожай, только некому будет его собирать.
Смирение
Закрой глаза, и под теплыми веками начнут прорастать семена вязов и буков: все крепче стволы, все нежнее листва, видишь, им уже от роду сто двадцать годовых колец, сурово смотрят вверх множеством веток и листьев, у самых корней их лежит человек, и что бы он там ни думал за закрытыми глазами, он весь принадлежит небу и земле, сначала небу, а потом земле, и немного деревьям, которым дано прорастать и в землю, и в небо.
Истощение
Всю ночь летит старый бражник на лунный свет, сердце предательски выстукивает: устал, устал, устал. Мимо со звоном проносятся одинокие звезды и целые созвездия, хвостатые кометы, человеческий мусор – знай уворачивайся. Думает о жизни, не то чтоб о своей, а вообще. О жизни вообще можно долго думать, всю ночь напролет. Скоро утро, еще одно утро еще одного дня: кухня, дети, жена, кофе без сахара – не увернешься. Устал. Засыпает, вцепившись лапками в черный бархат обратной стороны луны.
Созерцание
Если бы голова моя была наполнена легковоспламеняющимся материалом: сосновыми опилками, например, или мыльными пузырями, я бы без раздумий чиркнула спичкой. Можно себе представить, как с веселым потрескиванием горели бы мысли о вечной молодости и непреходящей (неприходящей) любви. Славные, добрые воспоминания о прежних временах, в которых не было места заботам, при сгорании издавали бы слабый запах розового дерева и жасмина, расплавленных кассетных пленок, быть может, даже донося извращенные звуки хорошей музыки Дебюсси там или Cressida, летние деньки, зимние вечера, которых было так много, что, пожалуй, этот круговорот можно было бы и прекратить. В выгоревшей моей черепной коробке, как в черном ящике, осталась бы лишь информация причинах пожара (чиркнули спичкой, поднесли, воспламенили), больше никакой памяти ни о чем, только в левом углу ящика, там, где раньше был центр управления чувствами, сухой кленовый лист, которого не берет ни огонь, ни время, настолько он первопричинен.
Внутренняя правда
В самой середине разговора моя престарая подруга Лика запнулась, будто о слово камень, и как-то странно рассмеялась, казалось, своим мыслям, но я поняла, что она хочет, но не умеет мне сказать: «Знала бы я, к чему прислушиваться, – поймала бы самую главную внутреннюю волну: будто что-то стрекочет и мелодично побрякивает, причем в левом ухе стрекочет, а в правом побрякивает. Знала б, к чему принюхиваться – почувствовала бы запах младенческой свежести и старческого тлена, входи в одну ноздрю младенческая свежесть, а в другую – разложение и тлен. Знала бы, на что смотреть – увидела бы яблоко: карим глазом, какое оно круглое, голубым, какое оно красное с червоточинкой. Обняла бы первого встречного – с одной стороны, как лучшего друга, с другой – как злейшего врага. Родила бы ему в муках дитя, а оно, ни девочка, ни мальчик, вырвалось из цепких рук видавшей всякие виды акушерки второй смены и укатило в предрассветную даль ближнего Тибета зимним солнцем – следуй за мной, следуй за мной».
Восход
И когда ты все делаешь правильно – целая огромная Вселенная счастлива за тебя, и радуются тебе встречные люди, даже те из них, кто тебе всего лишь недруги по счастью, даже глупые девицы в цветастых платьях, влекущие своим запахом идти вслед за ними по лестницам, лестницам, таким, что черт ногу сломит.
Только ангелы по ним ступают бесшумно, медленно приближаются к воде, встают на колени, чтобы отразиться в морской воде камнями.
Еще не конец
Смерть означает лишь то, что взамен последует много жизни. Родятся дети, помнящие истину, затем внуки, идущие правильным путем, следом появятся на свет совершенно слепые щенки и котята для забавы веселых толсторуких правнуков, собирающих в прозрачную банку мух, небесных коровок, пронзительную саранчу, иссиня-салатовых жуков, которых наверняка не найти ни в одном определителе насекомых, и напоследок придет тот, кто научит нас радоваться жизни от всего сердца, головы и живота, как это умеют делать лишь дети.
Юрий Арабов
/Москва/
О Снах/Из книги «Механика судеб/
О снах в XX веке писать едва ли прилично. Мировая литература, устав от непредсказуемых жестокостей так называемой реальности, ушла в дебри подсознания и заснула столь крепко, что и новое тысячелетие, стучащееся в двери, не обещает, кажется, счастливой и веселой побудки: сон станет еще крепче, еще тяжелее и будет отягощен кошмарами виртуальной реальности настолько, что ни керосиновая лампа Фрейда, ни карманный фонарик Юнга не разгонят, пожалуй, наступающих сумерек.
Я не психолог и не физиолог. Мой интерес к психоанализу не простирается дальше необходимых любому среднему человеку знаний о природе наших чувств и некоторых не слишком приятных привычек. Я пишу эти строки вовсе не для того, чтобы похвастать перед читающей публикой богатством воображения. Более того, воображения в моих записках не будет вообще. Они почти что строго документальны. Для документальности полной не хватает лишь дат после некоторых сообщений о тех или иных образах. Зафиксировать их на бумаге меня заставляют исключительно интерес к потустороннему и та еще зыбкая надежда, что, возможно, у кого-то, кто прочтет эти записи, случается во сне то же самое и его посещают те же видения. Если кому-то из психиатров покажутся мои рассказы интересными и они обрадуются, встретив «своего пациента», я буду только рад, при условии, конечно, что они, психиатры, будут находиться в своих клиниках, а я – в собственном пространстве поэта, с трудом отвоеванном у нашей славной действительности.
От описаний кошмаров я отказываюсь сразу– это слишком просто и слишком выгодно.
Так же как и от психоаналитических интерпретаций – сделать это не представляет труда. Ведь все интерпретации, в конечном счете, сводятся или к оральному, или к анальному фактору.
Соглашаясь заранее на оба (чтобы не вызвать к себе естественного подозрения), скажу только, что поделюсь лишь некоторыми из образов, теми, которые не подразумевают, на мой взгляд, прямого психоаналитического ответа.
Они-то и мучают меня больше всего.
В течение примерно трех лет до 1988 года ко мне приходил ночью один и тот же образ: мощный пологий берег у широкой и могучей реки, такой реки и такой природы я еще нигде никогда не видел. Высокая зеленая трава примерно в человеческий рост.
Вековые березы, часть из которых повалена на землю. Величественный горизонт на другой стороне реки и голубоватые дремучие леса, стоящие стеной… Я отталкиваюсь от склона ногами и лечу вниз, раскинув руки. Приземляюсь в речном песке, чуть-чуть замачивая ступни ног. Вода в реке чистая, холодная и сладкая на вкус.
Из этих снов вспоминалось, в основном, ощущение радости, которую таил этот крутой склон, да поваленные на землю вековые березы.
В июне 1988 года я попал в город Рыбинск, где в местном киноклубе показывал один из своих только что вышедших фильмов. В благодарность за «интересную встречу» меня на следующий день взяли на пикник за город в одну довольно глухую деревню, в которую нужно было добираться по волжской воде. Следя за разливами небывалой реки и любуясь лесистыми берегами, я не предполагал еще того эмоционального шока, который испытаю, сойдя на берег.
Наш «Метеор» пристал к небольшой пристани, от которой деревянная лестница вела прямо наверх, в небо, потому что речной склон здесь был особенно крут. Пыхтя, мы поднялись по ней, перешли овраг по старому мосту… и я вздрогнул. Потому что сразу попал внутрь собственного сна, который виделся мне в последнее время.
Изумрудная трава в человеческий рост. Старинные березы, сбегающие по крутому склону к воде. Часть из них повалена ветром и молниями. Когда мы окончательно поднялись наверх и пошли к деревне, то я увидел горизонт и лесные дали Пошехонской стороны, где, как мне показалось, не ступала нога человека. Роса под ногами превращала каждую травинку в ландыш. Мне захотелось поступить так же, как я поступал внутри сна, – раскинуть руки и полететь. Но, боясь прослыть Катериной из пьесы Островского «Гроза», я сдержался, думая про себя, что значит сие чудо.
Поскольку со мной это происходило уже второй раз в жизни, то разум, пока мы шли четыре километра к деревне, смутно подсказал мне, что с этим местом должны быть связаны какие-то важные события в будущем и что мне следует быть начеку, как охотнику, подстерегающему дичь.
Когда мы пришли, наконец, в деревню, то я сразу же стал спрашивать моих знакомых, не продается ли здесь дом… Теперь, уже на протяжении семи лет я вижу склон, сначала приснившийся мне, с весны до осени. Вижу наяву, хожу по нему, когда собираюсь в город за покупками, купаюсь в реке… Отсюда особенно хорошо наблюдать за закатами – широкий речной разлив делается розовым, иногда слышно, как плещет рыба, потому что движение по реке вечерами замирает, многочисленные маленькие речушки, впадающие в главное русло, делают его похожим на ствол гигантского дерева с корнями.
Как и в первом случае, сон прекращает сниться, конфигурация его распадается, как только ночной пейзаж найден в реальности. Овеществившись, сон исчезает, пропадает в вечности, откуда он и вышел.
И последний пример подобного рода…
Кажется, зимой 90-го года мне привиделось ночью, что я и моя близкая подруга-поэтесса попадаем в Соединенные Штаты. Нас ведут на какую-то крепостную стену и показывают город с высоты птичьего полета. Раннее утро. Сверху видны железные полоски трамвайных линий, блестят купола православных церквей. День, как часто бывает в моих снах, сероватый, но теплый. Я, сидя на стене, удивляюсь странностям Америки: хоть и другая часть света, но в ней, оказывается, все то же самое, что и в России…
Я проснулся и сначала хотел посмеяться своему дурацкому сну. Однако, начав вспоминать его в деталях, внутренне насторожился. Несмотря на его дурацкость, он был уж слишком явным, отчетливым и внятным по сравнению с тем нерасчлененным маревом, которое часто залезает в голову по ночам. Что значит «явным»? А то, что кроме резко очерченных визуальных объектов в нем присутствовали эмоциональность, диалоги, включая внутренние, в общем, сон был вполне жизнеподобен.
Я до этого не был в США, я никогда и не думал, что могу попасть туда. Но оказался в Америке «совершенно случайно» весной 91-го, причем именно с той поэтессой, с которой я был внутри сна…
Но если бы здесь все было так просто, то я бы не стал марать бумаги, – мало ли кому что снится, внутри сна я, наверное, мечтал об Америке и наконец очутился в ней без всякой помощи со стороны сноведения… Нет, все это неинтересно и не стоит труда об этом думать.
Любопытно здесь другое. Дело в том, что я все-таки нашел позднее тот пейзаж, в точности и достоверности, который мне приснился в 90-м году И крепостную стену, на которой я сидел уже в действительности, и город подо мною, и трамвайные пути, и луковки церквей. И удивительнее всего, что рядом со мною опять находилась подруга-поэтесса из сна, с которой я был в реальности в Америке, а вот теперь здесь…
Естественно, что к США этот пейзаж не имел никакого отношения. Это был Смоленск, вид с крепостной стены, расположенной на холме в районе главного кафедрального собора.
Я сидел на этой стене, болтал ногами и снова, в третий раз, видел свой сон наяву.
В этом последнем случае интересно то, что в одном видении 90-го года наложились друг на друга два разных события из будущего – поездка в США и приезд в Смоленск на поэтический фестиваль. Позднее с этим городом были связаны важные события в моей жизни. Так сновидение в который раз дало мне свой знак, свою отмашку, заставившую меня в жизни быть пристальней и осторожней.
* * *
А сейчас самое время перейти нам к самой загадочной категории снов, которые приходят в голову совсем уже редко. Их можно в полной мере назвать страшными не по тем чудовищам, которые в них обитают (чудовищ там нет), а по тому потрясению, которое они оказывают. Потрясение это не только нравственного, но и физического характера – у меня начинает ныть кожа на голове, ноги чувствуют напряжение и усталость, будто прошли десятки километров.
Да и снами их в полной мере назвать нельзя. Это, скорее, ночные видения, более явные и конфигуративно насыщенные, чем все сны, которые я видел и которые постарался описать выше.
Это какие-то прорывы в неизвестное пространство, внутри которого живешь полной жизнью, говоришь сам с собою, строишь планы и осмысливаешь увиденное.
Первый такой прорыв настиг меня тогда, когда я еще не имел опыта осмыслять и записывать увиденное ночью. Но «сон» настолько меня потряс и настолько был явственным, что я тут же набросал основные его сюжеты в записную книжку, куда обычно записываю всякий хлам, который приходит в голову. К сожалению, эта записная книжка пропала, затерялась в десятке ей подобных. Я не имею привычки бережно хранить написанное. В данном случае эта моя черта сыграла самую негативную роль. Возможно, книжка еще когда-нибудь отыщется. Но сейчас я вынужден описывать свой «прорыв» по памяти, как мы обычно делаем с событиями, происшедшими с нами наяву. Этот метод не очень подходит к моим «прорывам», так как важные обертоны, детали и разговоры теряются в закоулках времени и сознания. Но что делать, лучше мало и неточно, чем вообще ничего.
Это случилось примерно в 80-м году весною и было связано со смертью человека, который не казался мне близким. Он был одним из двух моих преподавателей, которые учили меня «мастерству кинодраматурга» во всесоюзном киноинституте.
Звали его Евгением Сергеевичем. Весною 80-го он умер от рака. Незадолго перед смертью я был у него дома вместе со своими сокурсниками. Выглядел он. плохо, уже не вставал с постели, был белее степы, но старался шутить, демонстрируя твердость духа, вернее, характера, которая была вообще присуща поколению, родившемуся в 20-х годах.
Часть шуток имела вполне сальный характер, он, в частности, рассказывал, что самое тяжелое в его положении – физическая разлука с женой. Чтобы не чувствовать себя одиноким по ночам, он клал с собой в постель канделябр, изображавший голую бабенку в античном стиле…
Встреча произвела на меня тяжелое двойственное впечатление. Вскоре Евгений Сергеевич умер. Мы сожгли его тело в Николо-Архангельском крематории и вскоре, как положено «живым», забыли об этом скорбном событии. Повторяю, что никакой духовной близости у меня с покойным не было, более того, некоторые черты его характера и биографии мне были неприятны, даже враждебны. Но через несколько недель после кремирования я снова увиделся с ним. Глубокой ночью.
«Заблудился я в небе, что делать…» Эта строка Мандельштама лучше всего иллюстрирует начало моего видения. Я оказался в небе. Но небо это было каким-то странным.
Лишенное солнца, вязко-материальное, без птиц и облаков. Наверное, так наше сознание иногда представляет себе понятие пустоты.
Внезапно в этой вязкой пустоте возник остров из облаков. Я приблизился к нему и оказался в каменистой пустыне. Она напоминала вершину горы. Серые камни, чахлая растительность, небо, лишенное синевы, смотреть на которое неинтересно. Когда первое удивление прошло, я заметил, что на этом пустыре, отделенном от остального «мира» грудой облаков, существуют некоторые «искусственные» объекты. Они представляли собой небольшие каменные склепы, лишенные дверей. А точнее, если бы вы сделали карточный домик, но вместо карт были бы каменные плиты. Крыши плоские, крайне примитивные, вообще все здесь напоминало какую-то каменоломню. Проста взяли каменные глыбы, положили друг на друга и оставили, не достроив. Даже дверей не сделали. Про себя я окрестил эти строения саклями.
Они были чрезвычайно узкими. В них невозможно было сидеть– только стоять. Сакли сооружали как бы под рост среднего человека.
Сколько их было? Я видел примерно пять. Явственно помню каменные пороги и чахлую траву, растущую мутными пучками. Естественно, что по своему любопытству я захотел тут же проникнуть в один из склепов. Подхожу к порогу, хочу переступить и… не могу. Не поднимается нога, весь цепенею, и нет сил сдвинуться с места.
И вдруг я слышу голос. Голос покойного Евгения Сергеевича. Если бы я нашел свои записи, сделанные непосредственно после видения, то слова покойного были бы более убедительны. Как это часто бывает в снах, речь его была в формальном смысле странной, запутанной и одновременно с этим очень ясной по смыслу. Смысл я запомнил, а вот форму, увы, потерял. А вместе с ней и определенную достоверность события.
Евгений Сергеевич сказал мне, чтобы я прежде всего на него не обижался, что он всегда любил меня и даже, как мне показалось, чувствует небольшую вину передо мной.
Какая вина, зачем?.. Я был в полном недоумении, одновременно с этим растроган. Повторяю, что с покойным у меня не было при жизни доверительных отношений, они были скорее натянутыми.
Я попросил его показать себя. Е.С. сообщил, что не может этого сделать, так как я все равно его не увижу. Что вообще это место не для меня и чтобы я не делал больше бесполезных попыток переступить порог сакли. Внутри ее я быть не могу, потому что подобные сакли-склепы сделаны только для таких, как он. Откуда шел его голос? Определенно не из сакли, а изнутри меня.
Я спросил его, бывает ли в этом месте Бог? «Нет, – ответил он, – Бога здесь нет». Но нет и черта. Так же, как и на «небосклоне» никогда не бывает солнца. Здесь вообще никого нет. Это место как бы создано для того, чтобы отдельный человек смог без посторонней помощи и влияний осмыслить прошлую жизнь. И, возможно, подготовиться к будущей. Из его слов у меня создалось впечатление, что остальные склепы-сакли пусты…
Здесь он сказал очень важные слова, касающиеся моей будущей судьбы. Форма их, построение фразы было совершенно запутанным, так что я не буду перекладывать их на обычный «дневной» язык, но смысл, в общем, был благоприятен для меня.
Самым главным качеством его слов было пронзительное чувство любви и прощения, до того сильное и необычное в «устах» бывшего коммуниста и контрразведчика, что я заплакал.
Вот, собственно говоря, и все. Я не помню, как «вышел» из этого мира, кажется, без особого труда. Проснувшись, кратко записал увиденное.







