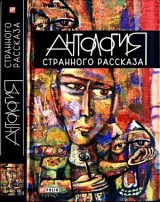
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 39 страниц)
Рудольф Котликов
/Чикаго/
ВойнаПо вечерам, когда я штудировал «Тускуланские беседы» божественного Марка Туллия, я часто слышал за стеной моей комнатки, скорее чердачной каморки, тихие стоны. Нет, они не отвлекали меня, но волнение днем за днем все более проникало в меня, а может, это было простое любопытство. Так или иначе, я решил проникнуть в тайну этих стонов. Я выходил на черный ход, но видел накрепко заколоченную дверь. Однажды, неожиданно, я заметил в стене на винтовой лестнице маленькое окошко с выбитым стеклом. Тусклый свет окошка скупо освещал лестницу и грязные стены черного хода, слышался звук падающей воды.
Я прильнул к отверстию и в желтом облаке пара увидел женщину. Она стояла в почерневшей от времени ванной и, кажется, мылась.
Я мигом спустился вниз и позвал товарища моего Сигизмунда. Вместе мы смотрели на нее сквозь пары, любовались неясными очертаниями. Мой товарищ был слепой, и я как бы переводил ему виденное. Потом свет погас, вода течь перестала, будто ничего и не было. Я проводил своего товарища и вернулся к себе.
Я ломал голову, ведь дверь-то забита, кто же это мог быть. Решил спросить соседей.
На большой кухне было шумно и празднично. Соседки в расстегнутых халатах и засаленных передниках готовили еду, стирали в корытах белье, которое пересекало веревками всю кухню; пар из кастрюль, чад примусов и керосинок живописно задымил кухню. Между делом соседки перебрасывались полубранными словами, а мужчины в пижамах или галифе с выбившимися сиреневыми нижними рубашками подбадривали их и смеялись хрипло, крепко затягиваясь окурками. Я с трудом привлек их внимание:
– Слыхать, кто есть напротив, стонут там по ночам…
– Кошки, должно быть, – согласились соседи, – дверь-то заколочена давно.
– Раньше там дворничиха Нюрка жила, – кто-то вставил, – она с истопником сбежала.
Не верил я соседям, потому как крики и стоны слышал по ночам, а окошко на лестнице само собой исчезло. Я спустился в наш двор-колодец, где над домами нерешительно завис клочок неба. В углу двора на куче угля пристроились по нужде две новые дворничихи. Я хотел было обратиться к ним за разъяснениями, но они грубо крикнули:
– Проходи, олух, обоссу за грош!
Они били меня по спине дробным хриплым смехом. Во флигеле разместилось домоуправление. В передней сидели слесаря среди битых стекол, прогнивших оконных рам, ржавых труб. Они склонились над дощатым занозистым столом, громко и азартно стуча домино. Я спрашивал их, но они наливали водку в мутные стаканы и смеялись. Я прошел к технику-смотрителю, но, видно, у него было собрание, сквозь дым слышались громкие голоса, споры. К самому домоуправу я вошел на цыпочках. В модной полувоенной форме и больших очках с полубитыми стеклами, он склонился над письменным столом, заваленным бумагами. В его неподвижной руке замерла ручка – вечное перо, домоуправ спал. Я кашлянул, сморкнулся, икнул, шаркнул ногой. Домоуправ поднял осоловелые глаза и дернул головой. Я развернул свой вопрос большим ярким плакатом. Домоуправ неловко почесывал голову пятерней. Нарастающее жужжание мух выбило меня из колеи, я как бы забыл, о чем спрашивал.
С потолка свисали липкие ленты для ловли мух, и громадные черные их тела лоснились от тонких лучиков солнца, осторожно просачивающихся в окно. И вот уже вместо мух я увидел убитых солдат, распластанных на клейкой бумаге, как на поле боя. Мысленно пытался отогнать видение, но не смог. Всему виной было утомление, бессонные ночи.
– А ты постучи, – неожиданно бросил домоуправ. Он снова заснул, и храп его слился с жужжанием мух. Взор мой опять упал на полосы клейкой бумаги, и среди мух я увидел домоуправа, разглядел даже слесарей. Тихо вышел из кабинета и вернулся к себе. Аккуратно вынул из комода давно приготовленную рюмку водки и опрокинул ее. На черной лестнице пахло вечерней свежестью и выстиранным бельем. Забитая дверь притягивала меня, как запретное. Я постучал – дверь, уж и сам не знаю как, открылась моему любопытству, и вот я в комнате. Переминался с ноги на ногу и застенчиво смотрел на носки своих ботинок. Голос ее был глубок и, казалось, исходил из глубины, недосягаемой для воображения. Так по стенке я добрался до нее совсем близко и опустился на колени перед высокой кроватью.
– Кто ты? – спросил я, глядя в ее глаза. – Кто ты? – и вопрос мой коснулся ее зеленых лучистых глаз, так обжигавших меня, что я забыл обо всем.
И улыбка вдруг осветила ее внутренним светом, и она сказала:
– Ты один, первый пришел ко мне… Богиня я, забытая и потерянная во времени. Эпохи рушатся, громко стуча столетиями, но никто не вспоминает обо мне…
Застонало мое сердце от несправедливости, нагло разгуливающей по дорогам жизни, застонало от лозунгов зла, транспарантов насилия, заныло от многочисленных революций, пожирающих народ.
– Не забуду тебя, не покину, – задыхаясь кричал я, горячо целуя ее колени. Быстро соорудив из нехитрой мебели что-то вроде пирамиды, я ловко взобрался на ее постель. Проклиная глубокие складки, в которые то и дело проваливался, я, наконец, с ее помощью добрался до нее и сразу приник к ее телу, которое показалось мне неожиданно холодным. Глубокое человеческое чувство охватило меня – вот истинное одиночество на грани величия. Мысли и чувства мои смешались в один комок, тяжелый видимый комок, который, однако, быстро растаял от ее жаркого, порывистого дыхания. И застонала богиня тихо и протяжно, и обхватила меня длинными руками, связала меня темными косами. Заметались оконные рамы, словно бурые прелые листья от холодного осеннего ветра, заструились по комнате тонкие косы, и показалось мне, что я заблудился на лестнице столетий, и богиня моя не подвластна человеческому разумению.
Я увидел, что похожа она на большое и темное облако, и тогда вошел в меня страх, но он не смог оградить меня от ее всепобеждающего взгляда и не сохранил меня.
Когда рассеялся предутренний туман, я обнаружил себя на городской свалке. Высокие фабричные трубы вырастали за горизонтом, и шум города едва достигал сюда. Я хотел было подняться, но заметил, что я не весь.
Кое-как собрал, но многого все же не хватало. Едва добрался до города. Улицы города были праздничны, люди вышли на субботник, с песней работа спорилась. Я блуждал, как оторванный, чужой, я забыл о доме. Где он? Недостаточный и ущербный, я все же смог кое-где дорисовать, а кое-где наклеил из газетных вырезок, таким образом воссоздал видимость целого. Блуждая по улицам, встретил одного из сослуживцев.
– Сима! – закричал я.
Он обрадовался. Снова служба.
– Где был? – удивлялись сослуживцы.
– На войне, – коротко бросал я наугад, пытаясь отделаться от назойливых вопросов.
– Война… что это? – спрашивали они. Рылись в словарях, но ничего не нашли.
Снова окружили меня:
– Война? Но что это?
Я махнул рукой:
– Вот все вокруг, вы сами, я, все есть война…
Они отошли в сторону кучкой, шептались, но не могли понять. Тогда подвел я их к окну и указал:
– Вот война!
И в моих глазах замелькали светлые лоскутки, сотканные из забытых далеких снов, и я увидел поле боя, атаку, а среди жаркой схватки – скрипач. Бешено мелькает в его руке тонкий смычок. Вокруг падают бойцы, а смычок трепещет, и чудные мелодии содрогают тревожный воздух войны. Но вот и скрипач упал.
Лег на землю, пропитанную ненавистью, а скрипка все не расставалась со смычком, легкая мелодия сливалась с неподвижным небом. Набежавшее облако стерло видение. Среди наступившей тишины я увидел женщину. Она медленно выплывала из тени. Поднялся тогда скрипач навстречу, и вошли они друг в друга, растворились, как облако в облаке. Встряхнулся я и сказал:
– Вот война…
Улыбнулись сослуживцы:
– Люди идут по делам, машины снуют, бытом зовется это, но не войной.
– Да, быт это, – согласился я, – быт и есть война.
Дома соседи с любопытством выглядывали сквозь узкие щели скрипучих дверей.
– Друзья! – я протянул руки, но они быстро исчезли за темными плитами стен. Я с радостью бросился к книгам, без меня они покрылись толстым слоем пыли. Но услышал за стеной стон. И сердце мое покатилось, как мячик, к ее забитой накрепко двери. Нет, не забыл я ее. Глаза ее зажглись большими яркими звездами.
Она с нескрываемым любопытством рассматривала и ощупывала меня.
– Осторожно, – предупредил я, – не порви.
– Ты бумажный!? – воскликнула она.
Я с гордостью кивнул. Это меня и погубило.
Обнаружил я себя на знакомой свалке. Сразу заметил нехватку. Пытался двигаться, но тщетно – слишком многого не хватало, почти ничего не осталось, лишь жалкий кусочек живой мысли. Не думал я, что вторичный распад будет так смертелен.
– Вот и вся недолга, – сказал я себе. Я приготовился к тоскливому существованию в пределах неподвижности.
Всматриваясь в окружающее, скоро заметил соседа по квартире – вернее, часть его. Быстро отвернулся, да и он сделал вид, что не узнал меня. Но совсем рядом вдруг обнаружил сослуживца, затем далее еще одного и еще, и уже не мог скрыть радость, увидел директора и старшего мастера, они кивнули мне с печальной улыбкой. Скоро я нашел и домоуправа без стола, и слесарей без домино, и товарища моего Сигизмунда – частичные, ущербные и недостаточные – тот живой мир, ЖИВОЙ МИР, который я привык видеть вокруг.
Радость и смущение от встреч быстро прошли, и мы скоро позабыли друг о друге и не видели больше друг друга, будто нас и не было вовсе. Дни шли за днями строем. Редко кто забредал сюда из прошлого. Однажды медленно прошел одинокий старый человек в рваной обгорелой шинели. Шел, низко опустив голову, вроде что-то искал или потерял. Увидя меня, наклонился и долго внимательно разглядывал, прищурив глаза. Свалка казалась бесконечной, а трубы на горизонте сливались с прозрачным воздухом. Окружающий меня мир, неподвижный мир, стал МОИМ МИРОМ, НАШИМ МИРОМ, а те люди, которые забредали сюда случайно из прошлого, казались мне чужими.
Рафаэль Левчин
/Чикаго/
Двадцать девять путей любви/По мотивам одноименного рассказа /Джозефа Миллса/
И в первый раз мы любили друг друга, когда она впервые склонилась ко мне в поцелуе, когда её лицо приблизилось к моему, когда она разомкнула свои губы и наклонила голову влево – или вправо, и космос съёжился до этого крохотного места. Острый угол её скулы казался линией горизонта, скользя всё ближе.
И в следующий раз мы любили друг друга, и всё было мягким, спокойным, всё было тающим, набросанным карандашом и нарисованным акварелью, и роса была повсюду, окропившая всё и вся, и дрожь, чудесная дрожь между лопаток.
И однажды ночью мы любили друг друга, и вот, восхитительный миг в полутьме её комнаты, её комнаты с маленькими коричневыми воробьями, летевшими в фаланге на обоях, когда её платье из набивной ткани в цветах падает на пол впервые, и шелест её одежд – единственный звук в молчащем мире, и это как если бы с великолепной картины снимали завесу перед высокими гостями, чьи дрогнувшие руки сжимают флейты, заполненные шампанским, и белые цветы её одежд заполняют крохотную комнату своим ароматом, пока они падают, бледные лепестки струятся вокруг её ног, и руки её стыдливо скрещены на груди, и неожиданное ощущение невесомости проходит сквозь меня, как если бы пол ускользал из-под моих ног, и так мы оба падаем, и мы падаем в объятия друг друга, и, ударившись о стену, в постель, и мы падаем, падаем, мы впадаем вместе в нашу любовь.
Однажды ночью мы любим друг друга, и когда мы целуемся, наши поцелуи запутываются в наших словах, потому что мы так счастливы и так влюблены, что наши губы просто не могут решить, что же им предпочесть.
Однажды ночью мы любим друг друга, и когда она снимает свои чулки, я вижу на её бёдрах следы от тугого эластика, неглубокий след, розовый на белом, и я обвожу его пальцем, как ободок бокала.
Однажды ночью мы любим друг друга, и утром она вдруг сконфужена, вновь отчуждёна, стыдясь своей наготы и несвежего дыхания, пытаясь спрятать небритые ноги и родимые пятна.
Но однажды ночью мы любим друг друга, и когда она стоит передо мною обнажённая, она так обнажена, словно ангел, обнажена от головы до кончиков пальцев ног и от носа до пупка. В её открытом рту я вижу её обнажённый язык склонённым, и когда она улыбается, я вижу каждый её зуб, тоже стоящий обнажённым, бледным и содрогнувшимся, и я вижу её открытые глаза, обнажённые и беззащитные, немигающие.
Однажды ночью она стоит обнажённая передо мною, и она обнажена, как нагая греческая статуя, которая не то чтобы совершенна, но скорее преисполнена содержанием, раскрывающая идеи и культуры своими розовыми бёдрами, сдвигающимися и раздвигающимися, разъясняющая философию своими твёрдыми сосками, несущая радость в одной колеблющейся груди и эстетику в другой, и я пристыжен, стоя перед нею голым, всего лишь голым, дрожащим и тощим. И однажды ночью мы любим друг друга, и мне дано узреть счастье, что движется по поверхности её кожи великой вол-ной от кончиков пальцев её ног до короны на её голове, и знаю я, что для неё в этот миг я благословен быть источником и орудием счастья, глаза широко раскрыты и смотрят, как движется и пульсирует всё сквозь всё в творении, смотрят, как башни шатаются и мосты разламываются, континенты крошатся в пыль, и океаны взрываются пламенем, и нет уже слов, чтобы описать, что это значит: быть свидетелем её внезапного содрогания – обратно, в глубины себя, глаза её закатываются, слепота под её веками, объятие своими же длинными руками себя самой, пожирающей себя своим же алым ртом, словно змея, заглатывающая свой хвост, опоясывая мир.
И однажды ночью мы любим друг друга, и мы познаём, что этой любви предназначено стать любовью воистину библейских масштабов, и для именно этой любви пылают пламень Ветхого Завета и адская мука страсти, и закон этой любви – око за око и зуб за зуб, и это Пылающий Куст, и Содом с Гоморрой, и разделение Красного моря, и она побуждает меня заговорить на всех языках и узреть Святого Духа, и когда она касается меня, я слышу Глас Божий, и это низкий стон и вздох, знойный, глубокий и вязкий от вожделения, это шёпот сладостных непристойностей и чудесных бессмысленностей, и я люблю, когда она седлает меня в свете дня, когда она скачет на мне верхом, с её невинной белой кожей, её невинной мягкой плотью и мягкими невинными очами, и я люблю, когда она обвивает меня в свете дня, словно облачная колонна, и я люблю, когда она седлает меня в ночи, когда она изгибает свою спину надо мной, когда с пылающим лицом и разметавшейся гривой она пламенеет надо мной, словно огненный столб, ведущий меня прямо в Землю Обетованную.
Однажды ночью мы любим друг друга, и я целую её во все наименее гостеприимные места. Избегая мягкого комфорта груди, щёк и бёдер, я осыпаю поцелуями её смешные коленки, твёрдые выпуклости её лодыжек, острые углы её локтей. И так я говорю ей: вот это и есть любовь.
Однажды ночью мы любим друг друга, и потом она рассказывает мне: «Когда я полюбила в первый раз, я полюбила преклонять колени. Тогда я была девочкой и была по уши влюблена в распятие, которое висело над алтарём в моей церкви.
Я так запала на Иисуса, потому что он был прекрасным и слабым, но и сильным под конец, и я думаю, что Иисус на распятии в моей церкви был скопирован с идола дневного сеанса пятидесятых, чтобы привлечь подростков, у него были ямочки на щеках и на подбородке, как у молодого Кирка Дугласа, и каждое воскресенье в церкви во время службы я воображала, что он мой парень, и, о, я обожала, как выглядело его тело, потому что его раны делали его таким крутым, а его лицо было таким грустным, что я мечтала расцеловать его, изгнать поцелуями всю грусть из его глаз, на которые так стильно свисали его длинные волосы, и мне казалось, что его набедренная повязка вот-вот свалится и шлёпнется на пол, вот был бы скандал, и моя бабушка говаривала, что Иисус был единственным мужчиной за всю историю, который был ровно шести футов ростом, все прочие были или слишком короткими, или чересчур высокими, а его тело, повторяла она, было совершенным, и любовь его была совершенной, и у меня были кружащие голову мысли о том, каким совершенным любовником был бы он, и я не могла дождаться второго пришествия, потому что я была уверена, что каким-то образом мы заметим друг друга в переполненной комнате и влюбимся, вообрази только, Иисус и я на вечеринке с коктейлями, и в церкви, где все поют гимны, я волновалась, а как же его фамилия, и стану ли я миссис Христос, или миссис Галилеянин, а то, может, миссис Плотник, и я просто вся краснела, принимая причастие, потому что это же было просто жуть до чего неприлично и сексуально – проглатывать тело его и кровь его, и в ночи, когда я молилась у изножия моей кровати, мои молитвы были похожи на любовные письма, и, боже мой, как я мечтала пропитать их благовониями…».
Однажды ночью мы любим друг друга, и в библиотеке на следующий день я собираю с полок все экземпляры «Божественной Комедии» Данте, вычёркиваю в них имя Беатриче и вписываю карандашом её имя взамен.
Мы проводим день в зоопарке и, вдохновлённые, спешим домой любить друг друга, словно пара золотых львов, пыхтящих в зное джунглей, словно пара орлов, кувыркающихся вдвоём в полёте сквозь голубизну небес, занимаясь любовью в кучевых облаках и в солнечном сиянии, и словно пара лососей, плывущих вверх по течению против невероятного потока, и словно дельфины, высвистывающие сладостные бессмысленности друг другу в уши, и мы любим друг друга, словно пара облезлых бродячих котов, и её загривок крепко сжат моими зубами, и мы любим друг друга в стиле богомолов, и вот уж моя голова отхвачена на самом исступлённом пике восторга, и мы любим друг друга, точно имитируя любые существа, известные человеку, копируя любовную подводную акробатику голубых китов и брачный танец мельчайших амёб, расщепляющихся пополам со вздохом, пока наша постель не становится виртуальным Ноевым ковчегом, где каждой твари по паре, готовой к водному апокалипсису и потопу во имя любви, дабы вновь заселить все миры с силой и искусностью любовного желания.
Однажды ночью в летней жаре, когда даже мысль о прикосновении другого невыносима, мы придумываем изощрённые новые возможности для занятий любовью, научившись необходимости любиться прохладно и бесстрастно, словно посторонние или научные работники, словно бухгалтеры, словно пара, состоящая в нудном браке уже сорок лет, и мы учим друг друга заниматься любовью через всю комнату, целуя тела друг друга низким жужжанием телефонных проводов и кликаньем телеграмм, обмениваясь ласками с помощью языка знаков и ярких сигнальных флажков, научившись любиться так, как маяки – с кораблями в море, как спутники – с телевизионными антеннами, как телескопы – со звёздным светом, научившись, ода, любить на расстоянии. Однажды ночью мы любим друг друга в темноте и затем выводим слова на телах друг друга, чертя их кончиками пальцев на коже и вглядываясь, может ли каждый из нас прочесть и понять то, что написано другим, дешифровать код касаний, перевести его в язык и потом вновь в прикосновения, выводя тайную информацию, слишком глубоко запрятанную от наших глаз, чтобы читать её вслух, на коже, напряжённой и бледной, как бумага: Я В Тебе. Мой Милый. Будь Моей. Я Так Одинока. Я Не Хочу Сделать Тебе Больно. Я Боюсь. Я Боюсь Обидеть Тебя. Я Боюсь Любви.
Однажды ночью мы любим друг друга просто касаниями, просто прижимая кожу к коже, и когда мои руки бродят по ней кругом, словно Барышников и Нижинский, и её длинные ноги – прима-балерины в пачках и на пуантах, и мои пальцы прыгают по её телу, словно по сцене, и её ноги совершают пируэты, и она касается меня руками, словно перьями, так нежно, как если бы её руки были крыльями ласточки, а осторожность и нежность её прикосновений заставляет меня ощущать себя хрупким и драгоценным, и она касается меня руками, у которых, должно быть, есть невидимые глаза на ладонях и кончиках пальцев, столь щепетильны и умелы эти касания, и она касается меня руками, которые мягче касаний её дыхания, и она проводит своими руками по всему моему телу, как если бы она провела по мне своими губами и своим выдохом, чтобы коснуться весом выдыхаемого воздуха моей груди и моего живота, и предплечья, и локтя, и запястья, и плеча, и горла, и она касается меня так мягко, что всё в мире становится закруглённым, пышным, гладким, словно бы ждущими ребёнка бёдрами и грудью, и когда она касается меня вот так, то четырехугольная комната неожиданно лишается углов, и бриллианты неожиданно превращаются в жемчужины, и когда её ладони вот так скользят по мне, то квадратные карты становятся вращающимися глобусами, и, когда она касается меня, она касается меня так мягко, что самые сообразительные ученики в классе в одночасье становятся тупицами, и на каждом обеденном столе во всех ресторанах мира вилки неожиданно превращаются в ложки, и окна – в иллюминаторы, и футбольные мячи – в баскетбольные, и коньки – в неповоротливые снегоступы, и кубики Рубика – в обручи хула-хупа, и каждое слово в Оксфордском словаре, которое включало в себя зазубренное «3», теперь сменило его на округлённое «С», и когда она касается меня так, то кажется, будто этот мир стал неожиданно таким мягким и гладким, что даже Эйб Линкольн, Карл Маркс и Моисей проснулись утром чисто выбритыми, и в ответ я прижимаюсь меж двух её грудей, которые так похожи на два сугроба, что заставляют меня ёжиться, и я прижимаюсь к гладкой твёрдой плоти подошв её ног, и я прижимаюсь к шёлку её горла, и я прижимаюсь к пуховой подушке её живота, и я высматриваю тесное местечко между одним её рёбром и другим, и я трусь о шероховатые ладони её рабочих рук, и о благородный холм её аристократического лба, и в стыдливой складочке, что прячется под её коленом, и в её благоуханной подмышке, и о башню из слоновой кости – её спинной хребет, и о её лопатки, которые, будь она ангелом, были бы, натурально, яркими крыльями, и я проникаю в крохотные поры её кожи, пробиваясь к скрытому тайному теплу её, пронизывая и оплодотворяя каждую расщелинку и желобок её, усердно творя мой путь даже сквозь узенький промежуток меж двумя молекулами, даже в щель света, что обозначает рубеж между одним атомом и другим, неистовый от желания и безрассудный от любви.
И однажды ночью я вползаю в неё весь и люблю её изнутри наружу, потому что я так же точно влюблён во внутреннюю часть её тела, как и в его поверхность потому что я мечтаю увидеть обнажённой скрытую сложную архитектуру тела, его коридоры, спиральные лестницы и сводчатые перекрытия, и я в экстазе от мыслей о тысячах миль её неисследованных кровеносных сосудов, ждущих своего картографа и обожателя, и тёмном блеске её невидимых почек, и нескончаемом ветвлении и переплетении её бронхиальных трубочек, о птицах-близнецах её лёгких, и о запутанных узлах её сухожилий и связок, подобных ленточкам, ждущим того, кто их развяжет, и о её костях, белых, словно стаканы с молоком, высокие и прохладные, и о недавно съеденных завтраках, ланчах и обедах, аккуратно уложенных друг на друга в её желудке, и об электрических золотых рябинках девяноста миллионов её нейронов, несосчитанных и нецелованных, роящихся, словно светлячки, с каждой её мыслью.
И однажды ночью по телевизору в соседней комнате идёт старый фильм, пока мы спорим, вскрикиваем, всхлипываем и вопим, и я помню, как видел краем глаза, что Гэри Грант целует Дорис Дэй, склонясь к ней любовно с нежностью голливудского золотого века, и, пока музыка иронически нарастает, я иду в эту комнату, злясь, чтобы выключить всё это к чертям, и я знаю, что мы всё ещё любим друг друга, потому что, даже против нашей воли, наши худшие ссоры пропитаны поцелуями.
И однажды ночью в разгар ссоры она запускает книгу мне в голову, и это не что иное, как «Песнь Любви» Альфреда Пруфрока.
И однажды ночью она бьёт меня с размаху и врубает мне точно в рот.
И однажды ночью она плачет в постели, и над постелью висит репродукция роденовского «Поцелуя», и лица целующихся спрятаны друг в друге, и её собственное лицо прячется в укрытии подушки, и пока она плачет, я ощущаю себя таким неправедно жестоким, что не знаю, что делать, кроме как ненавидеть её и ненавидеть себя за ненависть к ней, и не выносить её ещё больше за то, что она заставила меня ненавидеть её, и тогда я целую подошвы её ног и её лодыжки, не только для примирения, но и чтобы унизить себя до мига, в котором я уже ничего не могу сделать, кроме как тайно обещать себе тем временем, что когда-нибудь и даже очень скоро я заставлю её поплатиться за это.
Однажды ночью мы бросаемся друг на друга, словно собаки, грызущиеся из-за костей.
Однажды ночью мы любим друг друга, пока её дыхание не вылетает из её рта мелкими стеклянными осколками.
Однажды ночью мы любим друг друга не с поцелуями, а с летающими тарелками и кухонными ножами, кистенями и дубинками. Мы любимся динамитными шашками и самурайскими мечами.
Однажды ночью мы любим друг друга, и жестокость нашей любви становится чем-то обнадёживающим, потому что я точно знаю: чужие не причиняли бы друг другу столько боли. Никогда ещё не было такой исступлённой интенсивности, такой зрелой безжалостности, и наши грудные клетки, сплошь в синяках, расширяются и сжимаются с резким дыханием, наши пальцы впиваются в волосы друг друга. Когда мы любим друг друга, мы одержимы яростью.
Однажды ночью мы любим друг друга, и я боюсь, что могу совсем убить её, сокрушить жизнь в её теле моим телом и моими руками, и я знаю, что, вероятно, единственная причина, почему я этого не делаю, – это не было бы достаточно мучительным. Смерть была бы тихой и успокаивающей.
Однажды ночью мы любим друг друга, и её тело почти безжизненно, и застывшее выражение на её лице похоже на глаз в центре тайфуна. Когда я смотрю в её глаза, я вижу, что сознание, движущееся за ними, тоже безжизненно и спокойно. Я помню изнеможение, слабость. Её кожа глад-кая, свободная от трения, словно полированная. Я помню её затруднённое дыхание, её выражение лица – словно у животного. Лицо, изнурённое желанием.
И в последнюю ночь, когда мы любим друг друга, наша любовь превращается в боль, и боль возбуждает и превращается в любовь, и вновь обратно в боль, порой так быстро, что я не могу прочертить чёткой линии между ними, пока в конце концов и боль, и любовь исчезают. Они превращаются друг в друга так быстро, что, словно вращающийся пропеллер, они размываются до невидимости. Когда это происходит, я чувствую нечто, чему я не могу дать имени, чувство, которое уже не боль и не любовь, но что-то превосходящее то и другое, и на это неназываемое чувство я хочу обменять мою любовь. Я хочу обменять мою любовь и мою боль.







