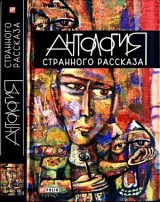
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц)
Александр Иличевский
/Москва/
СпускI
Афган стал осязаем, когда Андрей позвал меня «смотреть цинковые гробы».
Июньский вечер, над дворами носятся стрижи, сверчат в вираже; дети играют в волейбол. Перед подъездом группа парней, красные повязки на рукавах. Мы встаём в очередь, потихоньку поднимаемся по лестнице. В квартире на третьем этаже стоит на табуретках оцинкованный железный ящик с куском стекла в крышке. Женщины держат в пальцах свечи или к животам прислоняют иконы; две бабушки потихоньку воют причет. Мать солдата без слёз сидит у гроба.
Летом того же года в пионерлагере «Ландыш» вожатый Копылов учил нас жизни. Весной он вернулся из Афганистана, от него я впервые услышал слово «духи». Так и представлял, как солдаты воюют с духами.
Копылов рассказывал, как горел в бронемашине, как спасся, а обгоревшего друга после госпиталя комиссовали. Я слушал этого рыжеватого крепыша с интересом, страхом и раскалённым непониманием сути войны, сути страданий и смерти.
Копылов учился в пединституте на учителя физкультуры, и что-то глодало его изнутри. По десять раз за ночь он поднимал нас по тревоге. Я засыпал в носках, чтобы уложиться в положенные 25 секунд, или «пока спичка догорит». После команды «смирно» любое шевеление в строю поднимало Копылова в воздух, и он содрогал его перед вашим носом с помощью маваши гири.
Единственной отрадой в «Ландыше» случилась вожатая Наташа, пересказавшая нам однажды на сон грядущий «Венеру Сульскую» (Копылов в этот вечер отвалил в город). А так там было полно комаров, на мостках через болото можно было нарваться на деревенских, огрести по присказке: «А что вы делали у нашего колодца?!» Приёмник «Крош», доставлявший мне репортажи с матчей чемпионата мира по футболу, украли у меня на третий день. Сосед по койке однажды в припадке выпил залпом одеколон «Саша» и потом тяжко блевал за окно полночи. Кто-то стянул у меня простыню, и я спал на голом матрасе. Мяча футбольного от Копылова было не дождаться. К тому же афганец совсем распоясался, день напролёт гонял отряд по лесу вприсядку, – и мы с Андрюхой сбежали. Искали нас с милицией, но после бешеного афганца милицией нас было не испугать.
Помню распущенные волосы Наташи, как они текут вдоль стана, и как она строго стоит против тусклой лампы, помню её голос. А дикую историю об ожившей страстной бронзе я запомнил на всю жизнь, слово в слово.
II
В моём детстве в Баку поездом было два пути: через Гудермес или через Грозный.
В Грозном отец никогда не разрешал выходить на платформу, без объяснений. Грозный был единственной станцией на протяжении двух с половиной тысяч километров, которая облагалась таким налогом. Так он и остался у меня в памяти, этот город: неизъяснимо грозным.
А в Дербенте было уже можно, и я вышагивал по платформе, взбудораженный морем, только что на подъезде появившимся в окне. Вверху на ослеплённых солнцем отрогах Малого Кавказского хребта виднелись руины оборонительных сооружений – часть стены с башнями, некогда доходившей до самого моря. В этих естественных «фермопилах», в самом узком месте между горами и морем, Сасаниды веками успешно держали оборону от хазар.
Широкогрудые псы с обрезанными ушами заглядывали в лица пассажиров.
Года два назад пасмурным октябрьским утром я стоял там же, под теми же руинами, и видел, как ополоумевшие от страха менты мотаются вдоль состава с автоматами наизготовку, рыскают, по десять раз заглядывают под колёса, в тамбуры.
Ветер выл в проводах и гнал мусор, пакеты полиэтиленовые трепетали на верблюжьих колючках.
III
Теперь разучиться плакать.
Собак по деревням подъели волки.
Тишина настаёт, когда слышишь себя.
Дело было зимой, обув машину в цепи,
мы поднялись из Бакуриани. Катались недолго.
На склоны Кохты внезапно спустилось
снежное облако. Подъёмник остановился.
Последние лыжники, затем спасатели
вспороли молоко, пропали. Я замешкался
и не заметил, как огромная снежная тишина
сомкнулась надо мной. Я снял лыжи,
чтоб не свернуть себе шею, и стал потихоньку спускаться.
Сосны выступали то справа, то слева.
Стволы их казались бесконечными, пропадая в тумане
сразу над макушкой. Гигантская тишина
прильнула ко мне всем сердцем.
Я что-то слышал в ней и не мог очнуться.
Спустился уже в темноте. В столовой
молчаливый повар-осетин разлил в тарелки
мясной соус, дал лепёшку, банку мацони.
Ещё в Тбилиси нас предупредили,
что в здешних местах неспокойно,
осетинские сёла вокруг, какие-то волнения, ружья.
Господи, какими счастливцами мы были,
что не понимали, как может сосед прогнать соседа.
Как военное железо может изуродовать горы.
Зачем дым буржуек коптит стены гостиницы «Иверия».
Сколько нужно нищеты и лжи,
чтобы лишить народ великодушия.
В каникулы мы играли в шахматы и катались на лыжах.
Зло для нас ещё было предметом умозрения,
тем, что содержалось только в книжках.
Даже измена возлюбленной
воспринималась как приключение.
Никто не знал сердцем, что зло есть ложь,
уравнивание живого с мёртвым.
Но вот снова тишина втекает в мозжечок.
Я видел фотографию – лужу на окраинах Цхинвали.
Огромную лужу, через которую шёл осетинский ополченец.
Истощённый небритый старик прижимал автомат
к груди, как ребёнка. На краю лужи
лежал навзничь грузинский солдат,
без ботинок, тощие волосатые ноги, ступни
вытянуты, как на «Распятии» Эль Греко.
Кто-то задрал ему на лицо гимнастёрку.
Впалый бледный живот. Ополченец
опустошённо смотрит прямо перед собой.
Отчего только с оружием в руках
государство называет себя «родиной»?
Отчего вновь так близко время,
как тогда, семнадцать лет назад в лесу, над Бакуриани,
внутри облака, когда спускаясь в кромешной зге,
я слышал, как новая эпоха втекает мне в уши,
целует сердце, морозит насмерть.
Отчего уже третье воскресенье я не слышу колоколов
грузинской церкви в Зоологическом переулке?
Отчего ненависть обряжается в одежды добра?
Отчего Тбилиси сослан в Читу, а древние страны
уравнены с нефтяными компаниями?
Отчего Москва-река теперь стекает в Риони,
а Миссисипи биссектрисой рассекла Междуречье?
(От сильной бомбёжки пустыня
становится треснутым зеркалом —
спекается песок, в нём скользят самолёты.)
Отчего мой лучший друг – грузин,
правнук великого писателя,
пьяный в стельку звонит мне из лучшего
азербайджанского ресторана столицы,
где поднимает тост за крейсер «Москва»,
а сам давится от страха:
съёмная квартира, годовалая дочь, проклятая работа.
Не оттого ли тишина, отчётливая, как пророчество рыбы,
снова ложится туманом в ноги,
и уже некуда, некуда спускаться, —
гора бесконечна, как Данте.
Виктор Iванiв
/Новосибирск/
Лыжи/с новым годом, Лев Семенович/
Наш рассказ вполне серьёзен,
Родилась в одном колхозе,
Расцвела подобно розе
Манечка.
Поехал. Отправился я в отдаленную часть города (Есенина, кв. 184) за лыжами. Когда-то давно я там бывал, мне доводилось бывать там. Ехали тогда очень долго. Там жил старший мальчик Вова, он носил очки, он дружил со мной, дядя Семен и мама Вовы. Но тогда у него уже не было сестры (имя я забыл), сбила машина. Тогда так и говорили (не хочу вас обманывать), сбила машина. Самая длинная улица города (Бориса Богаткова), частный сектор. Вот девятиэтажка, дом-книга, дом-клюшка. Как я узнаю дом? Так не помню, увижу, тогда вспомню. Вот поворот, здесь сбила машина. Вот спуск по лесенке, вот первый этаж. Вот предбанник в девятиэтажке, здесь курит Вова. Вот квартира, там мы играли с Вовой и фотографировались, он обнимает меня, приобнял за плечо. Мама Вовы. Вова спит, но звонит будильник. Мама Вовы отдает лыжи. Дядя Семен умер в горах, за ним посылали вертолет.
Забираю лыжи. На улице стоят пять мужиков, они ругаются матом (матерятся). Поехал назад. Лыжи лесные, большие, не помещаются в автобус. Дядя Семен умер в горах. Не могу вспомнить имени, вспомнил фамилию (Феофанов) умер, а последний день провел в лесу, собирая грибы. За час до работы. Они работали вместе, хоть ехать долго (улица Богаткова), и никогда не опаздывали. Товарищ рассказывал, что его сосед тоже умер, когда поехал за грибами, но прямо в лесу (на грибах). Рассказывали, что когда видишь в последний раз, точно знаешь (когда вспоминаешь). Последний день. Некоторых видишь один только раз. Один лишь раз. Один лишь раз. Когда видишь второй раз, иногда как будто расстались вчера. (Д. А.) купил будильник (мне нужен будильник). Автобус.
В автобусе. Кружит по городу, едет по прямой. В городе комнаты, заглядывали в окна? Человек, стоящий у окна. Кружится квадрат (кровать). Был у Дани, спал на кровати его матери. Живем один раз. Один лишь раз. А Христос воскрес. Но все равно живем один раз. В автобусе. Четыре сидения на возвышении. Посчитай, один, два, три, четыре. И на них сидят. Никогда не видел, но сразу узнал. Хотя видел, два раза уже видел, другие, но все равно сразу узнал. Ну и хер с ним. Лыжи не помещаются. Вышел, приехал.
31, делать уборку. Квартира пуста. Мама в магазин пошла. Радио играет. «Едут, ищут, нет ответа, едут, едут, Маня, где ты, отыскали, ты ли это? Манечка».
Улица (Богаткова), остановка (Есенина), остановка (Доватора), там совсем с другими людьми, только переехали. Остановка (Дм. Донского), это как ехать «за аэропорт». Магазин «АЛПИ» (это фамилия). В автобусе. Девушка (кондуктор), с наступающим вас, третий раз сегодня с вами.
Память сексаВ луга зеленые с цветами выходят веселые поселянки. В луга дендрария выходят они и там гуляют. Песочные дорожки греет славное солнышко. Ровные тени слагают знамена свои. Красивые и нарядные, входят они в прохладную деревянную церковь, и в колокола юбок бьют двумя языками ног. От счастья растопляют воск они и длинными соломинами шагают. Перешептываются перед зеркалами они, углубляющими комнаты.
После бессонницы набит пустой мой затылок, как у деревянной обезьяны, и схвачен крепко с другими предметами вращающегося земного полушария. Вхожу я в комнату и попираю ногами постель. Заглядываю за гладкую и зеркальную спину, и на меня глядит вошедшее в комнату время. Чтобы увидеться с ним, прихожу я в эту квартиру с измалеванной красками дверью. Ругается старая ключница, она же за неимением оной хозяйка, и выпинывает мою голову за дверь, и она катится по лестницам под лай семи собак безумной собачницы, и валяется в помоях.
Закатываюсь на крышу, прыгаю на верхний балкон. Я один в комнате, где зеркала и время, сладкая тоска вора. Уверенная почему-то, что я там, входит хозяйка, бледные руки, бледное лицо, черные тени, ни кровинки на лице, хочется убить, чтобы осталось что-то одно, неубиваемое, сладкие речи, белые обмороки, короткие встречи, долгие проводы.
Два года прошло. В руках моих только карточка, на которой актёр, который видел здесь, в этой комнате, многих мужчин. И вот он подмигивает мне и говорит– иди в ту квартиру, в ту комнату, где зеленый сумрак, зеркала и говорящие животные. И иду я, и хочу вернуть будущее, и вхожу я двенадцатым в эту комнату, и вот раскрывается она, и катится, как голова по девяти дорогам, сорока аллеям и докатывается до красного магазина. Везде теперь эта комната, где я, но уже не я, а бес, привлеченный гаданием, и всё, и дома, и земля, и прах, и трава, и машины, и проплешины, и, и, делает солнышко, делает колесо и при этом до бесконечности совокупляется. Потому что хозяйка моя – богиня секса, или за неимением оной, его жрица, живой автомат. Но с детства чудилось мне, что в слове «секс» скрыто слово «секунда». И за эту секунду, не успел я даже подумать, всё со скрежетом кувыркается в преисподнюю, а меня выбрасывает голым в лужу помоев, а вокруг стоят веселые поселяне и хохочут надо мной во все горло. И, потерев помоями с песком плешь свою, приподымаюсь я и обращаюсь к ним с такими речами:
Некоторые видят сны самые яркие, уста имеют самые сахарные, едят яства самые сладкие, плоды самые спелые, спят на самых мягких перинах и речи ведут самые дерзкие. Старух шлют на перекрестки за дьяволом, а сами натираются маслом и воскуривают курения. Надевают на шею вместо золотого крестика ладонь с глазастой звездой и воздрачиваются в ожидании прихода гостя дорогого. Дни проводят в глубоком сне, а ночью бодрствуют, а дням теряют счет.
И, сивиллиной мудростью язык свой изострив, к старости всем косточки моют, память потеряв, а совесть продав. И страха не имеют ни перед геенной огненной, ни перед смертью с косой, ни пред позором публичным. И раскрывают рты свои, точно пизда говорливая, и хулят весь белый свет, особливо мужей самых достойных, девушек самых чистых и матрон самых верных.
Другие же, слов сказать не умея, не вовсе в ложе своем помещаются, тряпицей одной тело укрывают от срама, и идут на голоса Сирен, и о себе забыв, и о вони своей, и верят каждому печатному слову в книге света, как дети беспечные, как старцы беззубые, и пускаются во все тяжкие, скорбный путь Матери нашей повторяя в ее падении, и в кротости ей угождая, дурацтво обманутое одно лишь показывают, не зная ни чисел больших, ни пропасти, над которой ногу заносят, ни песен ангельских, в которых оплаканы, ни ума обезьяньего и подражательного, ни стила писцов, которое одно только и выводит их имена, в руке фараона на дне склянки мерной лишь пузыриками испаряющиеся, и во вздохах Озириса воскресшего лишь примешенной пылью бывшие.
И, услыхав сии слова, добрые и веселые поселяне замолкают вдруг озадаченно, а потом, сообразив, пиздят меня ногами до полусмерти, так что забываю я и о времени, и о себе, а уж о сексе никогда больше не вспомню.
Игорь Клех
/Москва/
Сорок/Из «Частичный человек, или Записки сорокалетнего»/
1. Господи, как молниеносно то поражение, которое ты наносишь человеку. Сорок. Как вбитый в доску на 2/3, искривившийся гвоздь, который будет добит несколькими мощными ударами. Как повернутый в дверях наполовину ключ.
Все началось, возможно, в горах, в родных горах, где ты лежал с похмелья, и отара двигалась по склону, как бунт в тюремной столовой, съезжала, как плов. Страшный звон стаканов раздавался с небес.
Мелкий дождичек ты почувствовал тогда на своем разгоряченном сальном лбу, мелкий дождичек – в очередной попытке отмыть грязные деньги мира, – под которым ты лежал, будто блин с оторванным боком.
Тогда впервые блеснула тебе сквозь толщу остающихся тридцатых – как монетка на дне – магия этого взрослого чина: Сорок – вместо естественно возникающих и просящихся «четыредесяти». Наклонная заточенная палочка четверки блеснула вдруг, отразив идущий откуда-то луч, – вошедший в зрачок без остатка блеск! – посланный тебе ножом гильотины поверх голов. Как тонкий свет, идущий из-под двери.
2. «О конфетах из говна, трибунах и прапорах, или О существе и опорах тоталитаризма» (трактат).
«Первый, кто откажется от конфеты из говна, будет казнен. Загадка тоталитаризма проста, как размер ноги человека, и целиком лежит в области его пластичности. Основной опорой тоталитаризма является частичный человек, и на его выделку и воспитание направляет основные свои усилия тоталитаризм, существо хладнокровное и пресмыкающееся, этот вышедший на сушу Левиафан, всем видам размножения предпочитающий овогенез.
Люди частичные (т. е. утрированные, партийные), захватив однажды власть, озабочены лишь ее репродуцированием, что свойственно всякому животному организму, живущему всегда «здесь» и «сейчас».
Но мечта всех человеческих обрубков – Идеальный Концлагерь (муравейник, рой) – в достижении очень трудна. Превратить человека в род насекомого, живущего надындивидуальными инстинктами, удается лишь на очень ограниченный отрезок времени. Это уже загадка жизни, с которой тоталитаризм ничего не может поделать.
К счастью, есть другой способ, который делает возможным достижение цели тоталитаризма и за который он с готовностью цепляется. Это – селекционирование, выведение породы частичных людей. Бывают разные варианты тоталитарной политики, но практически все они исходят из висящей еще кое-где схемы разруба туши, где «тушей» является полнота человеческого Я. Крупными кусками отсекаются сначала высшие способности человека – небо, – либо вообще, как у большевиков, либо посредством гипертрофии авторитета посредников, доктринальным выхолащиванием совести, как в теократиях.
Затем отсекается телесный низ, половой инстинкт ставится под жесткий контроль общества (Гитлер не мог не потерпеть поражения еще и потому, что канализировал, но не вытеснил из своих фашистов этот могучий, деструктивный по отношению к рукотворным системам инстинкт, не смог до конца его сублимировать, переключив рукоятку рубильника в направлении стремления к смерти).
Ампутируются также части самостоятельные и двигательные: в максимально возможной степени ограничивается сфера приватной жизни, хозяйственная инициатива. Еще несколько лобанящих ударов и незаметных идеологических надрезов между полушариями – и секция закончена.
Чтобы веселый обрубок не чувствовал себя обездоленным, ему прописываются субституты – по самый пятачок его нюхательной части:
работа вместо труда;
идолы;
спортивные зрелища;
прививки и порки в любой последовательности;
«реализм» в искусстве;
прочее.
И что же? Жив курилка! Вот он – хороший семьянин, у него есть хобби и цель, он всю жизнь работал. Он весь на виду. Ему абсолютно ни к чему занавески на окнах.
Биоклетка каким-то непостижимым и очень естественным образом делится, перестраивается и перегруппировывается внутри себя. По виду она почти неотличима от здоровой. У нее вроде все есть: здоровое сердце, отменные вакуоли, чуткая мембрана (душа то есть), есть родственники.
Так, следя по телевизору за молодежным фестивалем в Северной Корее, видя встречи корреспондентов с отборными молодыми корейцами, я никак не мог отделаться от ощущения, что они – и те, и другие – все-таки люди…
3. ТАРАКАНЫ теперь попадались ему все чаще, уже каждый день, точнее, ночь, и были все они черные и мохнатые, что навело его на нехорошее предположение о качестве собственных мыслей.
Он помнил еще тех молоденьких тараканчиков, когда вселялся в эту квартиру, – полупрозрачных, не столько еще существ, сколько идеи тараканчиков – резвящихся под ногами, играющих в прятки со светом, заскакивающих то ли сдуру, то ли на спор в комнату и тут же дающих деру, прячущихся под ведрами и в мочалке. Но не зря, не зря расползались матерые тараканихи – будто с перебитыми задними лапами, с забинтованными задами, – не знающие, где опростаться очередной популяцией.
Выжило племя генералиссимусов, коварное и наглое, с повадками скорее диких кабанов, чем насекомых. Один из них, тяжелый, мохнатый и печальный, всегда почему-то сидел в эмалированном тазу и при появлении хозяина начинал бегать по кругу, как мотоцикл в детстве по вертикальной стенке, с ревом и клубами выхлопов. При этом тараканьи губы издавали звуки вроде: «Пр-р-р! плям-плям-плям!», возможно, надеясь рассмешить хозяина. Но мальчишеское сердце в том давно отмерло, к мародерам он не знал пощады, и вскоре труп с выпущенными кишками болтался во внутренних водах унитаза, этого тараканьего Тауэра.
Хрущатые фальшивые фасолины – рассада ночи, фотоны тьмы. После какого-то количества их насильственных смертей прилив ночи останавливался, силы тьмы начинали идти на убыль, оставляя в спешке на песке и простынях рыхлые медузы снов, для которых восход солнца, в свою очередь, будет означать лишь скорый приговор и быстрое разложение.
4. «…На самом деле тоталитарные ритуалы глубоки хотя бы потому, что, омрачив сознание своих подданных, вынуждены апеллировать к их подсознанию.
Действие механизма переключения либидо, в частности, очень наглядно просматривается в отношении к трибуне, в слепоте такого отношения.
Неоднократно заявленный культ трибуны – «самых высоких трибун» – суть не что иное, как рецидив подспудно ворочающегося в недрах нашей цивилизации фаллического культа. Торчащие из-за трибуны большей частью плешивые головы допущенных к ней «членов» могли лишь подчеркнуть это недопустимое сходство.
Но гораздо, впрочем, интереснее зазвучавший в последнее время мотив осквернения трибуны, который отсылает нас, возможно, еще глубже – в эпоху матриархата. Трибуна в этом случае должна восприниматься уже чем-то вроде ископаемой статуэтки Великой Матери, установленной в солдатском борделе, к которой всегда очередь, и где за обрядом инициации следят отдельно восседающие старейшины и жрецы, и где каждый сходящий с трибуны вправе сказать гордо и обессиленно: «Еб твою мать!»
Именно по этой причине допущение на трибуну женщин следовало бы приравнять к акту перверсии и осудить, как проявление дикого извращенного промискуитета.
Если продолжить изыскания, то придется убедиться, что наши знамена – суть символ вульвы державы, ее вечно зарастающей и потому в принципе непорочной, не знающей позора целки. В этом свете недавно воскрешенное на местах целование прапоров надо и следует смело уподобить минету, ибо всякий прапор сшит руками невест из целок нации, человечество же сонмами идолопоклонников кружится около своих знамен…
5. Одна трудноразрешимая интеллектуальная задача волновала его в снах чаще других.
Обычно он заставал себя сидящим на урне в каком-либо оживленном месте, со спущенными штанами, в светлом плаще или без. Мимо шли люди, не обращая на него внимания, но до тех только пор, пока он не попытается встать. Он никак не мог заставить себя подтереться у них на глазах.
Возможно, следовало, подавив в себе этот невесть откуда свалившийся навык, резко вскочить и бежать, подтягивая на ходу штаны, но именно в этот момент на тротуаре появлялись молодые, щебечущие между собой и никуда не торопящиеся женщины, вероятно, студентки. То есть он не мог разрешить для себя этот вопрос в принципе. И долгими часами вынужден был высиживать в снах в этом неловком и неудобном положении, пока не начинали неметь ноги и бегать по ним мураши – и тогда уж делал, как получится. Но это не было правильным ответом. Потому что через неделю или через полгода он вновь обнаруживал себя сидящим в исходном положении, только в другом месте, в другом сне.
Наяву его в последнее время стали занимать комары, точнее, одна, недавно и нечаянно им обнаруженная их разновидность. Бить их он предпочитал под утро, стоя на цыпочках на постели или переезжая на стуле по комнате, и бил их сложенной «Литературной газетой», – а ведь это газета страшной убойной силы. Пятна собственной крови, остающиеся от этих тонко ноющих гнусавых налетчиков, затирал на стенах и на потолке наслюнявленным пальцем.
Так вот, в последнее время в комарах не было крови! Что же делали они теперь в его комнате, сидя в самом изголовье?
Их наркотически отрешенный вид с полуприкрытыми веками и блуждающим взглядом очень скоро дал ему ответ. Это была особая порода сомнамбулических комаров, оккупировавшая его комнату и вытеснившая отсюда всех прочих заурядных кровопийц. Обсев его комнату по боковой линии, проведенной под потолком, они дожидались утренних, самых гвалтовных его сновидений.
Грезоманы, опившиеся видениями, – в спальне гипногога! О, им было что посмотреть. Ему было что им показать – такого, что и не снится в других комнатах, слава богу.
6. 40 лет – это как Бологое, на полпути, со смертью на рельсах в конце, по расписанию… Обе столицы видны отсюда. Царский палец лежал здесь на линейке. Кто не упал здесь с верхней полки, будет жить долго.
Только, как в безумном чаепитии, меняешь место, пересаживаясь в кресло отцов, – и на том, на котором сидел прежде ты, впервые закурившим при старших подростком, на нем сидит теперь твоя почти совершеннолетняя дочь. И какое-то время ты ничего не можешь понять, потому что там, где у тебя была правая рука, теперь, вроде, левая, – что-то развернуло тебя таким образом, сложило для тебя правое и левое вдвое так, что ты потерял способность и саму надежду когда-нибудь их различить.
Теперь уже ты знаешь, что это зеркала поглощают то время, которое излучают звезды. Когда одно такое зеркало объестся временем до отвала и будет переваривать то, что было тобою, как спрут, – его занавесят. Напрасно, пытаясь не думать о времени, ты затыкаешь уши ватой, – и все равно, когда начинает светать, просыпаешься – головокружа, – как пьяный. Ведь однажды ты уже был бессмертен и жил среди полубогов и великанов. И это было детство. В нем не было почти вещей, притертых к твоим размерам, кроме твоих игрушек и одежек. Мир был в 10, в 100 раз огромнее и угловатее, чем сейчас. На свои вопросы ты получал одни невероятные ответы: что в древности все люди пели, а не разговаривали, или что все немые – люди нечеловеческой силы.
Разгадка детства ведь также проста – как какой-то оптический фокус, лупа, скажем, или перевернутый бинокль, но с чуть большим количеством и протяженностью коленец между окулярами, с линзами чуть большей кривизны – помесь перископа с лабиринтом. Как же узнавать нам теперь эти нищенские комнаты и города, если увеличившись в 10 раз, мы во столько же раз уменьшили мир, он высох, как сердцевина прошлогоднего ореха, и потерял над нами свою власть и непререкаемый авторитет. Так и из жизни вырастаешь, как из надоевших игрушек. Что это было? Шумливая горная речка с галечными островами, пять ресторанов и столько же кинотеатров («Комсомолец», «Космос», им. Ивана Франко – с красным, голубым и малым залами…), низкорослые вокзал и аэропорт, пионерский парк, Гагарин, 1-я школа… сейчас сблюю…
Время пересыхает, как влага. Чуть дольше задержавшись на одном месте, оставляешь после себя кучу песка, опилок. Мутация клепсидры в песочные часы. День. Ночь. Невидимый прибой выносит и оставляет на песке все новые ошеломленные и недоумевающие поколения. Не так давно и ты прятал за щеку что-то подобранное на улице, как теперь твой несмышленый сын, – так же томился собственным телом, учился держать счетные палочки в пальцах, различать слова, сердился на вещи, – боже, какой чудовищный перерасход энергии, какая расточительность природы, – чтобы к тридцати почувствовать себя нигде, а к сорока – никем, не понимающим ничего. Никто, не понимающий ничего.
Выдумки, выдумки…







