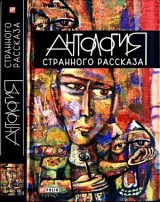
Текст книги "Антология странного рассказа"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 39 страниц)
13. Рабочее имя– «Антиикона». Герой знакомится с ними, заплатив за них в автобусе штраф. Он возвращается с выставки своего друга, ставшего художником, и сожалеет о своей жизни, скормленной «обстоятельствам», в тот момент, когда слышит их разговор с контролёром, вполне философский, насчёт того, что глупо спрашивать одинаковую цену за проезд с тех, кто едет по совершенно разным делам и адресам. Сдружившись со странной компанией, он веселеет, но начинает догадываться, что они не кто иные, как террористы, не имеющие мотивов, держащие город в ужасе и не выдвигающие требований. Их зовут – Сал, Бер, Йон, Рош 1010
А. К. А. К. Ну да, а как же иначе?
(Примечания автора)
[Закрыть]. Они меняют пол и характер по ситуации. Проникаясь к герою доверием, новые знакомые ведут его к Алихне – девочке, живущей на даче вместе с маленьким мадагаскарским лемуром. Лемур, не умея разговаривать, тем не менее, держит сознание Али-хны под полным контролем. Алихна рисует тёмную икону с непонятным изображением. Считается, это лемур руководит шедевром. Герой подозревает, что тёмная икона пишется кровью, но не может выяснить, чьей. Антиикона, на которой не скажешь что, начинает навязчиво сниться ему и мерещится в любых окружающих пятнах, лужах, облаках, следах. Оказывается, террористы вообще работают на обезьян и против людей, отсюда темнота их мотивов. У обезьян грандиозное будущее, но в прошлом они должны постоянно поддерживать причины именно для такой, собственной, истории. В трансе герой попадает в грядущий город обезьян, похожий на цветастый бескрайний ковёр символов и значков. Там никто не разговаривает, но все общаются очень сложными жестами. Когда-то люди научили их глухонемому языку и общению с помощью картинок, просто ради эксперимента, но это сняло с тормоза эволюцию. Герой видит себя мумией, лежащей в их музее, и только тогда понимает все смутные пророчества Алихны о посмертном признании в ином мире. Из мумии забрали всю кровь для антииконы. Обезьяны унимают его тоску по человеческому прошлому, посвящая: реальность есть только ритмичное дрожание, вибрация абсолютных и потому не существующих геометрических фигур. Колебание в одну сторону – человек, отклонение в другую – обезьяна. Колебание в одну– он, отклонение в другую – она. Реальность – это язык немого и ухо глухого.
14. «Рыба, которая умела молчать». Вам мало этого названия?
США

Евгении Вишневский
/Лос-Анджелес/
Из рассказов простодушного мальчикаПушкинский парк
Валюша Музыка с Толей Вишневским познакомились в Пушкинском парке вечером, в июне. В небе тогда летали стрекозы, а может, летучие мыши, а может, те и другие, вперемешку с самолётами и паутиной. Город пошевеливал боками улиц, подсвеченный луной и фарами машин. Пахло метеолой с парковых клумб, а со стороны Шулявки дымили трубы завода «Большевик». Машины на широком переходе перед памятником Пушкину сигналили пешеходам.
На танцплощадке в парке играла музыка, и дым папирос мешал двум хорошеньким девушкам устроиться на лавочке и чуть передохнуть.
– Нэлька, сядем на скамейку. Ноги от каблуков болят, я свалюсь! – говорила та, что повыше, своей подруге с короткой стрижкой «под мальчика».
– Куда сядем? Не видишь, понаехало село в город. Стой и сумочку держи крепко. Не расслабляйся.
Девушки одновременно споткнулись о бровку и, хватая руками воздух, чуть не упали. Двое юношей в накрахмаленных белых сорочках подбежали подставить им локти.
– Не надо церемоний, молодые люди! – вскрикнула стриженая и оттащила подругу в тёмную аллею.
– Дурная ты, Нэлька, парни как парни, бритые.
– При чём здесь бритые? У тебя вон пятно на юбке.
– Ничего, на солнце тоже пятна бывают! Темно здесь, пошли к свету.
Девушка, обозвавшая подружку «дурной», – моя будущая мамочка. Она училась тогда на втором курсе физмата в пединституте, и пришли они на танцы вместе с лучшей её подругой – Отрошкой, студенткой дефектологического факультета того же института. Девушки, обе красавицы, хотели осмотреться, попить чего-нибудь холодненького и повеселиться в своё удовольствие. У каждой на запястье блестели золотые часики, шик по тем временам несусветный.
Мой будущий папа, к тому времени обосновавшийся в городе после демобилизации, служил начальником пожарной охраны «Радиозавода». Он польстился на обещанную дирекцией завода квартиру, и пока очередь на квартиру сокращалась, папа жил в общежитии, отрастил усы и в свободное время щеголял в сшитых частником клёшах и белой рубашке с отложным воротничком. Папа любил поучать подчинённых ему парней.
– Ещё не время жениться, хлопцы! – говорил он пожарникам. – Мужчина обязан создать материальную основу для личной жизни! Потом – жениться, родить детей и жить ради них до старости.
Когда не было работы, пожарники собирались в комнате с отверстием в полу для шеста, по которому во время пожара команда соскальзывала вниз к блестящим красным машинам с выдвижными лестницами.
В тот вечер Толик пришёл на танцы не один. Он был в прекрасном расположении духа. Папочка щелчком отослал папиросу в темень ночи и, обняв товарища и соседа по комнате в общежитии Мишаню, прошептал:
– Баста, друже! Мишаня, вон та – на каблуках, в часиках, мечтает познакомиться со мной. Люксембург, а не де-вушка! Расскажу дивчине, какой я пожарник…
– Толя, погоди!
Придурковатый от работы в плавильном цехе Мишаня полез в карман за очками.
– Некогда. В степи красноармейцы стреножили коней…
– Что?
Но папочка уже устремился к девушкам. Часто его шутки были непонятны. Он любил цитировать поэтов, чтобы произвести впечатление на окружающих.
– Толя, причем здесь красноармейцы?.. – Мишаня надел очки и стал озираться по сторонам.
– Мишаня, это я Багрицкого вспомнил. С девушками нужно говорить о поэзии!
Папа дружил с Мишкой Ломиком давно. До этого они поужинали селёдочкой, чуть тяпнули и пришли «покрутиться в народе».
Музыка на танцплощадке смолкла. В свете фонарей бестолково толкались бабочки с мошками. Подул ветерок. Дружинники смешались с толпой.
– А теперь, – крикнул весёлый конферансье, – свет прожекторов на меня, пожалуйста! Поехали, друзья, дальше! Я говорю: поехали! И-и-и!.. Музыка! Танцуют все! Аргентинское танго! Новинка сезона! Только у нас и нигде больше!
Бухнула хлопушка, пучок света со сцены сполз в центр круга, где танцевали, скрипнуло от порыва ветра кровельное железо на сарайчике за сценой, и зазвучало из радиолы томное, тягучее танго, разрешённое комсомолом.
Девочки и мальчики, похихикав, разделились на пары. Танго танцевать не умели. Парочки с положительными лицами задвигались бочками, как больные глистами рыбки в аквариуме. Папа, пригласив маму на танец, успел наступить ей на ногу и сделать вид, что виновата в этом она. Мама серьёзно посмотрела кавалеру в глаза.
– О чём вы думаете? – спросил он её, чтобы сгладить неловкость.
Юноша нёс в танце девушку, как вазу на продажу.
– Я думаю о завтрашнем дне. А вы?
– Я тоже! Как интересно!
– И что завтра?
– Работа.
– А у меня тоже, учёба.
– Как интересно!
Девушки в легких платьях, привыкнув к новым движениям, заулыбались; мальчики, задрав подбородочки, смотрели на своих подруг красивыми царями.
Мама подумала, кашлянула и положила руку на папино плечо. Приятный мужской голос пел:
Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось,
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Мне немного взгрустнулось.
Без тоски, без печали
В этот час прозвучали
Слова твои!
Расстаемся,
Я не в силах злиться!
Виноваты в этом
Только я и ты.
Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось
В час, когда ты призналась,
Что нет – любви!
Мама любила музыку; она была солисткой в хоре и пела песни на слова Исаковского. Аккомпанировал хору ансамбль народной музыки при Доме культуры. Аккордеонисту Лёньке Кагану нравилась мама; маме нравился Стасик Пинчук из параллельной группы; Отрошка, та самая мамина подружка, с которой она была в тот вечер на танцах, любила Леньку, а спала со Стасиком. Вот такая белиберда. Маме хотелось понятных и простых отношений.
Мои будущие родители протанцевали весь вечер, разговаривая на всякие темы. Папа говорил всё время маме «вы» и держал её за руку. Мама прятала глаза от смущения. Танцы закончились. Свет на танцплощадке погасили, толпа подуставшей молодёжи устремилась к выходу. Отрошка обиделась на маму, отобрала проездной билет и уехала в общежитие одна.
– Зачем вы ей билет отдали? – Толик вёл Валю под руку к выходу и очень хотел курить.
– Её очередь на автобусе ездить. Мы близкие подруги.
– А как же вы?
– У брата переночую. Здесь рядом, две остановки, пешком пройдусь.
Потом родители в кафе пили «Рислинг» с конфетами. Столики, расставленные под липами, освещались раскрашенными лампочками на тонких проводах.
– Эти гирлянды превращают деревья в подобия новогодних ёлок. Вы где Новый год встречаете? – папа подлил маме вина и, вынув из фантика конфету, аккуратно сжевал её.
– Ещё не знаю. Думаю съездить в Немиров. У меня отец там один. Он уже старый.
– А я, наверное, в городе задержусь. На Новый год пожаров много. Ёлки горят от бенгальских огней, и вообще…
– Синим пламенем? – мама отпила глоточек и посмотрела папе в глаза.
– Что вы сказали? – папа насторожился.
– Синим пламенем горят? – она улыбнулась.
– Так точно!
Потом папа пошел провожать маму до улицы Гарматной, на углу которой, в доме с почтой, жил её брат Гена и моя бабушка Буня. Папа нёс сумочку, взяв маму под руку. «Как в американских фильмах», – подумала тогда мама и сделала лицо серьёзным.
Пройдя квартал, она ещё раз подумала: «Господи, дура какая я всё-таки, отдала незнакомому мужчине ценную вещь, в сумке – деньги, Отрошка бы не одобрила».
– У вас есть паспорт? – мамочка улыбнулась папе.
– Паспорт? А зачем вам паспорт? Он у меня в шкафике.
Мамочка покраснела.
– Да это я просто так спросила. Вспомнила, свой паспорт давно не видела. Просто так спросила….
– Потеряли?
– Нет, я аккуратная. Ну и что дальше?
Они шли по улице, и папа уже минут пятнадцать рассказывал маме о флоте, на котором он прослужил три года и демобилизовался в чине младшего офицера прошлой осенью.
От воспоминаний он так возбудился, что забыл, как нужно вести себя с малознакомой девушкой. Он стал разговаривать с ней громко, страстно жестикулируя и подпрыгивая на месте, не замечая, что прохожие обращают на него внимание.
– Дальше! Самое любопытное! Вы меня простите, Валя, но я буду с вами откровенен, – кричал бывший морячок, размахивая руками.
Мама нервничала. Она как раз Тургенева читала, что-то о любви помещика к простой девушке, и ей стали вспоминаться старомодные слова из книжки; каждый раз на папино «Дальше?!» она отвечала: «Извольте».
Папа, дойдя до точки кипения своего воображения, запрыгнул на бровку. Мама окончательно смутилась:
– Хорошо, не волнуйтесь так… Извольте, я готова.
– Спасибо, – Толик засмеялся, – я служил на Сахалине. Загорелась ночью тайга (на Сахалине нет тайги, подумала мама). От молнии загорелась! Гроза была! Дым валил в небо клубами, напоминая громадные волны Тихого океана (Тихий океан потому и «тихий», что в нём низкие волны, подумала мама). Страшный ветер разносил пламя вокруг военно-морской базы. Представляете?..
– Извольте, дальше…
– Сердце стучало, как бешеное; хотелось, чтобы быстрее этот ужас закончился!
– Осторожно, вы чуть на девочку не наступили, – мама поддержала папу под руку.
– Простите… Нечем было дышать. Слёзы ручьями текли по лицам матросов! Они растерялись и не знали, что предпринять. Умирать никому не хотелось! Могли взорваться склады с боеприпасами…
Моя будущая мама внимательно слушала моего будущего папу.
– Но я не испугался, – продолжал Толя, стоя на бровке и протянув руки над прохожими, как римский цезарь, – я абсолютно, Валюша, не испугался. Я не думал тогда о себе, я думал о боеприпасах… и я нашёл, как мне кажется, единственно правильное решение!..
Мама незаметно глянула на часики.
Папа спрыгнул с бровки, остановил маму и замер с широко открытыми глазами.
– Валя, – сказал мой папа, – я задействовал человеческий ресурс!
Мамочка сжала кулачки:
– Как это?
– А вот как!
Папа извернулся, изоображая поочерёдно и толпу матросов, и огонь, и ветер, и как он, командир, выгнал роту из казармы и выстроил в шеренгу, как снял перед моряками фуражку и крикнул во всё горло:
– Писайте, братцы матросы!!! – папа зашелся от восторга, прохожие шарахнулись в стороны. – Ссыте, братцы мои! Ну же, ребятки!!! Пыжтесь, мои хорошие! Спасайте командира и честь нашего флота! Ну и я вместе с вами!.. И мы, Валя, потушили пожар! В нас хватило жидких ресурсов! Это чистая правда!..
Мама опустила голову.
– Меня отметили в приказе как перспективного офицера! – закончил он свой рассказ, разгладил усы и остался доволен собой.
К остановке подъехал автобус, раскрылись двери. Люди вокруг зашевелились. Мамочка отняла сумочку у своего кавалера и вежливо сказала:
– Это смешно. Как в анекдоте. Толик, прощайте.
– Честно, всё так и было! – папа не мог успокоиться, ему казалось, девушка не верит ему. – Мне предложили остаться в армии, но я отказался. Не люблю, когда уж слишком дисциплина во главе угла, понимаете, бойцы уж стреножили коней в степи, понимаете… хотя платили лучше, чем на гражданке… А сейчас я командир пожарников, мне понравилось тушить…
Мама сдержанно улыбалась. «Беспардонный какой-то: мы мало знакомы, а он – «писайте»… идиот…» – думала мама, не зная, что предпринять, чтобы «матросик» не узнал, в каком парадном живёт Генка.
От остановки они дошли до угла Гарматной и бульвара Лепсе. На улице почти не осталось прохожих. Прохладный ветерок шевелил листья каштанов.
– Спасибо, – мамочка остановилась и заложила руки за спину. – Мы пришли, провожать дальше не надо.
– Как, так быстро?
– Спасибо за вечер. Мне было интересно с вами.
Папа осмотрелся. Сквозь большие окна почты была видна горящая в глубине зала лампочка.
– Как, уже пришли? Я не рассказал вам о пушках.
Мамочка улыбнулась:
– Помилуйте, поздно. Ещё случится оказия.
Пожав друг другу руки, молодые люди растались.
Мама решила с папой больше не встречаться. «Шумный и старый», – говорила она себе, поднимаясь по лестнице босиком и неся за каблуки босоножки, словно большие мокрые мухоморы.
– Правильно решила! Нечего. Я лысину его ещё с балкона рассмотрела, когда он козлом скакал перед тобой. Круглая лысина, как желток куриный. Фу, гадость какая! – ворчала Буня, накладывая в тарелку макароны по-флотски. Мама, переодевшись в халат, сидела за столом и ждала.
– Ты подсматривала?
– Ешь, остынет. Я на балконе воздухом дышала.
– Мама, ты подсматривала.
Буня и себе в тарелочку положила «по-флотски».
– А я говорю, правильно решила. Я ещё Генке расскажу, нам только в семье провинциалов не хватало. Ты на себя в зеркало посмотри. Красавица.
Мама наколола вилкой макаронину и поднесла ко рту:
– Писаная?
– Что?
– Писаная красавица, спрашиваю?
– Не зли меня. Ешь и спать.
– Как скажете, мама, – сдалась Валюша, ковыряясь вилкой в тарелке.
Через месяц мама пошла в молочный за сметаной. За стойкой магазина мой будущий папочка завтракал горячим молоком с маковой булочкой.
– Вы? Что вы делаете здесь? – спросила она и смутилась.
– Завтракаю. Каждое утро, в это самое время, – ответил папочка, утерев усы платочком.
– А я у брата временно живу. Вон, на втором этаже, где балкон с полотенцем…
Второго августа родители поженились. В тот же день они уехали в Сквиру, знакомить мамочку с моей другой бабушкой – бабой Стэфой, папиной мамой.
В День Победы родился я, в роддоме неподалеку от парка с памятником Пушкину и сараем, в котором хранились грабли и плетёные корзины. Осенью в парке студенты политеха сгребают листья в кучи. Ночью кучи поджигают. Они тлеют до утра и пахнут замечательно вкусно.
Алексей Карташов
/Бостон/
Горькое, но необходимое…Гуревич пришел к нам в седьмом классе, первого сентября. Его посадили рядом со мной, я как раз остался один, потому что мой сосед по парте Сережка уехал с родителями в другой город.
Приняли его быстро, у нас был хороший класс, новенькие сразу приживались. А подружился он именно со мной, так уж получилось – когда сидишь за одной партой, как же не подружиться.
Гуревич был немного странный. Вечно у него появлялись идеи, которые обычному человеку в голову не придут. Он изобрел, например, всем новые прозвища. Обычно как: придумаешь кому-нибудь кличку и сразу скажешь. А Гуревич долго ходил с тетрадочкой, а потом однажды на перемене сообщил, что всем придумал новые имена. Мы попросили почитать, и вот уж крика было! Каждый по очереди обижался, но остальным всем нравилось. Прозвища были странные. Например, Вадика, Рыжего, он назвал Меднопроволочным. Очень точно получилось, волосы у Вадика именно такие и были, но неудобно произносить, слишком длинно. Славу Добрынина назвал Никитичем, а меня – Поповичем, от имени Алеша.
Однажды, уже в девятом классе, шли мы с ним после школы домой. Жили мы почти рядом и часто заходили друг к другу после уроков – продолжить разговор, пообедать, а иногда, когда его родители уезжали, выкурить по сигарете. У его папы всегда был запас американских сигарет, пару штук можно было взять всегда: не будет же он их пересчитывать!
В этот раз мы опять зашли к Гуревичу, сделали по бутерброду, чтобы не возиться с обедом, и сели потрепаться на балконе. Балкон у них был огромный и весь заставленный барахлом, у нас там был любимый уголок, за шкафом.
Я всегда боялся высоты, поэтому садился поближе к стене, а Гуревич – напротив, привалясь к балконной решетке. Мне даже смотреть на него было страшно, и я всегда просил его сесть как-нибудь подальше от края. В этот раз Гуревич заинтересовался и стал подробно расспрашивать – а чего именно я боюсь.
Я объяснил, и мы заспорили, а что такое вообще страх? Я сказал, что это защитный механизм, Дарвина приплел (как раз тогда я увлекся теорией эволюции). Гуревич со мной не согласился.
– Ты же прекрасно понимаешь, что решетка не сломается?
Я подергал ее с опаской – решетка и впрямь была могучая, – и согласился.
– Так почему же ты не хочешь на нее облокотиться? И главное, почему ты за меня боишься? Если я даже упаду с восьмого этажа, твой эволюционный успех (это он меня передразнивал) не изменится. Так что Дарвин тут точно ни при чем, – закончил Гуревич, встал и облокотился на перила, перевесившись вниз.
Мне прямо стало нехорошо, я даже отвернулся. Уговаривать его было без толку.
Тут Гуревич задумался и замолчал, с ним такое бывало. Я уже знал, что он ничего не скажет, пока все не обдумает, на это иногда целый день уходил. Так что я попрощался и пошел к себе домой.
На следующий день мы после школы пошли в наш парк, там есть прудик, его мало кто знает. В нем даже рыба водилась и иногда подходила к берегу. Я купил бубликов, два мы съели, а один стали по кусочку кидать рыбам. В какой-то момент Гуревич вдруг сказал:
– Я придумал упражнения, чтобы избавиться от страха.
– И как?
– Это трудно объяснить. Я тебе лучше на примере покажу, – сказал он. – Вот ты боишься высоты, например, так?
– Так.
– А надо ей радоваться. Найти в ней что-нибудь хорошее. Скажем, когда ты падаешь с восьмого этажа – пока долетишь, будет очень интересно. Ты с вышки прыгал?
– Прыгал, с трехметровой.
– Ну и как, правда же, кайф?
Я подумал и согласился. Гуревич стал меня убеждать, что именно так и можно научиться не бояться.
– Или вот я боюсь змей. Надо тоже что-то сделать с этим.
Я злорадно сказал:
– А они очень приятные на ощупь.
Гуревича передернуло, но он мужественно слушал дальше.
– Надо погладить змею, раз, другой, а потом понравится. Увидишь змею в лесу – сам побежишь гладить.
Он вздохнул и сказал:
– Ну что сделаешь, надо попробовать.
Мне идея понравилась, мы еще обсудили ее немного. Я предложил:
– Надо открыть такую школу, избавления от страхов. Представляешь, сколько денег можно будет заработать?
Мы еще немного порассуждали, что мы будем делать, когда денег будет много. И сколько у нас будет возможностей, и какие можно будет открывать филиалы, в самых разных местах. Я склонялся к тропическому острову, а Гуревич настаивал на Гималаях.
Пока что мы решили начать со змей. Пришли в зоопарк, друг наш Никитич как раз был в КЮБЗе, это такой кружок при зоопарке. Он нас и провел на халяву внутрь, а потом в террариум, со служебного входа. Гуревич, когда увидел змею, прямо побелел, но я ему показал, как их можно гладить – неядовитых, конечно. Амурского полоза. Он потрогал и страшно воспламенился:
– Слушай, какой он сухой и гладкий! И теплый!! – и перегладил всех, кого дали потрогать, уходить не хотел.
Меня лечить было не так легко. Ушло два занятия, но в конце второго я научился прыгать с семиметровой вышки, больше у нас в бассейне не было.
Когда мы в следующий раз сидели на балконе, Гуревич предложил мне перевеситься через перила – и тут опять на меня накатило. Я ужасно расстроился – стоило столько мучиться, если не помогает? Гуревич тоже выглядел озабоченным.
– Что-то не работает, – сказал он. – Чего ты боишься?
Я поразмыслил, отодвинувшись на всякий случай к стенке.
– Да все того же. Смерти. И больно будет очень.
– Больно будет недолго, – успокоил меня Гуревич. – А если смерти не бояться, то всего остального тем более не надо?
Я подумал и согласился.
– А почему ты боишься смерти? Не ты, а вообще люди? У зверей, ладно, инстинкт.
– Ну потому, – терпеливо объяснил я, – что меня больше не будет. Понять это невозможно. Но жизнь будет продолжаться, все будут ловить кайф, интересными вещами заниматься, а меня уже нет. По-моему, это крайне неприятно.
Гуревич снова впал в транс, так глубоко задумался. Я понял, что это опять надолго, попрощался и ушел.
На следующий день Гуревич прямо на первом уроке шепнул мне:
– Я все понял и придумал новое упражнение.
– Какое?
– Потом скажу.
Но на перемене он отказался рассказывать, сказал, что сначала должен проверить сам.
Вечером вдруг позвонила его мама. Она была ужасно встревожена.
– Алеша, Миша не у тебя?
Мне прямо нехорошо стало, я сразу вспомнил про новые упражнения Гуревича.
– Нет, он после школы пошел домой, заниматься. У нас завтра контрольная… – и запнулся, думаю: что я такое говорю.
Через час она позвонила снова, было уже десять вечера. Мои родители подошли к телефону, потом долго меня расспрашивали, потом мы перезванивали его родителям, звонили уже и в милицию, и в морги.
Назавтра мы все вместе пошли в милицию, там нас принял какой-то жирный мрачный майор, сначала пробовал на меня орать, но родители заступились. Это был полный ужас. Я еще три раза давал показания, в школе все ходили как придавленные. В общем, так он и не нашелся.
Родители перевели меня в другую школу, потому что я просто не мог приходить в класс. Когда я последний раз видел маму Гуревича, на нее было страшно смотреть, она ни о чем не могла говорить и все время плакала. Потом, через год, они уехали куда-то, и я их больше не видел.
Прошло несколько лет. Я как раз закончил университет, и довелось мне приехать по делам в Петербург. Однажды утром я сидел в странном кафе, на крыше дома где-то за Гостиным двором, пил кофе и читал книжку, как сейчас помню – Цицерона, «О старости». Назойливо пахло настурциями, которые оплели решетку по краю террасы, жужжали медленные шмели, не было ни ветерка. Прямо скажем, мне очень повезло с погодой.
Народу в кафе было полно, все столики заняты. Официант извинился и спросил, не буду ли я возражать, если он подсадит ко мне господина. Я не возражал. Господин оказался молодым человеком моих лет, с артистической бородкой, в джинсах, потертой футболке и в зеркальных очках. Он тоже заказал кофе, попросил разрешения закурить и угостил меня. Я поблагодарил и взял сигарету, хотя в то время курил только изредка.
– Извините, вы читаете Цицерона? – полюбопытствовал он, и я кивнул. Почему-то не было настроения отшить непрошенного собеседника.
– Это меня немножко удивляет, – заметил мой визави.
– Почему же?
– В этой книге он высказывает некоторые неглупые мысли, но еще больше ставит вопросов, – пояснил он. – Казалось бы, за две с лишним тысячи лет люди должны найти ответы на них и оставить Цицерона детям и подросткам.
– А разве нет вечных вопросов? – возразил я.
– Например?
– Что такое жизнь, смерть, любовь, – тут я смутился, потому что с мужчинами разговаривать о любви как-то неловко.
– Все эти вопросы давным-давно решены, – отвечал собеседник устало. – Только лень и невежество мешает нам узнать эти ответы. Люди почему-то предпочитают жить в страхе.
«Сейчас даст мне брошюрку и пригласит в какой-нибудь храм», – подумал я с опаской, но незнакомец вместо этого принял у официанта кофе с круассаном и принялся быстро, но элегантно уплетать свой завтрак. Я тоже отхлебнул остывший кофе и вернулся к Цицерону.
«Остается четвертая причина, по-видимому, весьма сильно беспокоящая и тревожащая людей нашего возраста – приближение смерти, которая, конечно, не может быть далека от старости», – сообщил мне автор. Я задумался, а тут официант подошел к столику и протянул счет моему собеседнику. Тот, не глядя, расплатился, встал и попрощался со мной в следующих словах:
– Мне очень жаль, что я не могу дольше задерживаться, мне хотелось бы кое-что вам объяснить. К сожалению, с некоторых пор моя жизнь стала слишком сложна, но, по крайней мере, мои близкие за меня больше не боятся. Я связался с ними и успокоил. Этим я горжусь, – тут он задумался и уточнил: – Нет, сложна – это я неправильно сказал. Проста, так будет вернее. А так – каждый сам должен всё понять.
Я несколько смутился и даже заподозрил, что у господина что-то не в порядке с головой. А он снял очки, внимательно посмотрел на меня, кивнул и вышел. Напоследок он остановился, повернулся ко мне в последний раз и добавил:
– Рад, что вы больше не боитесь сидеть на крыше, дорогой Попович, – и за ним закрылась дверь лифта.
Пожарная лестница была закрыта, лифт – один, и я только и мог бессильно смотреть с шестого этажа, перегнувшись через перила, как он переходит улицу и скрывается за углом.







