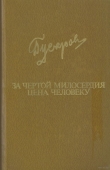Текст книги "Мы карелы"
Автор книги: Антти Тимонен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 33 страниц)
ПРИМЕШЬ ЛИ МЕНЯ, ЗЕМЛЯ КАРЕЛЬСКАЯ?
Был сильный мороз, и с озера дул такой ледяной ветер, что то и дело приходилось растирать уши и нос, чтобы не обморозиться.
Командиром группы, состоявшей из пяти человек, назначили единственного в группе финна, капрала Пааволу. Отделение расположилось в самой маленькой деревне, в избушке, которая была, по-видимому, и самой чистой и самой теплой.
Обороной Коккосалми руководил бывший прапорщик царской армии карел Янне Лиэху. Карелы выполняли его приказы, но финны часто пропускали его команды мимо ушей. Паавола, оставив отделение на позициях, предпочитал сидеть в теплой избе. Васселею же он поручил проследить, чтобы солдаты отсидели положенное время в окопах.
В морозном воздухе чувствовалось не только ледяное дыхание ветра. В Кестеньге, в пятнадцати верстах от Коккосалми, находились красные. Они сделали две попытки овладеть деревней, но были отбиты и отошли. Наступило затишье. Красные в Кестеньге, видимо, ждали подкреплений. Когда к ним подойдут свежие силы, они, конечно, не станут медлить. В Коккосалми также прибывало пополнение. Позиции у белых были выгодные.
Сама деревня расположена на высоком мысе, с которого местность во все стороны хорошо просматривается. С севера по западной окраине проходит узкий пролив, который, обогнув деревню, затем поворачивает на юг. Противоположный берег пролива открытый, безлесный, болотистый. С восточной стороны деревню защищает довольно высокая гряда, пересекающая почти весь перешеек.
– Жарковато нам придется на этом морозе, – сказал Васселей Кириле.
Паавола любил поговорить о политике, и когда, сменившись, отделение собралось в избе, он начинал разглагольствовать:
– Ничего, ребята. Пусть нам и придется туговато, но мы все равно устоим. Дело в том, что мы защищаем дорогу, по которой ваши бабы и ваши ребятишки уходят от красных. Да, вот нам и приходится спасать ваших жен и детишек, чтобы их большевики не перебили. А когда из Финляндии подойдут еще подкрепления, глядишь, воевать будет просторнее.
В таком духе высшее командование велело Пааволе просвещать солдат. Пааволу не интересовало, верили ему солдаты или нет. Он сказал, что было приказано сказать, и после этого считал себя вправе поделиться собственными соображениями.
– Да, а из войны-то получился пшик. А виновато финское правительство. Все было бы по-другому, если бы у господ отняли власть и передали ее народу, тем, кто обрабатывает землю и понимает толк в ней. Конечно, Финляндия теперь свободная страна, но свободы у нас было бы еще больше, если бы господа не вставляли палки в колеса. Вот и в восемнадцатом… Не успели мы разделаться даже со всеми своими коммунистами и отправить их на тот свет, как президент вздумал объявить амнистию и испортил все дело. Какая ж это, свобода? А теперь что делает правительство? Мы кровь проливаем, а господа в Хельсинки с русскими дипломатами кофе попивают да друг другу ноты пишут. Вот если бы власть у нас, у крестьян, была, не так бы шли дела…
Карелы молча слушали его разглагольствования. Кто-то сладко похрапывал.
Капрал, разумеется, понимал настроение своих подчиненных и порой утешал их:
– Не падайте духом, у нас в Финляндии места и вам хватит. Наш брат, финский крестьянин, кормил и русского царя и своих господ кормит. Не даст он и вам от голода помереть. Последним куском с вами поделится. От вас что требуется? Вести себя послушно, работать и учиться воевать, чтобы в следующий раз не ударить лицом в грязь. Такие дела.
Оставшись наедине с Васселеем, Паавола был откровеннее:
– Видишь ли, меня сунули в эту мясорубку, будто карела какого. Ребята Антти Исотало устроились на самой границе в таких местах, где можно спать спокойно, ни один выстрел не грохнет, а если и загрохочет, то эти парни быстро смоются за границу… А меня, понимаешь, человека, у которого на двоих с братом двести гектаров земли, послали погибать за каких-то карельских старух. Правильно это, а? Что за демократия! Я-то знаю, почему Таккинен сунул меня сюда, в это пекло. Он хочет, чтобы я загнулся. Я, видишь ли, знаю кое-что такое о нем, что… А я вот возьму и назло ему не загнусь, а останусь в живых и расскажу про все его штучки. Хитрый он, черт! Он по-русски чешет, как русский, а делает вид, будто ни бельмеса не смыслит. Парней Антти Исотало он приказал кормить в три горла, а меня на голодном пайке держит… Я-то при чем, если оказался в вашей компании. Сам он небось сюда не сунулся.
Васселей слушал и удивлялся, когда же капрал успел так нализаться. А Паавола стал доверительно рассказывать, как его обделили при дележе наследства.
– Ну и дураки эти господа. Какой-то болван взял и придумал закон, что земля должна оставаться за старшим братом, а остальные – куда хочешь девайся. Брательник-то наш Каалеппи – он теперь хозяином стал – любит покомандовать, мастак по этой части, а еще больше он мастак детишек плодить. Разве это правильно? Я от него даже свою долю денег получить не могу, и все потому, что у него богатство – одни ребятишки. Разве это правильно? Я, понимаешь, третий раз уже в вашей проклятой Карелии воюю, ни одного гектара земли не получил, а брательник мой, Каалеппи, никакой беды не знает, а ежели и воюет, так только со своей бабой. Слушай, давай выпьем. Я угощаю. Пей!
Васселей залпом выпил чашку спирта и запил водой из ковша. Потом снова протянул чашку и выпил вторую.
– У братца моего, у Каалеппи, жена не баба, а черт в юбке, – рассказывал капрал. – Так я ей сказал… Она, понимаешь, взбеленилась…
Паавола опять наполнил чашки спиртом.
– А ты парень мировой, хоть с голыми руками к тебе не подступить, ты, брат, с характером. Я люблю таких парней. Хоть ты и двинул как-то мне по физиономии. И дал ты как надо. Это была рука мужчины. Ты, брат, не горюй. У нас в поместье работники всегда нужны. Только ломаться не надо. У нас если скажут что, то так и будет. – Капрал не заметил, что лицо Васселея перекосилось. – А ты, парень, мне нравишься, – продолжал он. – Если бы наш поход кончился по-другому, я бы отломил себе кусочек земли побольше, чем Каалеппи имеет, и Каалеппи рядом со мной был бы ничто. Знаешь, тебя бы я взял управляющим. И бабе твоей дело найду, да, служанкой пристроил бы. Ну, что ты скажешь на это?
– Иди-ка ты ко всем чертям…
– Что, что? Я… я…
– Да, ты свиное рыло.
– Да я тебя… Ты знаешь, с кем ты говоришь… – Паавола потянулся к ножу на поясе, но Васселей опередил его, ударив кулаком в челюсть. Паавола отлетел в угол, стукнулся головой о стену. Поднимаясь, он полез за револьвером.
– Сейчас ты у меня получишь… Я имею право…
– На этой земле у меня больше прав…
Васселей двинул еще раз. Получив еще один удар в челюсть, капрал остался лежать на полу. Васселей хотел было забрать у него револьвер, но передумал. Когда Паавола очнется, пусть застрелится. Васселей взял свою винтовку и ушел на позицию. В голове шумело от выпитого спирта и от злости. Но на морозе хмель быстро прошел, и ему даже стало смешно.
– Ты, никак, выпил? – полюбопытствовал Кириля.
– Капрал угостил.
– С какой стати он вдруг расщедрился?
– Приглашает меня управляющим в свое поместье.
– Да ну? – воскликнул Кириля с явной завистью. – Ты согласился?
– О плате не договорились. Я его уложил отдыхать. Пусть полежит, подумает. Ни за что не хотел ложиться. Пришлось пару раз рукой погладить, чтобы заснул.
Придя в себя, Паавола пытался вскочить, но со стоном опустился на нары. Он с трудом вспомнил, что произошло. И тут же решил, что Васселея надо немедленно пристрелить. Паавола сел и налил чашку спирта. Где же удобней всего шлепнуть этого карела? Но тут ему пришлось отказаться от немедленного исполнения своего твердого решения. Эти черти карелы все одним миром мазаны. Одного кокнешь, другой тебя прикончит. Так что с этим Васселеем лучше рассчитаться в другом месте…
Поразмыслив, капрал собрал свои пожитки, взял канистру со спиртом и отправился к командиру батальона.
– Я не хочу командовать этой группой, – доложил он начальнику. – Сплошные трусы и подонки. Я пойду к своим.
Да, в этой армии были свои и чужие. Это размежевание чувствовалось с самого начала событий, а теперь особенно стало явным. Одних ожидало возвращение домой, на родину, другим предстояло покинуть родные места и бежать на чужбину. Были и другие причины, подогревавшие эту взаимную неприязнь. Финны хотели, чтобы воевали карелы, а сами стремились занять командные посты. Карелы роптали: «Заварили кашу, а нам ее расхлебывать!»
После ухода Пааволы командиром группы назначили Васселея. Получив приказ, он махнул лишь рукой – теперь уже все равно…
Вернувшись с позиций, мужики стали допытываться у него:
– Ну-ка, командир, объясни нам обстановку.
– Хотите, я вам расскажу сказку? Жили-были старик и старуха. И был у них сын. Пошел он по свету. Идет и видит, три дороги перед ним. Стоит и не знает, по какой идти. А птичка ему пропела: «По одной дороге пойдешь – смерть свою найдешь, по другой отправишься – с головой своей расстанешься, ну а коли по третьей потопаешь – приведет она тебя прямо на тот свет, чертям на обед». Вот и наша сказка вся. Давайте спать. Утро вечера мудренее.
Озябшее желтое солнце висело над сугробами, по которым неслась гонимая ветром пороша. Казалось, от непрерывного треска пулеметов, которые, отойдя от сковывавшего их холода, наконец разгорячились, пороша все больше разыгрывалась, расходилась: она то окутывала цепи наступающих красных густой пеленой крутящегося снега, то срывала эту пелену, открывая их летящей навстречу смерти…
– За свободу Карелии! – был клич наступающих.
– За свободу Карелии! – был приказ тем, кто оборонял Коккосалми.
А Карелия, словно красавица, за которую шел горячий спор, подзадоривала и дразнила, кружась в быстром вьюжном танце в желтых блестках зимнего солнца: «А ну, ребята, чья возьмет?»
Цепи наступающих редели на глазах, но красные упрямо продвигались вперед и были уже уверены, что, несмотря на потери, они дойдут и ворвутся на высоту. Вдруг подобно внезапному тяжелому удару последовал приказ отступать. Приказ есть приказ, и его надо выполнять, как бы тяжело на душе ни было. Все придется начать сначала, деревню все равно надо взять… Отступление красных было неожиданностью и для белых. Но вскоре стали известны причины их поспешного отхода: во время боя командир белого батальона Янне Лиэху послал отряд лыжников в тыл красным, которым пришлось поэтому отойти и вступить в бой с ударившими с тыла лыжниками.
Янне Лиэху было приказано удержать Коккосалми любой ценой, чтобы красные не перекрыли путь отступления в Финляндию войскам мятежников и тысячам беженцев. Угоняя в Финляндию женщин, детей и стариков, главари мятежа убивали нескольких зайцев. Беженцы в Финляндии – дешевая рабочая сила, используя которую можно снизить заработную плату финским рабочим. Беженцы были находкой для пропаганды об ужасах большевизма. Беженцы могли стать своего рода заложниками, спекулируя на которых можно предъявлять Советам территориальные требования. Среди беженцев велась антисоветская пропаганда, из них готовили новых солдат для новых набегов на Карелию. Кроме того, эти женщины, старики, дети служили верной гарантией того, что солдаты-карелы проявят покорность и среди них окажется немного таких, кто при малейшей возможности перебежит к красным.
…Рийко потерял счет атакам. Ему казалось, что эти дни были сплошной, непрерывной атакой с небольшими передышками. Иногда они отходили почти да самой Кестеньги или останавливались в лесу, отдыхали час-другой у костров в чаще леса, потом их будили, и они снова шли штурмовать Коккосалми. Однажды, ползя по глубокому снегу к позициям белых, он заснул на ходу… Наверно, он спал с полминуты. Оглянувшись, он увидел, что все это время продолжал ползти вместе с другими.
Перед атакой должна была быть артподготовка, но батарея молчала – замки опять замерзли.
Вдруг огонь со стороны деревни прекратился. Что же там случилось?
– Я залезу на дерево. Посмотрю, – сказал Рийко командиру взвода, показав на одиночное дерево, возвышающееся на островке среди болота.
Командир заколебался, Дерево хорошо видно со стороны противника. Наблюдателя, конечно, заметят. Но все же разрешил, приказав открыть по позициям белых такой пулеметный огонь, чтобы нельзя было поднять головы от земли.
– Они драпают! – крикнул Рийко с дерева.
Из деревни бежали группами мятежники.
…Янне Лиэху приказал прекратить огонь, чтобы подпустить красных поближе. Красные, наоборот, все усиливали огонь. В воздухе стоял непрерывный свист, в окопы падали ветки и куски коры, срезанные пулями с растущих на высоте сосен. Несколько солдат, не выдержав такого огня, поползли в тыл.
– Куда, перкеле? – закричал Лиэху.
– Туда, – солдат показал на дорогу, что вела к Софпорогу. – Мы финны, с нас хватит.
За этими солдатами потянулись и другие. С полсотни мятежников покинули позиции. Началось бегство…
– Карелы, назад! – приказал Лиэху. – Застрелю каждого, кто захочет уйти. Вы умрете раньше, чем ваших баб и детей убьют красные…
Лиэху выбежал на середину дороги в с револьвером в руке стал останавливать бегущих. Увидев его, карелы остановились. Несколько финских солдат, с опаской поглядывая на револьвер, пробежали мимо него. Лиэху не стал их задерживать. Черт с ними! Но за финнами пытался проскочить и какой-то молодой карел.
– Стой! – гаркнул Лиэху. – А ты куда?
– Т-туда… куда и они…
– Назад! Немедленно! Ты же ухтинец?
Парень остановился.
– Я… я… У меня… вся родня там… в Финляндии… все знают там…
– А ты останешься здесь, слышишь.
– Я Симо Тервайнен! – Парень вдруг расхрабрился. – Знаешь, кем я прихожусь Митро и Хариттайнену? Знаешь?
Но Лиэху не слушал его: перестрелка усилилась, и Лиэху пытался разглядеть, что происходит на позициях. Воспользовавшись этим, Тервайнен проскочил мимо и побежал вслед за финнами.
– Подождите меня. Я с вами.
Лиэху круто обернулся и выстрелил в спину Тервайнену, успевшему отбежать десяток шагов. Парень остановился, откинулся назад и, как подкошенный, упал на дорогу.
– Ну, кто еще туда хочет? – спросил Лиэху, показав револьвером в сторону границы.
Это подействовало. Солдаты вернулись в окопы.
В этот момент и пошла в атаку конница красных. Клубы сухого снега взметнулись в воздух над болотом. Увязая в глубоком снегу, красные конники пытались пробраться через пролив. Страшная это была картина. Проваливаясь по грудь в сугробах, кони бредут и бредут. Все ближе, ближе… Если они доберутся до берега, то конец… Шашка – страшная вещь в ближнем бою. Оцепеневшие от ужаса мятежники прильнули к прикладам винтовок.
– Не стрелять! Еще рано! – передал по цепи Лиэху. Васселею он сказал: – Видишь, вон там на сосне наблюдатель? Сними-ка его.
Васселей взял на мушку фигурку на сосне.
Выстрел Васселея и сигнальный выстрел Лиэху, по которому белые открыли ураганный огонь по коннице, прозвучали одновременно. Казалось, воздух над высотой вдруг разорвался с грохотом и треском. Торопливо заговорили «льюисы» и «максимы», захлопали винтовочные выстрелы.
Рийко упал с дерева и схватился за колено. Нифантьев подполз к нему.
– Жив? Ранили?
– Какая-то сволочь чуть не убила меня! – Рийко выругался. – Колено рассадил… Попадись он мне, бандюга проклятый!
Попав под губительный огонь белых, лошади метались, вставали на дыбы, падали, скошенные пулеметными очередями. Сами кавалеристы тоже были хорошей мишенью. Следовавшая за конницей пехота красных залегла, но вести огонь по противнику ей мешали мечущиеся впереди всадники.
Рийко вставил в магазин последнюю обойму. Расстреляв ее, начал шарить по карманам в поисках завалявшихся патронов. Нашел три патрона. Их вместе с рыбником дала ему мать. «Надо ведь свою голову защищать…» – говорила она. Рийко знал, что матери уже нет в живых. Эту страшную весть привезли ребята, прибывшие с пополнением. Мать нашли холодной на холодной печи. О судьбе отца Рийко не знал ничего. Один из ухтинских мужиков, бежавших от белых, рассказывал, будто видел лошадь отца в обозе у бандитов. Но ездовым был не старый Онтиппа. Мамы нет… Родной дом стоит пустой, безмолвный… Неизвестно, что с отцом… Не хотелось верить, что все это так, что это – правда. Рийко вставил в магазинную коробку три последних патрона и послал их на высоту… Это за маму! Это за отца! А это – за нашу Карелию…
Пришел приказ отступить. Пулеметы остервенело поливали огнем высоту: под их прикрытием начали вытаскивать с поля боя убитых и раненых конников. «Удалось ли Евсею вернуться?» – подумал Рийко и пополз за санитарами. Когда их перевели в Кестеньгу, Евсей попросился обратно в кавалерию. Рийко видел, как он шел в атаку. Вокруг бились и ржали в предсмертных муках раненые лошади. Помочь коням можно было лишь одним – пристрелить их.
– Гриша! Ползи сюда!
Евсей лежал за убитым конем. Пустой карабин был зажат в закоченевших руках. Он шевелил губами, силясь что-то сказать.
– Только что крыл белых. Ничего, жив будет, – сказал санитар, закончив перевязку. – Подсоби-ка положить его на лыжи.
Евсея положили на связанные за крепления лыжи. Волокуш всем не хватило.
В густом ельнике пылал огромный костер, окруженный со всех сторон плотной изгородью из еловых веток. Подтащив Евсея к огню, Рийко черенком ложки разжал крепко стиснутые зубы раненого и влил ему в рот немного разбавленного спирта. Потом начал растирать снегом, Евсей пришел в себя, посмотрел вверх, на клубы дыма и искры, поднимающиеся от костра; губы его зашевелились, он что-то говорил.
– Что, что?
– Они… еще… там?
– Кто, где?
– Коккосалми у них?
Рийко так обрадовался, что ни с того ни с сего начал объяснять раненому Евсею разницу между словами «коко» и «кокко»… «Коко» – по-карельски «весь». Нет, весь пролив не у бандитов. У них лишь деревня Коккосалми, а «кокко» – значит орел.
Не дослушав объяснений Рийко, Евсей закрыл глаза и сказал уже громче:
– Погода-то на весну повернет скоро… Четыре года я своих не видел. Напиши матери. Жив, мол, Евсей. Может, к весне домой отпустят… домой…
…В Кестеньге было спокойно. В селе оставалось и мирное население. Лишь две семьи побогаче уехали в Финляндию. На дворах горели костры, на них в огромных котлах готовили еду для красноармейцев. Хозяйки с утра до вечера пекли хлеб для бойцов.
Рийко перевели в Кестеньгу в резервный батальон, в котором новобранцы проходили военную подготовку. Он стал инструктором по лыжной подготовке. Среди опытных красноармейцев, обучавших необстрелянных новичков, Рийко встретил много старых знакомых. Здесь был его бывший командир Михаил Петрович. Неразлучные друзья Юрки Лесонен и Сантери, как и Рийко, учили молодых красноармейцев ходить на лыжах. Они показывали, тренировали их и очень удивлялись тому, что бойцам не так просто давалась эта наука. Казалось, что тут хитрого: встал и пошел. Было среди инструкторов и немало финских красногвардейцев. Один из них, одноногий сапожник Тааветти, занимался изготовлением креплений для лыж.
По вечерам красноармейцы собирались и смолили лыжи у костров. Занятие это всем было по душе. Костры весело пылали, и настроение было тоже веселое. Ребята-южане удивлялись тому, что именно смола, которая сама по себе такая липкая, улучшает скольжение лыж.
– Смола, она вроде как скипидар, – пояснял Тааветти через переводчика. – Надо только знать, сколько ее положить. А ежели переложить, то может получиться, как у того холостяка… А ты попробуй смажь себе скипидаром одно место, знаешь, как бегать будешь!
– Эй, лыжа горит! – Рийко выхватил из рук заслушавшегося молодого бойца дымящуюся лыжу. – Так нельзя, Самойлов. Если лыжа обуглится, она скользить не будет.
Растерянный Самойлов взял лыжу, потер ее рукавом шинели и начал осторожно держать ее над пламенем. Рийко знал, что этот молодой боец – сын следователя особого отдела Самойлова.
Когда с мороза входили в натопленную избу, казалось, что пришли в баню. В камельке пылали смолистые поленья, освещая просторную избу, на полу которой на соломе вповалку лежали красноармейцы. Одни спали, другие курили. За столом, облепив со всех сторон пыхтящий самовар, сидели бойцы в одних нижних рубахах. На почетном месте восседал приехавший из Кеми ревкомовец Матвеев, рядом с ним Михаил Петрович.
– Поди-ка сюда, герой, – позвал Михаил Петрович молодого Самойлова. – Ну как, Миша, здорово ты колотишь беляков?
– Здорово, да не очень, – улыбнулся Миша. – Пока что я штыком чучела колю. Как там отец?
– Привет шлет да вот велел передать… – Матвеев протянул небольшой пакет. – Носки тебе.
Миша покраснел. Носки были ему кстати, и ничего зазорного в том, что их прислал отец, не было, но парню стало неловко: он же боец, а не ребенок.
– Сам знаешь, дел у него – вот так. Наверно, писать тебе некогда, – говорил Матвеев.
– Я недавно видел его, – ответил Миша. – Я слышал, семья к вам едет.
– Да нет. Как война кончится, сам съезжу за ней в Екатеринбург. А ты, Михаил Петрович, куда думаешь после войны податься? Мы же с Михаилом Петровичем земляки, – пояснил Матвеев Мише.
– Куда же мне? Конечно, домой, в Екатеринбург, – ответил Михаил Петрович. – Поеду к самой Екатерине Первой.
– Опоздали чуть-чуть, – заметил Миша. – Екатерина умерла в начале восемнадцатого века. Потом была еще царица Екатерина Вторая…
– У меня своя Екатерина. И первая, и самая лучшая! – улыбнулся Михаил Петрович. – И царица она тоже дай бог, такая, что не побунтуешь!
Тааветти, прислушивавшийся к разговору, понял, что речь идет о жене Михаила Петровича. Он, вздохнув, сказал Рийко:
– Вот у меня жена действительно самая первая женщина в мире. Евой ее зовут. Только сотворена она не из мужского ребра, а из самого крепкого можжевельника. Далековато сейчас моя Ева. Напрямик-то и близко, дня два на лыжах идти, да только в нашей жизни дороги чересчур извилисты. Такие они путаные, точно леска старого Маттилы после того, как котята поиграли с ней на чердаке бани. Пойти, что ли, на боковую, чтобы на душе стало веселей?..
Но заснуть ему не удалось. Он лежал на соломе, разглядывая широкие доски потолка избы. Потом он перестал видеть их, перед глазами стояла его Ева, сотворенная из можжевельника. Глаза Тааветти защипало, хотя дыма в избе не было.
За столом бойцы-карелы разговаривали о том, чем каждый из них намерен заняться после войны. Кто-то собирался пойти учиться в техникум. Тааветти не знал, что это за учебное заведение, но спрашивать не стал. Рийко собирался вернуться домой, а Сантери решил остаться военным.
– Учиться, домой, на печь, к жене. Эх вы! – горячо говорил он. – Нет, ребята, на этом войны не кончаются. Знаем мы буржуев. Залижут свои раны и опять полезут. Вот увидите. Нет, я пойду в военное училище.
Сантери говорил так громко, что кто-то из спавших проснулся и начал ворчать. Ребята притихли и тоже стали укладываться. За столом остались лишь Матвеев и Михаил Петрович.
– …Отец-то его не просил ни о чем таком… – тихо говорил Матвеев, поглядывая на Мишу. – Да не согласился бы он на такое. Но я все же так думаю… Молод он еще, дитя совсем… Поди знай, как там…
– Я тоже об этом подумывал, – полушепотом сказал Михаил Петрович.
Миша приподнялся и, обиженно моргая, сказал Матвееву:
– Так это вы обо мне тут… Кто вам дал такое право? Я пойду к комиссару, я скажу ему, что я… Если меня не пустят, я такое устрою, что…
– Ладно, ладно, Миша. Будет тебе! – Матвеев хотел отечески потрепать парня за волосы, но Миша увернулся и, поджав губы, снова лег.
Матвеев и Михаил Петрович тоже стали подыскивать себе местечко среди спавших.
В избе стало тихо, слышен был лишь храп, сонное бормотание да скрип снега со двора, где ходил, стараясь согреться, озябший часовой.
– Подъем!
Подъем был как в мирное время.
После завтрака батальон выстроили.
В окошках домов светились тусклые огни. Заваленные снегом крыши едва различались на фоне темного неба. Разведывательный взвод с лыжами на плечах зашагал по дороге в сторону Коккосалми. За ним выступила и маршевая колонна.
Миша Самойлов в тревожном волнении ожидал, что его вызовут и прикажут остаться. Пока он будет спорить и жаловаться, другие уже вступят в бой. Но его в штаб не позвали. Тогда его охватило новое волнение. Он идет в бой!..
…Кириля был в дозоре возле кестеньгской дороги, по которой шла основная колонна красных. Его охватил страх, когда он увидел, сколько красных направляется к Коккосалми.
– Я пойду сообщу своим, – попросил он у командира разведки.
Но командир не торопился. Он решил точно установить, какими силами и вооружением располагает колонна красных.
Однако дождаться конца колонны не удалось. Боковое охранение красных неожиданно наскочило на укрывшихся неподалеку от дороги белых разведчиков, и кто-то из разведчиков, не выдержав, открыл огонь.
Как только началась перестрелка, Кириля вскочил на лыжи.
– Идут! – крикнул он, добравшись до Коккосалми.
В деревне и без него знали, что красные уже близко: грохот стрельбы доносился до Коккосалми.
– Что тебе велели доложить? – потребовал Янне Лиэху от перепуганного Кирили.
Не моргнув глазом, Кириля начал сочинять донесение:
– Войска идет столько, что аж в глазах черно.
– Численность красных? – Янне требовал по-военному.
– Восемь тысяч! – выпалил Кириля не задумываясь.
– Дурак! Сказал бы – миллион. Слово покороче. Немедленно отправляйся на позиции. Не то получишь у меня восемь тысяч… Куда девались командиры рот? – спросил Лиэху у Васселея.
Почему-то именно вчера все командиры рот вдруг вспомнили, что у них есть неотложное дело к Парвиайнену, который являлся командиром Северного полка и штаб которого находился на безопасном расстоянии от передовой, около дороги на Софпорог. Уходя, командир роты оставил Васселея своим заместителем.
Лиэху все еще не хотел отступать, хотя оборонять деревню было уже бессмысленно: красные напирали со всех сторон и могли в любой момент отрезать путь к отступлению. Наконец стало ясно, что надо выбирать из трех одно – либо отступить, либо умереть в бою, либо сдаться в плен.
Последней покинула позиции рота Васселея. Янне Лиэху уходил с ней.
– Чего ж ты раньше не ушел? – спросил Васселей у Лиэху. – Ведь все начальство даже ниже тебя чином давно уже смазало пятки.
– Видимо, им есть куда бежать, – хмуро ответил Лиэху. – Вели поставить пулемет вон там… пусть прикрывают, пока ленты есть…
На софпорожской дороге стояли сани. Раненая лошадь билась в оглоблях, силясь подняться с земли. В санях лежал убитый в белом полушубке. Пожилая женщина тормошила убитого, обнимала его и плакала в голос. Васселей узнал убитого. Это был командир взвода, известный финский владелец оленей Мухтонен. Женщину Васселей тоже узнал. Жена Мухтонена была карелка, родом с самого севера Карелии. Уже лет двадцать она жила в Финляндии. Усадьба Мухтоненов стояла у самой границы.
Васселей пытался привести женщину в чувство, успокоить и увести.
– Пойдем. Все уходят. Слезами его не вернешь.
– Нет! Нет! Нет! – истерически закричала женщина. – Уходят… Бегут… Я останусь… останусь на родине… дома…
– Твой дом там.
– И там и здесь. Слышишь? Я не оставлю его.
Вой снарядов заставил Васселея броситься в снег. Снаряд разорвался совсем близко. Поднявшись с земли, Васселей увидел откуда-то взявшегося финского солдата, который лежал рядом с ним в снегу. Женщина схватила из саней винтовку и начала палить в сторону красных. Солдат попытался увести ее, но она вцепилась зубами в его руку.
– Перкеле. Она рехнулась, – сказал солдат Васселею. – Будешь свидетелем, что я ее не бросил. Разве сладишь с такой?
– Ты не уйдешь… Не бросишь своего хозяина! – закричала женщина. – Я вас обоих пристрелю.
– Сумасшедшая… Убьет она нас, – сказал солдат. Он вернулся, отнял у женщины винтовку.
– Подождите. Слушайте… Ты… второй… как тебя там… Скажи Импи… моей… дочери… – кричала женщина. – Скажи ей… что мы… что отец и мать… Слышишь?.. за Карелию… за бога… Мы – Мухтонены. Запомни!
Не успели Васселей и солдат сделать и десяти шагов, как позади хлопнул выстрел. Женщина лежала в санях рядом с убитым мужем. Из виска струйкой била кровь. Солдат вернулся, взял выпавший из руки женщины револьвер, отцепил с убитого пустую кобуру.
Из деревни по дороге открыли пулеметный огонь. Значит, в Коккосалми уже красные.
Пригнувшись, Васселей и солдат побежали догонять роту.
– На Софпороге мы их остановим, – сказал Лиэху Васселею. – Будешь командовать ротой. Конечно, нелегко это…
– Мне это не трудно, – Васселей остановился. – Я дам своей роте один-единственный приказ. Скажу, что каждый может убираться на все четыре стороны. Кто хочет – в Финляндию, кто хочет – пусть идет домой или катится к чертовой матери. А если кому охота умереть, пожалуйста – пусть дерется.
– За такие слова тебя следовало бы расстрелять.
– Пожалуйста.
– Ладно, иди ты… – Лиэху пошел вперед, Васселей шагал следом. – Я тебя расстреливать не стану. Но учти: при Парвиайнене много не болтай. Он любит стрелять, только не на фронте.
…Миша с гордостью ощущал тяжесть подсумков на поясе. Ему еще никогда не выдавали такого количества боевых патронов.
Вот если бы Надя увидела его сейчас! При этой мысли Миша расправил плечи и выпятил грудь. Когда он уезжал из Петрограда, Надя прибежала прямо с работы, в стареньком пальтишке, в красной косынке. Шагали колонной по Невскому на Московский вокзал. Надя шла рядом и почему-то смеялась. Такая уж она есть – смешливая. Когда пришли на вокзал и раздалась команда «Разойдись!», Надя оглядела его с ног до головы и опять рассмеялась.
– Ну и смешной ты!
– Почему смешной?
– Потому что смешной… Солдатик ты мой!
Конечно, Миша сам видел, что новенькая шинель сидит на нем мешком, вся топорщится, в плечах свисает, складки под ремнем неровные. Теперь бы Надя не смеялась над ним: шинель сидит как положено.
На вокзале Миша сперва не видел никого и ничего – только Надю. Потом вспомнил о матери. Мама тоже была на вокзале. Только ей не было смешно при виде сына, одетого в красноармейскую шинель, и она не думала о том, как шинель сидит на нем. Мать стояла в стороне и, обиженно поджав губу, смотрела на Мишу и Надю, державшихся за руки. Она, наверно, сердилась на Надю. Такие они, эти мамы. Когда детям весело, они сердятся или грустят. Миша подошел к матери: «Мама, не грусти, я ведь не на войну уезжаю». Тогда ни мать, ни он сам не предполагали, что скоро ему придется воевать. Думали, что просто будет служить действительную… «А я и не грущу», – улыбнулась мать. Когда раздалась команда «По вагонам!», мать сказала глухим голосом: «Ну вот, Михаил, ты и стал взрослым. Помни об этом». А поцеловала на прощанье, как маленького. Такие они, эти мамы, – говорят одно, а делают другое. Если бы мама увидела сейчас, как ее сын идет в бой!