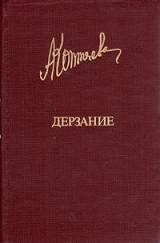
Текст книги "Дерзание"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
32
Иван Иванович встряхнулся, увидел напряженное лицо Наташи, вспомнил о придуманном ею для себя испытании и поискал взглядом скрипку. Острая тревога овладела им: не сможет Наташа, растеряется сразу и опять все забудет.
Наконец ему предоставили слово. Он никогда не злоупотреблял вниманием слушателей и, заранее продумав свое выступление, говорил точно и кратко, лишь изредка посматривая в конспект. Рассказывал и о Юр-гезове – больном с «маятником». Эта операция, при всей ее сложности, прошла успешно: хирургам удалось войти в мозговой желудочек и вынуть пулю, висевшую там на тонкой ножке из оболочки.
Юргезов сегодня тоже будет показан на конференции. Это редкостнейшая операция, но за Юргезова Иван Иванович сейчас не волновался: у него не было такого тяжелого состояния, как у Наташи.
Закончив сообщение, хирург сошел с кафедры, взял под руку Наташу, пугливо поднявшуюся ему навстречу, и вывел ее на возвышение перед слушателями.
Она стояла перед ними молча, но растерянность ее быстро исчезла: врачи и студенты, сидевшие здесь, осматривали ее сотни раз за полгода пребывания в клинике. Правда, был за это время и такой период, когда она как будто не существовала на свете. Может, и лучше, что больные не помнят себя в таком жалком состоянии. Но врачи-то помнят… Краска стыда слабо обожгла щеки Наташи. Но кто же виноват, раз так получилось! Наташа взглянула на Софью Шефер, на профессора Аржанова – отчего он такой угрюмый?! Сейчас она должна сыграть для них. В первую очередь для них: они поставили ее на ноги. Может быть, плохо у нее получится. Но одно желание подержать в руках скрипку – уже головокружительный взлет после такой тяжкой болезни.
– Дайте мне… – она протянула руку к Ивану Ивановичу, и рука задрожала, – скрипку! – еле слышно договорила Наташа.
Он медленно поднялся и тоже вздрагивавшими пальцами достал инструмент из футляра, лежавшего на столе и прикрытого газетой.
– Это очень серьезное испытание, – сказал он, обращаясь к аудитории. – Я не хотел его делать, но больная настаивает… Ну что ж, пусть попробует.
Наташа взяла скрипку, нежно погладила ее, с неожиданной радостью ощутила подбородком прикосновение прохладного и гладкого дерева. Ель… Скоро будет рядом сибирская тайга, могучие красавицы ели, запорошенные сейчас снегом. Возле маленького домика Коробовых тоже растут елки… Как хорошо пахнут они ранней весной, когда сыреют снега и ослепительно голубеет небо, или в новогодний вечер, радуя глаза детей богатым убором!
Наташа глубоко вздохнула – теперь воздух не был отравлен запахами, порожденными галлюцинацией, – и провела смычком по струнам, пробуя и вслушиваясь в певучий звук. По аудитории прошел неясный шелест удивления и смолк: все ждали…
Иван Иванович увидел расширенные глаза Софьи Шефер, и ему стало по-настоящему страшно. Он облокотился на стол, будто читая что-то, прикрылся козырьком ладони.
– Я сыграю канцонетту из скрипичного концерта Чайковского, – сказала Наташа.
– Наташенька, лучше что-нибудь попроще, – попросила Софья Шефер почти заискивающе.
– Нет, я сыграю то, что мне нравится, – упрямо ответила Наташа.
Однако легкое онемение еще владело ее пальцами, руки дрожали, и смычок, коснувшись струн, оказался непослушным: визгливые, фальшивые звуки резанули слух. Наташа не опустила смычка, но получалось все хуже и нестройнее…
Иван Иванович, страдая за нее, взглянул из-под руки на аудиторию. Он увидел студентов. Они так и тянулись к кафедре, сочувствуя Наташе, похожей в этот момент со своей нелепой стрижкой на безумного юношу-музыканта. Студенты хотели, чтобы она обязательно сыграла. В дальнем углу сидел Платон Логунов и, недоуменно, болезненно хмуря брови, смотрел на жену друга. «Зачем вы ее мучаете здесь? – наверно, думал он. – Человеку надо отдохнуть, собраться с силами, а вы его вытащили на эстраду!»
Потом Иван Иванович увидел Алешу Фирсова, вскочившего с места. Подросток хотел подойти к кафедре, его удержали соседи. И усмешки в зале тоже увидел профессор Аржанов. Его мало утешила мысль, что они относятся не к Наташе, а к нему, хотя он и не собирался блеснуть возрожденными способностями больной к музыке.
«Что, если бы эти усмешки увидела Варя? – промелькнула мысль, уже не обжигавшая болью. – Ведь она… Нет, Варя не была бы заодно с моими врагами, а рвалась бы душой к Наташе, как Алеша и студенты, ведь она восставала, желая добра нам обоим. Бедная Наташа, зачем она мучает и себя и нас? Неужели не сознает этого?»
Иван Иванович уже хотел встать, но Наташа сама вспыхнула от неудачи так, что порозовела кожа на ее недавно бритой щетинистой голове. Она не смутилась, нет, а рассердилась на себя, на свои только теперь точно оттаявшие пальцы.
Звонкий голос скрипки перестал вздрагивать и прерываться. Мелодия окрепла, зазвучала задушевно, сильно, нежно, и словно свежим ветром повеяло в зал с раздолья полей. Зашелестела листва на деревьях, сверкнула живой улыбкой разбуженная вода, и все задумалось снова: и природа и человек. Какое глубокое раздумье! Как горячо бьется сердце от ощущения полноты жизни! Какое кипение чувств, когда рождается мечта о счастье и вера в то, что оно будет, вера в благородство и чистоту человека, в его высокие стремления и свершения.
Иван Иванович слушал и думал об Ольге. О своих надеждах на создание хорошей счастливой семьи. Не сбылось, ну что же?! Зато Наташа воскресла, и эта музыка – о ее счастье, о ее будущей умной и прекрасной жизни. Ради одного этого стоит ему жить!
Ведь игра Наташи – песня и его мастерству и мужеству, его самоотверженному труду хирурга.
Он взглянул из-под ладони на свою бывшую больную… Одухотворенное лицо ее было прекрасно. Похоже, она никого не замечала вокруг, целиком отдаваясь мелодии, вкладывая в нее всю душу. Только она и скрипка… Как твердо ведет смычок рука, еще недавно похожая на вялую водоросль, и струны звучат все напевнее, и все ярче пробивается в чертах Наташи мягкий отсвет внутренней собранности, радостной уверенности в своих силах.
В аудитории уже никто не усмехался: всех покорила задушевная игра человека, возвращенного к жизни. И чем дольше играла Наташа, тем сильнее охватывало волнение врачей и студентов, сидевших в зале. Такой они еще не знали Наташу Коробову. Была сначала тяжело больная, потом она утратила всякое подобие разумного существа, и вот чудесное возрождение…
Наташа опустила смычок и с минуту постояла как бы в задумчивости, наклонив голову и держа в руке умолкшую скрипку.
– Кто она? Музыкантша? – спросил один из студентов.
– Нет. Учительница, – ответил другой.
Иван Иванович обернулся и снова увидел сиявшего теперь Логунова и Алешу Фирсова… Подросток стоял, подавшись вперед, и, точно завороженный, смотрел на Наташу. О чем он думал?
Аржанов еще раз взглянул на мальчика и представил себе Ларису и ее страдания. Однокрылая птица! Ведь это она сказала такие слова… И вдруг мелодия, которую играла Наташа, зазвучала и в его душе надеждой на счастье. Еще много хороших лет впереди у него и у Ларисы, и они любят друг друга. Что помешает им встретиться для того, чтобы уже никогда не разлучаться? У них еще могут быть дети. Как будет он беречь свою запоздалую радость!
«А Лариса? Захочет ли она пойти со мной? Может быть, ей совсем и не нужно такого счастья!»
Иван Иванович попытался усмехнуться, но иронии не получилось. Умом он хотел бы продлить отчужденность от того, что опять могло выбить его из колеи, а сердце радовалось и говорило свое: надо жить полной, гармонической жизнью, и тогда все будет прекрасно, как эта песня о возрождении Наташи.
33
– Зачем я сюда приехала? – прошептала Варя, стоя на крыльце деревянного дома и оглядывая сверху долину прииска.
Вначале все здесь понравилось ей, так напоминал этот сибирский прииск далекую, милую Каменушку. Потом она присмотрелась внимательнее, и оказалось, что горы не те: здесь они покрыты лесом сплошь и нет голокаменистых вершин, как на северо-востоке. И лес не тот: масса елей, сосен, кедров. Кругом вечнозеленые хвойники, как на Олекме, во времена ее детства в южной Якутии. И Платон Логунов не тот, каким он был на Каменушке, или на фронте и даже недавно в Москве. Вот это-то последнее обстоятельство больше всего волновало Варю. Странно, она никак не ожидала, что охлаждение Платона может так сильно задеть ее. Не просто женское тщеславие задето, а гордость человека, привыкшего идти к намеченной цели прямым путем: ведь она уже готова была ответить взаимностью на горячее чувство Платона, и вдруг он остыл… При одной мысли об этом краска стыда заливала лицо Вари, а сердце щемило от сожалений о… своей легковерности.
– Зачем я позволила уговорить себя?! – негодующе вопрошала она новые для нее горы, далекие и близкие в чистом таежном воздухе. – Провести свой первый отпуск в Сибири?.. Чепуха! Сопровождать в далекий путь Наташу?.. Но я не терапевт, не невропатолог, а глазной врач, хотя, конечно, со мной ей было спокойнее ехать. Мишутка не хотел расставаться с Платоном?.. Кто придает столько значения детским прихотям и капризам?
Нет, нет и нет! Наташа и дорогая Елена Денисовна уговаривали ее «прокатиться» в Сибирь (ближний свет – нечего сказать!) только для того, чтобы она получше пригляделась к Логунову. И Варя отлично это понимала, но в глубине души ей тоже хотелось испытать свои чувства.
– Вот и испытала! – прошептала она и даже притопнула сердито ногами, обутыми в кожаные, на меху, красивые полусапожки, вспомнив просьбы и уговоры самого Платона.
Ей, тепло одетой в шубку из коричневой цигейки и в меховую шапку, не страшен крепкий сибирский мороз, и не от мороза разгорелись ее щеки ярким румянцем.
Еще в поездке, по пути сюда, Платон отдалился от нее. Он заботился о своих попутчицах, был изумительно хорош с Мишуткой, но к Варе отчего-то охладел: избегал оставаться с нею наедине, а больше разговаривал и шутил с Наташей. Сначала Варя, занятая своими раздумьями, не заметила этого, потом самолюбие ее было невольно уязвлено.
Когда она наблюдала встречу Наташи с мужем и дочерьми, то почувствовала себя вознагражденной за длинный путь: Ваня Коробов с двумя крошками на руках произвел на нее незабываемое впечатление. Но, глядя на них, она особенно остро ощутила свое одиночество. Это не было завистью. Любуясь на радость милых ей людей, Варя еще раз переживала боль сердечной утраты, тоску о разрушенном семейном счастье. К тому же Мишутка оказался совершенным эгоистом: он – проводил все время то в обществе маленьких Коробовых, то (как недавно сынишка Ольги) ходил по пятам за старухой Егоровной. Его совершенно не занимали переживания матери.
«Надо скорее в Москву. Скорее на работу. Праздная жизнь – настоящая отрава», – думала Варя, шагая к дороге, где стояла лошадь, запряженная в кошевку.
Белые сугробы лежали по обе стороны тропинки. Густые елки теснились за ближними домами на косогоре. В одном из этих домов в отдельной квартире жил Логунов. Он только что заходил к Коробовым предупредить их и Варю, что пора ехать к Тавровым, которые жили в стороне от рудника и фабрики, в приисковом центре, по ту сторону долины. Там торжество: у Ольги родилась дочка, и надо отпраздновать день ее рождения.
Варя никогда не любила Ольгу. А теперь ей особенно не хотелось встречаться с нею, поэтому собиралась она в гости с большой неохотой. Зато Мишутка сразу удрал вместе с Платоном, который помог ему одеться и увел его, на ходу сухо перекинувшись с Варей обычными словами о здоровье, о погоде.
Вот слышен их громкий смех, суровый сибирский мороз не пугает Мишутку: он как будто здесь и родился.
– Глупо! Очень глупо! – шепчет Варя то ли самой себе, то ли обращаясь к Логунову, и идет навстречу ему и сынишке среди праздничной белизны сугробов, легкая и теплая в своих пышных мехах.
Она даже не взглянула на Платона. Что он ей!
«Видно, не зря всю жизнь живет бобылем! Чудной какой-то!» – заключила она с раздражением.
Ее злит то, что она теперь больше, чем нужно, и с большим волнением, чем ей хотелось бы, думает о Платоне. Даже странно!
«Ну погоди же: недаром сложена сказочка о журавле и цапле, которые всю жизнь сватались! – Поймав себя на этой мысли, Варя даже ахнула внутренне, однако, влезая в кошевку, продолжала упрямо и угрюмо: – Когда я уеду в Москву, ты опять туда прикатишь, но…»
Что «но» – она не додумала: застоявшаяся на морозе сытая лошадь с места взяла в карьер, едва Платон посадил в кошевку Егоровну и Мишутку и взял в руки вожжи. Пробежав немного рядом, Логунов, боясь прыжком с разбега ушибить седоков, вскочил на запятки санок.
«Сильный какой! – Варя поглядела на туго натянутые вожжи, слыша за своим плечом ровное дыхание Логунова. – Не задохнулся».
Она могла бы отодвинуться, но не сделала этого. Наоборот, ей захотелось придержать его за полу дошки, чтобы он не свалился.
– Подвинься! – сказал он, наклоняясь к ее лицу, разгоревшемуся под мехом шапки.
Она послушно пересела, но Логунов не занял места рядом, а, не останавливая резвого бега лошади, перешагнул в кошевку и стоя, к великой радости Мишутки, помахивая петлей вожжи, погнал крупной рысью.
«Еще вывалит! Что за озорство!» – снова сердито подумала Варя, щурясь от снежной поземки, так и хлеставшей теперь в лицо.
А Мишутка держался за меховые ноги своего нового друга обеими руками и громко хохотал.
– Закрой рот, а то простудишься! – Варя притянула мальчика к себе и подняла повыше кашне, завязанное под оттопыренным воротником его шубки.
Мишутка отбивался, и, глядя на него, старая Егоровна, довольная тем, что ее взяли с собой, смеялась от души, прищурив слезящиеся глаза.
Далеко позади отстал Коробов, нарочно попросивший на конном дворе самую смирную лошадь.
«Еще бы! Везет жену, недавно перенесшую страшную болезнь, и крошечных дочерей… Какой серьезный человек погонит вот так? Только шальной, еще не перебесившийся парень!»
Но Варя не высказала Платону своего недовольства. Пусть беснуется. Не перевоспитывать же его! А еще казался всегда таким серьезным. Хотя теперь уж все равно. На днях она уедет в Москву, вернется к работе над диссертацией, к своим больным. Вливание новокаина внутримышечно облегчило немного состояние Березкина. Это уже большое дело. Но, лишь мельком подумав о Москве и делах в больнице, Варя снова отвлекается… Кошевка чуть-чуть не опрокинулась на раскате, и только ловкость Логунова и то, как он затормозил ногой, весь накренясь в сторону, спасло седоков от падения в сугроб.
«Сломал бы ногу… бешеный! Только этого еще недоставало!» – с мгновенным испугом сказала мысленно Варя, но вслух не проронила ни словечка а только крепче прижала сынишку. Мишутка и в ус не дул, слушая, как покрикивает дядя Платон, как повизгивает под полозьями мерзлый снег да изредка поддает копытом в передок кошевы лошадь, которая разошлась во весь мах, высоко неся под дугой красивую раскосмаченную голову.
34
Ольга! Неужели эта миловидная, располневшая жизнерадостная сибирячка та самая московская кап ризница, которую Варя знала на Севере? Сколько раз она приносила ей обед в маленьких эмалированных судках, когда Ольга не то болела, не то просто хандрила перед отъездом Ивана Ивановича в тайгу. Закутанная до пяток в теплый халат, высокая, тонкая женщина с оледным лицом и широкими зелеными глазами, обведенными густой тенью… Как хотелось тогда Варе высказать ей все напрямик, и она поговорила-таки с ней по душам. Ах ты, Ольга Павловна! Сейчас ты кажешься много старше, но раньше не была такой веселой.
Борис Тавров? Добрый знакомый Вари, на которого она столько досадовала и которому не раз была благодарна в глубине души. Он тоже постарел, стал какой-то квадратный. Ну да… плечи раздались, а ростом невысок.
В этом они схожи с Платоном, словно родные братья. Только один светлолиц, голубоглаз, с прямыми русыми волосами, другой черен, как головня.
Тавров долго трясет руку Вари. Ольга без раздумья обнимает ее и крепко целует в щеку, обдав легким запахом хороших духов и молочным дыханием грудного ребенка. Или это показалось Варе – дыхание ребенка… Она знает, что Ольга недавно родила и кормит (у нее теперь высокая, тугая грудь здоровой матери).
Но даже встреча со старыми знакомыми только на миг вернула мысли Вари к прошлому: снова ее отвлекла возня Логунова с мальчишками. Теперь двое навесились на него – Мишутка и Ольгин Володя… Мальчики успели подружиться, когда Тавров был на руднике и заезжал к Коробовым навестить Наташу. Логунов возится с мальчишками, как ручной медведь, позволив им оседлать себя и делая вид, что они заставили его встать на колени. Володя, надев меховые варежки отца, со свирепым видом заправского боксера тузит Платона по плечам и груди, а Мишутка, повиснув за спиной, тискает ручонками покрасневшую его шею, пока он, задыхаясь, со стоном и смехом не сваливается на лосиную шкуру, сгребая в охапку только что торжествовавших победителей.
– Нокаут! Нокаут! – кричит Володя.
Ольга смеется, держа обеими руками локоть Наташи и не отпуская ее от себя (раскутывать близнецов помогал Коробову Борис). Потом она говорит, глядя на Варю:
– Смешной Платон, правда! Я далее не думала раньше, что он способен «а такое баловство. Раньше он, пожалуй, серьезнее был. А?
Варя не отвечает. Эта идиллия вызывает в ней опять чувство досады. Такой богатырь, как Иван Иванович, не стал бы валяться на полу с чужими ребятишками, а Платону все сойдет с рук. Значит, он только прикидывается серьезным. Тем хуже для него!
– Пойдемте, я покажу вам свою Катеньку, – предложила Ольга с гордой и нежной улыбкой. – Мы назвали ее Катериной в честь моей мамы.
Катеньке всего две недели с половиной. Ну, скажем, девятнадцать дней. Но для Ольги это уже настоящий человек. Собственно говоря, и Варя, сразу подобревшая, и Наташа, очень миленькая в ловко повязанной шелковой косынке, тоже разделяют материнское самодовольство Ольги. Девочка хорошая: крупненькая, с гладким смугловато-розовым личиком и длинными ресничками – похожа на мать.
– Вы видите, какие у нее волосики! – Ольга трогает ладонью на редкость густые и длинные светлые волосы ребенка. – Я даже подстригла ей челочку. Сзади они ложатся на плечи. Она спит спокойно, и я ее не пеленаю! – Ольга наклоняется крепким станом над кроваткой, осторожно выпрастывает из-под одеяла сжатые крохотные кулачки дочери. – Смотрите, как она славно улыбается во сне!
Женщины смотрят: Катенька точно улыбается!
– У меня Мишутка начал улыбаться после двух месяцев, – говорит Варя.
– А помнишь, в Сталинграде?.. Родился ребенок в подвале. – Наташа обняла рукой плечи Вари, прижала ее к себе, точно сестру, задумчиво продолжая глядеть на спящую Катеньку. – Помнишь те страшные бомбежки? И вдруг ребенок родился! Ты не забыла, Варя?
– Нет, конечно, мы ее назвали Витусей. Столько разговоров везде было о ней.
– Я в тот вечер еще ничего не слышала. Наверно, с месяц была глухая. – Лицо Наташи мрачнеет. – Вечером родилась Витуся, а ночью я проснулась и так обрадовалась: слышу – рядом дышит Лина. Сначала только это и услышала – ее дыхание, и сразу взрывы. Бедная Лина! Наверно, они с Семеном тоже здесь жили бы! У них теперь росли бы дети!
С минуту женщины молча глядят на спящего ребенка.
– Самое главное – чтобы были дети! – почти торжественно сказала Наташа. – Все, что мы создаем, делается для них. Дети – смысл жизни.
– И работа. – Это Варя.
– И счастье, – добавила Ольга. – Не только для того появляется на свет человек, чтобы вырастить себе смену! Ведь все живое на земле: и насекомые, и птицы, и маленькая травка каждый по-своему трудится ради своего потомства. Да-да-да, маленькая травка тоже много трудится, чтобы вырастить свое потомство, – повторила Ольга, обрадованная найденным образом. – А человек?.. Он сверх всего должен быть счастлив. Но счастья без любви нет. Значит, и дети, и работа, и все общественное устройство – ради любви…
– Ну… Хватили! – перебила Варя с внезапным нервным смехом. – Миллионы людей живут без любви.
– Это очень плохо! – горячо ответила Ольга. – Так было в прошлом, так сейчас… Сейчас в основном виновата война, которая насильно оторвала миллионы людей друг от друга. А в будущем человек без любви вообще не сможет существовать. Ведь это лучшее, что создано человеческим сознанием в течение многих, многих веков, – большая, осмысленная любовь, когда, обнимая любимого, обнимаешь весь мир, без которого нельзя дышать.
– Вы так чувствуете сами?
– Я? Я чувствую еще не совсем так, хотя сейчас мне очень хорошо. А вот моя Катенька, она испытает именно такие чувства. Ведь чем прекраснее становится жизнь, тем лучше, тем чище, богаче любовь. Какой она будет завтра, мы можем судить по своему сегодняшнему чувству, цветет оно, и все вокруг радуется, но как становится темно, когда оно умирает! А умирает оно не потому, что любовь непрочное чувство, нет, оно очень цепкое, оно, пожалуй, самое сильное из всех человеческих чувств. Но иногда мы сами его убиваем… Думаем, что оно дается раз в жизни, значит, навсегда, и начинаем топтать его. Капля за каплей роняем яд повседневно, ежечасно, а потом стоим над дорогими останками и в недоумении разводим руками: да что же случилось? – Ольга взглянула на побледневшее лицо Вари, смутилась, но заключила упрямо: – Я это пережила и говорю на основании собственного опыта. Но смерть любви к одному человеку еще не означает конец личной жизни. Потребность счастья поистине неистребима.
В столовой тем временем стало очень шумно. Два мальчика, две девочки, старушка и трое мужчин устроили там настоящий базар, и Ольге пришлось приложить нешуточные усилия, чтобы навести порядок и усадить всех за стол.
Логунова, конечно, устроили рядом с Варей, но они так мало интересовались друг другом, что даже Ми-шутка это заметил.
– Ты почему не кормишь моего папу? – громко спросил он.
Все засмеялись, а Варя, тщетно пытаясь сохранить спокойствие, спросила, в свою очередь:
– Кто тебе позволил называть так Платона Артемовича?
– Я сам…
– И я, – сказал Логунов, глядя на мальчика, но не на Варю. – Мы с ним шутим.
– Нашли, чем шутить! – вырвалось у Вари, и она тоскливо оглянула людей, сидевших за празднично убранным столом.
О чем только думает этот негодник Платон?! Как может издеваться над человеком, попавшим в такое глупейшее положение?! Ведь все считают, что она приехала сюда ради него…
«А разве нет?» – не щадя собственного самолюбия, задала себе вопрос Варя.
Конечно, она не собиралась оставаться здесь и поехала только потому, что устала от душевного угнетения и просто боялась потерять преданного ей, хорошего человека, не хотела сразу порывать с ним. Да, именно так: не из-за любви поехала, а на время сбежала из Москвы от тоски сердечной. Но получилось странное: любовь Платона, убывая в нем, как будто переходила к ней. Чем холоднее становился он, тем сильнее разгоралась она. А после рассуждений Ольги и по-детски глупой выходки Мишутки ее просто лихорадило.
«Какая я несчастная! – подумала она, глядя, как Ваня Коробов ухаживал за женой и своими дочками. – Ну скажите на милость, отчего мне так не везет в жизни?»
Ольга с помощью домашней работницы и Егоровны хозяйничала за столом. Незаметно, но пристально наблюдая за ней, Варя убеждалась: да, она счастлива! "Цветет в этой семейной обстановке. Недавно вышла в свет книжка ее очерков под названием «По родным просторам»… Очерки несравненно лучше тех, которые Ольга писала раньше. А она еще собирается писать о новостройках Сибири. Ну и пусть пишет, воспитывает ребятишек и чувствует себя счастливой с Тавровым. Прекрасно!
Егоровна, милая, смешная старуха, делает ей какие-то знаки, стоя на пороге спальни. Наверно, проснулась Катенька, и Ольгу точно ветром вынесло из комнаты. Легкая она на ногу, хотя и грузновата теперь с виду. Понятно: здоровая, цветущая женщина. А Варя сидит бледненькая, только глаза горят словно угли. Невесело Варе.
«Зачем я сюда приехала? – в сотый раз спрашивает она себя. – Завтра же в Москву! Домой! Домой! Хватит, нагостилась в Сибири!»








