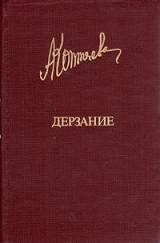
Текст книги "Дерзание"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
31
– Я ничего не мог сделать: сразу начался отек мозга, давление и пульс перестали определяться. Пришлось зашивать операционную рану и прибегнуть к переливанию крови, чтобы не потерять больную на столе, – рассказывал Варе подавленный неудачей Иван Иванович у себя в кабинете.
«Не смог помочь Наташе! Зачем же тогда брался?! – горестно думала Варя, избегая глядеть на мужа, чтобы не рассердиться и не наговорить ему бог знает чего. – Хирургия – высокое искусство, и хирург должен быть в настроении. А разве не выбила его из колеи потеря в эти дни двух больных на тех ужасных операциях, а то, что теперь комиссия расследует его работу? Ушел от своего дела, таким трудом завоеванного, и вот: ни то, ни другое! И Ваня Коробов тоже хорош, ведь я предупреждала его!»
– Теперь ты понимаешь? – все-таки вырвалось у нее с укором. – Ты знаешь, какие ходят разговоры… Говорят, что здесь есть хирург, но нет клиники. – Голос ее задрожал от тяжелого волнения, когда она произносила эти жестокие слова: ведь она видела, что недавно горевшее пятнами лицо Ивана Ивановича теперь могло поспорить белизной с его халатом.
– Ты сама-то понимаешь, что ты делаешь? – тихо спросил он.
Вид и тон профессора остановили бы любого человека, дорожившего его расположением.
– Не сердись! – будто спохватясь, ласково попросила Варя и, подойдя к нему, взяла его большую руку своими маленькими горячими руками. Глаза ее с мольбой и любовью. искали его взгляда. – Ты пойми, как мне дорого все, что связано с тобой! Ведь я тоже твое создание: сколько доброй души ты вложил в мою жизнь! И я не мыслю себя в отрыве от того, чем ты занимаешься, чем ты дышишь. 'Разве я могу равнодушно принимать твои неудачи? И можно ли меня обвинять за это?
Такая нежность звучала в голосе Вари, что Иван Иванович поддался ее обаянию, понурился, прижал к щеке ее узкую ладонь. Сомнение в правильности избранного им пути возникло и у него.
Ведь скольких трудностей можно было избежать, не возьмись он за сердечную хирургию! И не угнетал бы тяжкий душевный груз. Кто знает, может быть, Непрерывное волнение последних дней тоже сыграло какую-то роль в неудачной операции! Хотя нет, в момент операции он был собран и уверен в себе. А что касается спокойствия, то Варины разговорчики насчет Наташи выбили его из колеи сильнее, чем комиссия, назначенная министерством.
– Недаром говорят, что сердечная хирургия опасна своей увлекательностью, – продолжала Варя, обманутая видом его нелицемерного смирения. – Это опасно не только для нас, молодых врачей, которые, не овладев малым, стремятся сразу к большому. Ты опытный хирург, но и ты увлекся… Я не могу молчать, дорогой. Зачем ты взялся оперировать Наташу? Зачем ты держишь здесь Морозова? Сколько раз можно открывать окно в череп?! Ты сам говорил: нейрохирургия– великое дело! А раз так, надо отдаться ему целиком.
– Иначе нет клиники! – сразу вспыхнув, договорил Иван Иванович и, резко отвернувшись, вышел из кабинета.
Варя, словно окаменев, смотрела ему вслед.
– Ой! Да что же это такое?! – сказала она наконец и, в изнеможении опустившись на стул, закрыла лицо руками.
Рабочий день второго профессора клиники уже закончился, можно было бы свободно поплакать в его кабинете, не боясь, что войдет кто-нибудь посторонний. Но Варя не плакала, а только изо всех сил сжимала виски и, покачиваясь, как ушибленная, шептала:
– Да зачем же? Зачем так получается?!
В воображении ее неотступно стояло помертвевшее лицо Наташи в белом шлеме повязки, с опухшими глазами, совсем затекшими после неудачного хирургического вмешательства.
Она сказала Софье Шефер:
– Напишите Ване, как я держалась.
И держалась хорошо, но попытка хирурга не увенчалась успехом.
Со вздохом, вырвавшимся, казалось, из глубины души, Варя открыла глаза и вздрогнула: на нее глядел Платон Логунов…
Откуда он взялся? Занятая работой, Варя не успела наведаться к Наташе перед самой операцией и ничего не знала о его приезде, а вот он здесь… Стоит перед нею, растерянно опустив руки, немного постаревший, немного огрузневший, но не узнать его с первого же взгляда невозможно. У кого еще есть такие, точно углем нарисованные брови с крутым изломом, крупный угловатый нос и резко очерченные губы, которые как будто никогда не произносили ни одного нежного слова? Стоит, словно смущенный мальчик, а черты лица просто грозные. И от этого немножко смешным показался Платон Варе, хотя ей было совсем не до смеха.
А он даже не рассмотрел, какая она стала, ошеломленный встречей, но сразу заметил печаль и следы слез на ее лице.
– О чем, Варя? – с нескрытой лаской в голосе спросил он, крепко сжав протянутую ему руку.
– Ах, Платон… Артемович! Если бы вы знали! – с горечью вырвалось у Вари.
Это был человек из ее родного далека, друг комсомольской юности, свидетель второго Вариного рождения.
Ей сразу вспомнилась занесенная снегом далекая Каменушка, и суровый мороз, окутывающий паром поселок в долине, и чернь лиственничных лесов на кручах гор, и мерцание фосфорически светящихся звезд в небе, похожем на голубое оледенелое озеро. То ли шуршит застывший воздух от дыхания, то ли это шорох от мерцания звезд. Тайга. Тропы лесные. Терпкий дымок стелется над бревенчатой юртой. Ярко пылает огонь в камельке, и звенит, звенит под хомус песня о новой жизни в тайге. Может быть, сложена она пастухом на приволье летних пастбищ, может быть, на высоком нагорье навеяна охотнику перезвоном прозрачного ключа, может быть, рыбак сложил ее на могучей Чажме, катящей студеные воды к бескрайним просторам тундр, к мировому водохранилищу Ледовитого океана. Но каждый, кто пел ее, переделывал эту песню по-своему и в ней рассказывал только о себе. В 'этом была великая правда, потому что жизнь всюду строилась заново.
Совсем еще девочкой Варя радостно приняла это новое. И не только она одна: тысячи молодых людей вышли из темноты душных юрт. И сколько хороших Друзей они нашли! Для Вари семья Хижняков стала Родной семьей. А Платон Логунов? Он ведь тоже Участник торжества второго Вариного рождения!
– Ах, Платон! – повторила Варя печально.
Она всегда прямо высказывала свои мысли и чувства и сейчас чуть не пожаловалась Платону на разногласил с мужем. Но радостное оживление Логунова остановило ее.
«Он еще больше обрадуется, если узнает о нашем разладе! – мелькнуло у нее. – Очень хороший, добрый человек, но обязательно обрадуется. А разве я променяю Ивана Ивановича на него? – И сразу подумала с горькой внутренней усмешкой: – Променяю? Променять можно только свое, а могу ли я сейчас назвать Аржанова своим? Он любит другую. Он не только не терпит критики, но просто отбрасывает, как оскорбление, все советы, какие я пытаюсь ему дать. Советы, продиктованные моей любовью, моей боязнью за него и его работу. Так зачем же я мучаю себя?! Не похожа ли я на пьяного пастуха, который накидывает аркан не на шею оленя, а на пень, плывущий по реке в половодье?»
– Что, Варя? – напомнил Логунов, не сводя с нее взгляда.
– А разве вы не знаете? – Голос Вари прозвучал приглушенно, и уже ничего нельзя было прочесть на ее точно окаменевшем лице. – Вы видели Наташу?
– Да… Об этом я и хотел поговорить с Иваном Ивановичем. Не получилась операция… – И такое искреннее огорчение выразилось в словах и во всем энергичном облике Логунова, что холодок Вариного сомнения в его доброжелательном отношении к Аржанову сразу растаял.
Она поняла: Платон остался таким же, каким был на Севере, а потом на фронте. Не зря при расставании в Сталинграде возникло у нее что-то большее, чем простое чувство дружеской симпатии к нему. Кто знает, не лучше ли сложилась бы ее жизнь с этим добрым, дверным и понятным ей человеком? И снова она сама оспорила возникшее у нее нелегкое раздумье: каждый день жизни с Иваном Ивановичем помогал ей расти.
«А теперь? – чуть не спросила она себя вслух. – Да что же делать теперь? Смириться? Выслушивать за углом всякие пересуды и молчать малодушно из боязни навлечь на себя гнев любимого человека? И в словах злейших врагов есть доля истины. Как теперь начнут клевать его, если комиссия осудит его работу в клинике! Осудит, наверное, и неудачную операцию Наташе тоже отметит».
__ Да, операция не удалась! – сказала Варя, прямо взглянув на Логунова. – Иван Иванович считает, «то ему помешал начавшийся после трепанации черепа отек мозга…
– Считает? А на самом деле?
_ На самом деле, я думаю… он уже отошел от этих операций. Он весь сосредоточен сейчас на сердечной Х11рургии, а операция Наташе – случайное исключение.
Неподдельное изумление пробежало по лицу Логунова и спряталось в его прищуренных глазах. Закусив губу, он насупился: сразу стали понятны ему слова Коробова о Барином предупреждении. Так вот оно что! Нехорошо, совсем нехорошо получается.
– И вы можете так говорить? – упрекнул он, почти оскорбленный в своих чувствах к Варе.
– Да, Платон Артемович! Мне не легко говорить, но нельзя делать операцию в отрыве от клиники. Это мнение лучших специалистов, и я не вижу причины, почему мой муж должен идти против него! Хирург обязан изучить больного, поэтому нужна специализация, а Иван Иванович разбрасывается. Он увлекся сейчас новой областью, страшно сложной, во многом неизведанной, где на каждом шагу препятствия, часто непреодолимые. И вот… нервничает там, срывается здесь. Дело дошло до того, что министерство прислало комиссию для обследования его работы.
– Даже так? А ты… А вы с ним-то говорили об этом? – перебил ее Логунов, подумав: «Ведь Иван Иванович всегда такой неспокойный, как будто мало ему неприятностей и волнений в жизни и он все время ищет их!»
– Я устала повторять ему одно и то же! – сказала Сердито Варя. – Всякий раз это вызывает у него обиду и злость. Да, злость! Он смотрит на меня в такие минуты, как на ничтожество, посягающее на его авторитет. А я уже не та, что была на Каменушке, и не та, что на фронте. Я во многом стала разбираться и…
иногда просто голову теряю от страха за него.
– И ты сказала Коробову, что он зря поместил Наташу сюда?
Да. И Ивану Ивановичу тоже!
– А этого не надо было делать. Пожалуйста, не вздумай расстраивать Наташу. Коробов – хороший парень, за него можно поручиться: он не затеет склоки. А Наташа… Она беспомощное сейчас существо, но… – Логунов посмотрел в лицо Вари, выражавшее глубокое, хотя и не осознанное ею волнение. – Но я верю в Ивана Ивановича. Уж если наш профессор воздержался от операции, значит, почувствовал, что тут можно погубить человека.
– Лучше бы он перевел Наташу в институт Бурденко, – упрямо сказала Варя, задетая тем, что Платон держит сторону Ивана Ивановича.
«Легко ему поддакивать, когда он, ничего в медицине не понимает!»– с досадой подумала она, хотя одновременно у нее и промелькнула мысль о суровой беспристрастности Логунова.
– Наташа сама не захотела лечь в другую клинику, – сказал неожиданно появившийся Иван Иванович.
Оба вздрогнули, но, обернувшись, посмотрели на него прямо: Варя – с вызовом, Логунов – грустно.
– Мы провели самое тщательное клиническое исследование, – продолжал Иван Иванович, обращаясь к Логунову, на Варю он даже смотреть не мог: такое возмущение вызвала она в нем. – Мы подготовили Наташу к операции, но вдруг начался отек мозга. Я не мог, вынужден был отказаться от продолжения операции. Мы, конечно, повторим попытку, только не сейчас. Пусть больная полежит, соберется с силами…
– Состояние ее все ухудшается, – напомнил Логунов, пытливо взглянув на Варю, которая не выказывала ни смущения, ни готовности отступить.
«Ох, какая зубастая ты стала, Варюша!» – с удивлением отметил он.
– Да, к сожалению, болезнь прогрессирует, но сегодня возникла грозная помеха, которой может и не быть при повторном хирургическом вмешательстве. Ведь нейрохирурги до сих пор не разрешили проблему отека мозга. – Иван Иванович говорил стоя и не приглашал Платона сесть, не пригласил его и домой, что было совсем не в его характере.
Значит, он в присутствии Вари чувствовал себя отчужденным и здесь и дома. Видимо, нелады у них зашли далеко. Злорадство вспыхнуло в душе Логунова и сразу погасло, оставив лишь сожаление о собственной неудачной жизни: разве ему легче от того, что в семье Аржановых возник раздор?
Варя посмотрела на мужчин и вдруг такой лишней почувствовала себя среди них, такая тоска напала на
нее.
– Я пойду, – сказала она, ни к кому не обращаясь, и, не простясь с Логуновым, быстро вышла из комнаты.
32
«Нескладно сложилось у Вареньки с Иваном Ивановичем! – огорченно думала Елена Денисовна на ночном дежурстве в родильном доме… – Нелегко им ладить: одна задериха, другой неспустиха. Чуяло это мое сердце, когда мне хотелось, чтобы он помирился с Ольгой. Знаю я Варенькин пылкий характер. А ему тихоня нужна, вроде Ольги».
Елена Денисовна уже второй месяц занималась снова дорогим ей делом акушерки. Наташка даже смеялась над тем, как хлопотливо она собиралась каждый раз на работу.
– Наряжаешься? – спрашивала девочка, обнимая сильными руками шею матери и заглядывая в ее голубые глаза, выцветшие после смерти Бориса. – Как ты франтишь перед своими младенцами! Каждый день душ принимаешь. Наглаженная, начищенная, будто на праздник, а что они понимают?
– Насчет этого они больше нас с тобой понимают: если вокруг грязно, то протестуют, да еще как! И плачут и болеют. Поэтому грош цена той акушерке, которая растрепа да грязнуля!
Матери, в муках и надеждах рожающие своих детей! До чего же милы они сердцу Елены Денисовны! Особенно трогательны молодые – первородящие, Миннокосые и стриженые, одни в горячем румянце, Другие бледненькие, все босые, в коротеньких рубашонках– Кто сказал, что внушение обезболивает роды? Боль остается. Но страх перед нею можно развеять. Оказывается, ее можно легче перенести, если не бояться, а думать о том, что надо помочь ребенку благополучно явиться на свет. Вот молоденькая женщина с тонким носиком и пухлыми губами, выполняя советы врачей, глубоко дышит, поглаживая нежно и осторожно свой высокий живот, но вдруг вся розовеет, щеки ее становятся пунцовыми, и даже слезы навертываются на глаза. Бросив массаж, забыв о глубоком дыхании, она закрывает лицо мягонькими, в ямочках, словно у ребенка, руками – сильная схватка.
– Дыши, дыши глубже! – напоминает Елена Денисовна, предупреждая возможный срыв.
А на крайнем столе – в родильном их пять – роженица сорвалась: закричала.
«Поет голосом! – по-доброму смеясь про себя, акушерка направляется к ней. – Когда что-нибудь неладно, крик не такой. На тот крик летишь со всех ног».
Утром работа пошла с прохладцей, а ночь была неспокойная: роды разрешались одни за другими. Санитарки, сестры, врачи и акушерки, дежурившие в смене, работали с полной нагрузкой, принимая и обмывая младенцев.
– Обсыпались ребятишками! – пошутила усталая, но довольная Елена Денисовна, присев возле стола в родильном: у вновь поступивших рожениц обычные болевые схватки, и можно минуточку отдохнуть.
Смена побила рекорд и всех новорожденных приняла благополучно. То, что двое чуть не задохнулись, акушерки не брали в расчет: не без того! Младенцев пошлепали, потормошили, и они заплакали: громко – мальчишка, тоненьким пронзительным голоском – девочка.
Словом, Елена Денисовна была довольна. Хотя устала, но не зря. А иногда ведь и так бывает, что все дежурство протопчешься возле рожениц, помогая и уговаривая, а маленькие желанные гости нагрянут на другую смену.
Благодушное настроение акушерки нарушилось появлением новой роженицы, которую доставили из приемного отделения на каталке. Роды у нее начались дома почти сутки назад, но родовая деятельность была слабой.
Учащенное сердцебиение ребенка говорило о необходимости принимать срочные меры, чтобы ускорить роды, однако врач не вдруг принял решение. Операционные роддома, большая и малая, подготовлены в любое время дня и ночи. Вызвать дежурного хирурга можно в течение нескольких минут, но делать кесарево сечение уже поздно, если же роды затянутся, ребенок задохнется.
«Как ни кинь – все клин! – думала Елена Денисовна, сочувственно глядя на крупную женщину крепкого сложения, но с темной отечностью под глазами И лихорадочным румянцем на осунувшемся лице. – Оказывается, даже в Москве бывают случаи, когда некому вовремя отправить роженицу в родильный дом!»
Почувствовав, что ее окружают опытные медицинские работники, роженица ободрилась, взгляд ее засветился надеждой. Всей силой впервые любящей, но уже отцветающей женщины она желала ребенка.
Тысячи раз в своих материнских мечтах видела его у себя на руках, теплого, тяжеленького, с пушистыми волосенками, с мягкими ручками, точно перевязанными у запястьев. Она целовала круглые маленькие пятки, крошечные пальчики его ножек, похожие снизу на розовые горошины. Купала, пеленала, кормила грудью, стосковавшейся по ротику младенца. Она хотела быть матерью и наконец-то становилась ею.
– Мне бы мальчика, – сказала она, устремив на Елену Денисовну кроткий, измученный взгляд. – И девочку тоже хорошо бы!
– Потерпите, дорогая, еще немножко! Скоро увидим, кто будет. Первые роды всегда труднее, а у вас еще возраст.
– Да, возраст!.. – роженица вздохнула. – Первый муж пил очень. Ушибал меня не раз, а потом и сам расшибся насмерть. Только теперь свет увидела, да вот – не рассчитала срок… Проводила своего Виктора в командировку и чуть не отправилась на тот свет вместе с ребенком… Сестра у меня акушерка, обещала приехать, я и прождала ее зря в пустой квартире… Ох, еще бы хоть сутки помучилась, только бы родить!
Пристально следя за состоянием роженицы, врач и акушерка приняли нужные меры. После этого роды пошли почти нормально, но сердцебиение ребенка в утробе матери вызывало все большую тревогу. Катастрофа становилась неизбежной.
«Вот и побили рекорд!» – мелькнула мысль у Елены! Денисовны, но еще больше ее волновало другое: горячее желание роженицы стать матерью.
Наконец ребенок очутился в руках акушерки, но без дыхания, без пульса.
Бывает, младенец задохнется при родах и является на свет синий. Это легкая степень удушения, она так и называется – синяя. Сердце в таком случае бьется хорошо, и дыхание при энергичных мерах восстанавливается сразу. При более тяжелой степени ребенок весь бледный, дыхания у него тоже нет, а сердце работает чуть-чуть. Это белое удушение. Тут редко помогает опытность врача и акушерки.
А сейчас приняли ребенка без всяких признаков жизни. Здесь уже никакие меры не помогут.
Правда, в роддоме недавно делались попытки оживления мертворожденных, были даже удачные. Слышала Елена Денисовна и от Ивана Ивановича, что ему приходилось оживлять больных, умиравших на операционном столе. Оказывается, это возможно в течение первых шести минут после остановки сердца.
Сознаться по совести, Елена Денисовна не верила в такие чудеса и не возражала только из уважения к Аржанову. Ну, мало ли!.. Мог быть во время операции обморок, подобный смерти. Мог быть в родильном доме случай белого удушения.
Но вот она, смерть! Самая настоящая, сковавшая своим холодом руки акушерки.
И вдруг в родильном оказался Иван Иванович, похожий на белого слона среди суетящихся женских фигурок.
– Вызывали к больному в хирургический корпус, и решил попутно заглянуть к вам, – сказал он Елене Денисовне, которая, несмотря на свою подавленность, поняла: не спешит домой, к Вареньке. Нет, не торопится.
– Только что приняли? – спросил он, взглянув на ребенка, немо обвисшего в руках расстроенной акушерки. – Ну-ка давайте его! Где тут у вас аппаратура Белова?
Санитарка быстро налила теплой воды в ванночку, поставленную на стол у раковины в малой операционной. Елена Денисовна опустила в воду тельце мертворожденного, погрузила его до шейки, точно перевязанной ниточкой, – здоровенький какой был бы мальчик! Ей больно смотреть на его кукольно неподвижные ручки и ножки.
Иван Иванович вставляет в горлышко ребенка тонкую резиновую трубку, соединяет ее со шлангом водоструйного отсоса и открывает кран. Вода льется в раковину, а приведенный ею в действие отсос очищает легкие ребенка от набившейся в них слизи.
Тогда вместо шланга отсоса к трубке подключают аппарат для искусственного дыхания, почти кустарно сделанный в лаборатории Белова. Два известных физиолога опротестовали на совещании акушеров предложение оживления новорожденных таким методом, заявив, что можно повредить нежные легкие младенцев, и выпуск усовершенствованных аппаратов затормозился. Ну, что же, лучше что-нибудь, чем ничего. Практики – народ упорный. Главное – желание и умение действовать. Мехи нагнетают воздух в грудь ребенка для вдоха (выдох происходит сам собою). Санитарка приносит ампулу для переливания крови, сестра готовит нужные инструменты. Придвигается другой столик, появляются грелки.
Прошла минута, другая. Заведующая отделением сухими, в морщинках, ловкими руками еще раз вводит лекарство, заменяющее для младенца струйное нагнетание крови: глюкозу – в артерию и кофеин – в вену пуповины. Маленькая грудь ритмически поднимается и опускается, но это работает искусственно вводимый воздух. Ни одного самостоятельного вдоха. Елена Денисовна, забыв обо всем на свете, следит за грудной клеткой ребенка и вдруг вздрагивает. Неужто померещилось? Да нет!
– Вдох! – произносит она неверным голосом.
– Вижу. – Иван Иванович сам взволнован не меньше ее.
И на лице заведующей отделением появляются бело-красные пятна, совсем как у студентки во время трудного экзамена.
Горлышко ребенка снова судорожно напрягается, приподнимая мышцы шеи, – короткий агональный вдох. Чуть спустя такой же вдох, но более резкий и судорожный, а через минуту уже с участием грудной клетки: дыхание становится глубже-
– Ну, что тут? – тревожно спрашивает заведующая родильным домом профессор Доронина, входя энергичной походкой, высокая, прямая, как юноша десятиклассник, и, осекшись, тоже замирает у стола. – . Неужели?..
Иван Иванович молча кивает, прослушивая мокрую грудку младенца, приподнятого из воды на ладонях Елены Денисовны.
– Сердце уже работает вовсю. – Он уступил место Дорониной и продолжал, обращаясь к Елене Денисовне: – Еще в глубокой древности ученые говорили, что у смерти трое ворот: мозг, легкие и сердце. Прежде всего выключаются клетки мозга – сознание, потом работа легких, позже останавливается сердце. Сердце умирает последним, а восстанавливается в первую очередь. Но не поздно ли забилось оно? Сколько минут прошло с начала клинической смерти?
– Четыре. – Елена Денисовна еще раз смотрит на стенные часы. – Да, четыре минуты.
– Будем надеяться… Смелее надо пользоваться методом Белова. Разговорчики о повреждениях легких – ерунда, когда речь идет о самой жизни. Можно действовать осторожнее, но ни одной возможности не следует упускать.
Маленький человек начинает шевелить головкой, кривит покрасневшее личико и, наконец, издает слабые хрипловатые звуки, которые для людей, толпящихся вокруг, звучат лучше самой прекрасной музыки – это уже подобие речи: ожили клетки мозга.
– Матушка ты моя! – бормочет Елена Денисовна, любовно придерживая потеплевшего младенца.
Вид у нее, точно она из парной выскочила: вся красная, по лицу текут капли пота, а может быть, и слезы.
Доронина широко улыбается, о заведующей отделением и говорить нечего – просто сияет: ведь это она настаивала применять в родильном доме оживление мертворожденных и уговорила Доронину приобрести нужный аппарат. Конечно, смелее надо действовать в таких случаях!
Елена Денисовна под общим наблюдением обмывает уже орущего ребенка, обертывает его горчичником на две минуты, потом завертывает в согретые пеленки. Но прежде чем передать эту величайшую драгоценность особому врачу особой детской палаты, где выхаживают самых слабых новорожденных, она показывает его матери.
Та, еще в слезах, тянется посмотреть на дважды рожденное дитя и всхлипывает уже от радостного волнения.
Ребенка уносят в сопровождении целого почетного караула.
– Какие у него глазки?
– Черные глазки, мамаша, черные! – отвечает Елена Денисовна, которая, как и все, не может сразу войти в обычную колею. Она даже не заметила, когда ушел Иван Иванович, так и не поговорив с нею.
Женщина всхлипывает еще громче: обычное здесь обращение «мамаша» потрясает ее. Но вдруг, перестав плакать, она говорит с гордостью:
– Чубчик совсем как у Виктора, только у него, у нашего папки, уже лысина.
– Бог даст, доживет и сынок до лысины, – с комической важностью изрекает акушерка.
Она опять хлопочет возле роженицы, а в сердце ее поет радость: пятнадцатый за смену!
«Ладно вам, – обращается она мысленно ко всем людям. – Вы там строите заводы, гидроузлы, самолеты. Но есть ли дело важнее нашего, акушерского? Ведь все в мире остановилось бы и застыло, если бы женщины перестали рожать ребят! Было бы пострашнее атомной бомбы! Говорят, чудо – атомная бомба. Провались она совсем! Вот мертворожденного оживили – это действительно чудо! Какого уважения достоин такой человек, как профессор Белов?! А его не хотят признавать. Вот и пойми этих ученых! А сама тоже ведь не верила, – поймала себя Елена Денисовна, но не смутилась. – Мне-то простительно. Просто счастье, что я сюда на работу попала! – Но снова возникает щемящая сердце мысль об Иване Ивановиче и Варе. – Как бы хотелось видеть их счастливыми! У Ивана Ивановича еще и в клинике огорчения. Хотя бы не оказались в комиссии Ученые, вроде тех, которые допекали Белова».








