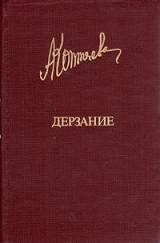
Текст книги "Дерзание"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
15
– Иди к ней. Она ждет тебя.
– Варя…
– Пожалуйста… Ведь ты не любишь меня теперь!
Она сама не сознает, как ей хочется услышать горячее опровержение. Но он не опровергает, не оправдывается, а молча опускает голову. И это страшно. Потом он выпрямляется, говорит с явным усилием:
– Я не могу обманывать. Сейчас у меня на душе пусто!
– Иди к ней, и все будет заполнено! Больше так нельзя! Надо скорее, скорее решать! О сыне не беспокойся! Сейчас он маленький, а вырастет – поймет.
Слова падают, как расплавленный свинец, прожигая сердце обоих невыносимой болью.
«Ведь мы оба неплохие люди!» – думает Иван Иванович, преодолевая желание облегчить эту боль. ^Чем можно ее облегчить? Слова и поцелуи будут сейчас ложью, хотя еще никогда человеческая красота Вари так сильно не трогала его. Именно поэтому он и не мог унизить ее, как не хотел и не мог унижать самого себя. Но о том, чтобы идти к Ларисе, он тоже не помышлял. Зачем он пойдет к ней, если все чувства в нем мертвы сейчас? Одно только ощущение: будто сердце разрывается от горя и жалости. Уйти от жены и ребенка? Невозможно! Остаться в семье, где жизнь превратилась в ежедневные терзания вопреки всякому здравому смыслу, ущерб работе? Страшно! Если даже у Вари взаимное понимание вытеснено материнской боязнью за него, все равно такая любовь и бесцеремонная опека невыносимы.
– Я пойду к Решетовым и пока буду жить у них, – сказал Иван Иванович, поборов волнение. – На днях дадут квартиру – две комнаты. Вы с Еленой Денисовной переедете туда, а я останусь здесь.
– Как хочешь, – устало ответила вконец измученная Варя.
Странно, но мысль о том, что он не уходит сейчас к Ларисе и не собирается переехать вместе с нею в новую квартиру, немного облегчила состояние Вари. Конечно, так лучше и для Мишутки: здесь в доме все знают его и станут спрашивать об отце. А там никто ничего не будет знать. В большом городе даже взрослый человек может затеряться, словно иголка в густой траве.
«Ольга тоже хотела переехать сначала в отдельную комнату, – мелькнуло воспоминание. – Ну, и что же? Разве мог удержать ее Иван Иванович? Да и зачем, если она разлюбила его?»
Мишутка уже спал. Елена Денисовна на дежурстве. Наташка ушла к Галине Остаповне. Бедная Галина Остановка, у нее новое горе: из-за больного сердца пришлось оставить работу!
Но разве может болезнь создать такую тяжесть в сердце, как уход любимого человека? Варя сидела у стола спиной к мужу… Бывшему мужу. Она слышала: он собирал в портфель свои бумаги и рукописи, складывал в стопку книги. На сегодня ему больше ничего не потребуется. А завтра… Если только Варя доживет до завтра. Если только она не умрет от горя.
– Я ухожу, – тихо сказал Иван Иванович.
Варя не ответила, не повернула головы. Он постоял, ожидая сам не зная чего. Еще раз посмотрел на сына. Мальчишка спал, раскинув на белизне подушки руки со сжатыми кулачками. Как хорошо, как безмятежно он спал! Горло Ивана Ивановича сжалось. Дыхание стало сиплым. Еще минута, и у него не хватит сил уйти.
– Чего же ты ждешь? – не оборачиваясь, холодно спросила Варя. – Завтра Елена Денисовна принесет тебе твои вещи.
– Да? Вещи… – Иван Иванович вдруг улыбнулся.
Улыбается и приговоренный к смерти, если нелепостью покажется ему решение, вынесенное судом. Он может даже засмеяться, хотя его смех обдаст холодом присутствующих. Смеялась же однажды женщина, выпущенная из кошмарного Освенцима, где фашисты истребили свыше четырех миллионов человек. Выйдя из этого лагеря после двух лет заключения, она смотрела на улице на похоронную процессию и смеялась. Она с трудом удерживалась от хохота.
– Отчего вам весело? – спросил один из провожающих.
– Сумасшедшая, – сказал другой.
– Нет, я смеюсь потому, – отвечала она им, – что слишком много хлопот связано со смертью одного человека. Столько цветов, музыка, толпа людей, у всех скорбные лица, а в гробу… мышь. Что такое мышь? Да то же, что человек в гитлеровском лагере смерти.
Женщина с черным номером, навсегда выжженным на руке, утратила нормальное представление о жизни. Она смотрела на похороны и смеялась. Такое не сразу проходит. Нечеловеческое страдание выбивает из жизненной колеи.
Иван Иванович тоже выбит сейчас из колеи. Он стоит на пороге своего снова разоренного гнезда, смотрит на сына, которого покидает, и улыбается. Отчего? Да, вещи, сказала Варя. А что такое жалкие вещи по сравнению с тем, что он опять потерял?
– Вещи? Да-да-да, вещи! – повторяет он и, прижимая к груди книги, продолжая улыбаться, идет к выходу.
«Он повредился! – решила соседка Дуся, слышавшая его разговор с женой, и с пугливой поспешностью открыла ему дверь. – Не может быть, чтобы он так обрадовался!»
Варя ничего этого не заметила. Но едва заглохли на лестнице звуки знакомых шагов, едва хлопнула Дверь внизу, в квартире Решетовых, как она вскочила и заметалась по комнате, готовая побежать следом, плакать, умолять, просить прощения у Ивана Ивановича. За что? Да хотя бы за то, что столько времени мучила его. В самом деле, как она могла так жестоко разговаривать с ним?! Она не щадила ни самолюбия мужа, ни покоя, так скупо ему отпущенного. Не было ли это зазнайством с ее стороны? Все сейчас предстало перед Варей в ином свете. Каждый человек имеет право быть счастливым. А что она сделала с Иваном Ивановичем? Чем отблагодарила за то, что он учил ее, помогал расти? Ведь, наверно, не только любовь заставляла его терпеть ее бесцеремонное вмешательство в его творческие поиски. Вероятно, жило в нем чувство садовника, который оберегает выращенное им деревцо, ценя в нем и свой благородный труд.
«Как же это я?! – подумала Варя. – Но теперь уже ничем не поможешь. Вот пижама его… Завтра ее здесь не будет, и ничего не останется, что напоминало бы о нем. Даже Мишутка не похож на него… Уйдем ли мы на другую квартиру, тут ли останемся… разве дело в этом? Ни там, ни здесь его не будет с нами, и страшнее ничего не может быть!»
– Деточка моя! – раздался с порога матерински ласковый голос.
Варя вздрогнула и чуть не уронила мужскую блузу из плотного полосатого шелка, которую словно дорогую сердцу реликвию держала в руках.
– Наверно, понадобится ему сейчас… – намеренно сухо сказала она, протягивая пижаму Галине Остаповне и тем отстраняя всякую попытку сочувствия.
Ведь эта женщина только что видела Ивана Ивановича и, вместо того чтобы устыдить, прогнать его из своей квартиры и вернуть домой, пошла утешать покинутую им жену.
– Что случилось-то? – спросила Галина Остаповна.
– Мы решили расстаться, – почти бодро ответила Варя. – Раз мы не понимаем друг друга… Раз не клеится жизнь, зачем тянуть канитель? Не надо! Ничего не говорите! – вдруг со слезами в голосе закричала
она. – Если уж мы… Если уж так… То никто не уладит!
16
– Выпейте хоть чашку кофе! Нельзя же так относиться к себе! – сердито сказала Галина Остаповна на другой день, за ранним завтраком.
– Спасибо, сейчас просто ничего в горло не лезет. – Иван Иванович судорожно зевнул, крепко потер лицо ладонями, он не выспался, его лихорадило. – Вы не беспокойтесь, у нас там буфет…
– Знаю, что у вас там буфет. Но кто бы вас с Гришей туда сводил!
– Ничего. Зато сегодня нам дадут пить! – хмуро пошутил Решетов, огорченный до глубины души разладом в семье товарища. – Сегодня члены комиссии решили поговорить с нами. По-видимому, каждый из них выскажется, прежде чем вынести общее решение. И то: хватит уж тянуть кота за хвост!
«Мишутка обязательно вцепился бы в это изречение», – подумал Иван Иванович, и ему дико показалось, что он будет жить отдельно от своего маленького шалуна. Столько лет ждал ребенка, мечтал о нем, теплом, беспокойном, родном. И вот он родился, плакал, смеялся, топал ножонками по комнате, до всего допытывался, но вдруг оказывается, его можно взять и увести от отца, как бы добр и заботлив он ни был. «Права матери? Да, святые права: ребенка пополам не разделишь. Только почему я-то должен сокрушить свою привязанность к нему?»
– Прохор Фролович до сих пор в отпуск не идет – хочет сам услышать, что о нем скажет комиссия, – сказал Решетов, спутав этими словами мысли Ивана Ивановича.
– Дифирамбы, наверно, ему петь не станут!
– Он этого и не ожидает. По крайней мере, ныть перестал и даже ожесточился: если раньше помогал нам просто из любви к искусству все доставать, то теперь стал нашим убежденным сторонником.
«Даже Про Фро!» – мысленно упрекнул Иван Иванович Варю.
На заседании в кабинете Гриднева народу собралось много. Гриднев был как-то барственно спокоен, а главврач Круглова заметно нервничала и то по-женски поправляла суконную скатерть на столе, то мелкими движениями протирала пенсне, то хваталась за нагрудный карман, ощупывая, на месте ли авторучка. Беспокойство Кругловой невольно передалось и Решетову, который и без того был сегодня взвинчен, и Ивану Ивановичу с его душевной лихорадкой. Только Про Фро действительно настроился воинственно и с особенной колючестью посматривал злыми сейчас зелеными глазками. Лицо его смягчилось и оживилось только тогда, когда в кабинет вошла Софья Вениаминовна, и это не ускользнуло даже от рассеянного взгляда Ивана Ивановича.
«Влюбился! – удивленно и отчего-то смущенно отметил он. – Ай да Витаминовна! Но надобно сказать, сама-то держится суховато. Ничего здесь не получится у тебя, Прохор Фролович!»
Первым из членов комиссии изложил свои взгляды на положение дел в гридневской клинике профессор Ланской.
То пощипывая край широкой ноздри, то оглаживая свой утиный нос, а заодно и выступающий подбородок, он с убийственным спокойствием подтвердил все доводы Тартаковской насчет решетовского увлечения «металлическим» методом, попутно всыпав Прохору Фроловичу; признал небезосновательной жалобу Щетинкиной на грубость врача Шефер и долго обстоятельно критиковал работу Ивана Ивановича. Он только не поставил ему в вину смерть детей, родители которых пожаловались в министерство, хотя и заметил, что это дело прокуратуры. Не отрицая вклада гридневской клиники в общее развитие сердечной хирургии в Союзе, он выдвинул тезис, известный Ивану Ивановичу со слов Вари, о том, что в отделении, где работает профессор Аржанов, «есть хирург, но нет клиники».
– Вы слишком самоуверенны, коллега, и напрасно разбрасываетесь, – говорил он сочным баритончиком, уклончиво посматривая на Аржанова, как будто хотел остаться в стороне от всяких симпатий и антипатий, возникающих при прямом человеческом общении. – Мне думается: хирург, владеющий техникой сердечных операций, на них и должен сосредоточить весь свой научный пыл. Медицина не может быть безыдейной. Эклектизм вообще противоречит мировоззрению советского ученого. Врожденные пороки сердца, операции грудной полости, а при чем здесь нейрохирургия? Поэтому и в самом клиническом изучении больного и правильном ведении его после операции исчезла целенаправленность и систематичность.
– У нас не специализированная клиника, – прорвался Иван Иванович. – «Неотложка» присылает нам больных прямо с улицы.
– «Неотложка» само собой, но у вас есть больные, положенные на специальное нейрохирургическое лечение.
«Наташа, – мелькнуло у Ивана Ивановича. – Да, Ланской заботится только о собственном благополучии. Ведь если он меня несправедливо осудит, его за это никто не обвинит, а если промолчит, а меня потом привлекут к ответственности… Вот чего он боится! А другие?» – Иван Иванович посмотрел на остальных членов комиссии.
Тарасов сидел, поигрывая какой-то бумажкой и, похоже, совсем не слушал выступление Ланского, выражение его болезненного лица было далекое и безразличное. Зябликов же слушал внимательно, выпятив мощную грудь, но по его осанисто-внушительному виду тоже ничего нельзя было угадать.
«Знает себе цену, бестия, на нас же ему наплевать!»– с досадой заключил Иван Иванович и отвернулся, успев заметить, как Круглова мелкими буквочками записывала что-то в блокнот, по-видимому, язвительные замечания представителя.
Мнение, высказанное Зябликовым, перевернуло все в душе Ивана Ивановича. Этот монумент, эта «знающая себе цену бестия», неожиданно очень высоко оценил работу хирургов гридневской клиники.
– Когда я смотрел операцию Решетова, этот случай с вагоновожатым… то думал: в любой клинике, в том числе и у Тартаковской, отрезали бы ему ногу, – сказал уверенно Зябликов. – Что уж тут говорить об участии костного мозга в кроветворении! Но даже если бы не было такой тяжелой обширной травмы, функция мозга пострадала бы от введения гвоздя. Все мы знаем, как огромны компенсаторные возможности в человеческом организме. У меня был больной, в детстве оперированный по поводу разрыва селезенки. Она у него удалена, а он вырос настоящим богатырем и после моей операции (у него было тяжелое ранение брюшной полости) живет и здравствует до сих пор. Вот вам и кроветворение! Я, и как хирург и как ученый – мне кажется, я имею некоторое право так назвать себя, – от души приветствую борьбу Решетова за цельного человека. Была ли груба со Щетинкиной врач Шефер? Ей-богу, это эпизод, не достойный рассмотрения специальной комиссии. Хороший ли врач товарищ Шефер, другой вопрос. По-моему, она хороший врач. А грубость? На меня тоже жаловались за грубое обращение. И кто же? Больной раком, которого я спас от смерти и который после моего вмешательства процветает уже восьмой год. Вот с таких жалобщиков надо бы спрашивать, а не с нас, грешных.
«Ох, ох! Что-то он обо мне скажет! – воскликнул про себя Иван Иванович, радуясь за Решетова. – Неужели наскочит с разносом?»
Но Зябликов не стал на него «наскакивать», а, наоборот, оспорил критику Ланского.
– Что значит, «дело прокуратуры»? Если за каждый смертный случай на операционном столе мы будем таскать хирургов к прокурору, то они перестанут оперировать заведомо обреченных больных. Скажут: умирайте себе тихонько, а мы спокойно будем наблюдать со стороны, исследовать, тянуть, пока вы не избавите нас от всякой ответственности. Гибель больного на операционном столе – печальное, но не уголовное дело. Когда мы присутствовали на операции Аржанова по поводу панцирного сердца… Помните, каково было состояние больной Полозовой? – обратился Зябликов к Тарасову, и изумленный Иван Иванович увидел, как оживилось и даже похорошело лицо представителя профсоюза. – Больная была буквально по ту сторону жизни, и, честно говоря, лично я не взялся бы ее оперировать. А при нас, у нас на глазах, было совершено /чудо, да не мистическое чудо, а сотворенное человеком, облеченным силой науки, силой любви к ближнему. Аржанов владеет наукой врачевания и любит тех, кого врачует, иначе никто не заставил бы его так рисковать, ставя на карту и свое собственное здоровье, и честь хирурга. Ведь оперирует-то он зачастую уже умирающих. Отсюда и процент смертности у него сравнительно высокий. Но когда посмотришь на выздоравливающих, то это же сплошь и рядом вчерашние смертники вроде Полозовой, воскрешенные Аржановым.
Иван Иванович слушал… Но не гордость и радость вызывали в нем эти высокие похвалы его мастерству хирурга. Наоборот, был момент, когда он чуть не прослезился от тяжелого волнения: Лидочка-то умерла, и Савельев тоже, и Наташе Коробовой он еще не сумел помочь. Конечно, не уголовник он! Не злоумышленник. Все было сделано, чтобы помочь, чтобы жили те, кто волей или неволей, как крошечные дети, ложились на его стол. И, однако, если некоторых из них унесли мертвыми, то эту вину он сам с себя никогда не снимет.
– Что же касается «эклектики», то это понятно, – продолжал Зябликов, – мы знаем, что в прошлом Аржанов успешно занимался нейрохирургией, а она, как первая любовь, не забывается. Но в дальнейшем ему придется все-таки выбрать окончательное направление
своей работы, потому что на базе клиники профессора Гриднева будет создан институт грудной хирургии. Вопрос этот решен на днях, и в нынешнем году здание института будет заложено здесь же рядом, на Калужской. Тогда мы и спросим уважаемого Ивана Ивановича, – впервые назвал Зябликов подотчетного хирурга по имени и отчеству, – спросим: куда же его все-таки тянет сильнее – к нейрохирургам или к сердечникам?
А? Что?
– Да это уж… будет видно, – смущенно улыбнувшись, взъерошив и без того ершистые волосы, ответил Иван Иванович
17
– Хорошая зима стоит! – грустно сказала Варя, подходя к окну с Мишуткой на руках.
– А где она стоит? – спросил мальчик, порываясь скорее встать на подоконник. – Покажи, где она стоит!
– Кто?
– Зима.
– Да вот, видишь, все белое, холодно, и снег падает… Крупный какой снег! Вот и зима.
– Значит, она падает?
Варя не ответила: точно застыла сама, обняв сынишку и не пуская его к стеклу. Хмурая, бледная, смотрела она на крыши домов, на косо летящий снег. Квартира была на девятом этаже одного из новых домов, поднявшихся в Юго-Западном районе Москвы, в Черемушках. Отсюда, с высоты, раскрывалась величественная панорама: громадные дома, прямые каналы улиц, побелевшие гиганты-краны выступали повсюду из синеватой глубины, подернутой белесой дымкой снегопада. Растут и растут новостройки. Вечером там, внизу, разливанное море огней. Красиво, но не весело: зима как |будто вошла и в сердце Вари. Было там мертво, холодно, пусто. Впервые с такой силой ощутила она свой возраст: тридцать четыре года. Молодость кончилась.
– Высоко свито гнездышко! – сказала, переехав на новоселье, Елена Денисовна, которой очень понравилось здесь. – Черемушки! И название-то какое милое!
Теперь у них с Наташкой отдельная комната. Вниз на лифте, вверх на лифте. А кухня-то! Газовая плита как игрушечка. Мусоропровод. Круглые сутки в кранах горячая вода. В ванной кругом белый кафель. Все сверкает чистотой, все новенькое. И до работы ближе, чем с Ленинградского проспекта. И школа у Наташки рядом. И магазины тут же, в доме, даже кино по соседству.
– Благодать! – не уставая, твердит Елена Денисовна.
Однако Варя чувствует, какая доля отравы примешана к радости Елены Денисовны: остался опять дорогой Иван Иванович у разбитого корыта. Бодрится Хижнячиха, старается подбодрить Варю. Ничего бы она не пожалела для счастья близких людей, но как и чем тут можно (помочь?! Не уйди Ольга от Ивана Ивановича, все было бы расчудесно. Варенька тогда вышла бы за Платона. Ребятишки бы появились в обеих семьях. Но что с возу упало, то пропало.
Мишутка, едва въехали в новую квартиру, сразу хватился отца: искал его, ждал, хныкал, надрывая сердце обеим женщинам, да и Наташка тоже нервничала, стараясь развлечь мальчика. Невеселое новоселье] Вот выходной день, Мишутка не в садике, а дома, и снова та же песня:
– Где папа?
– Тетя Варечка, я с ним пойду погулять. На санках его покатаю, – сказала Наташка, входя в комнату.
На ней хорошенькое домашнее платье из фланели в коричневую и голубую клетку, коричневые ботинки с меховой опушкой, но не на каучуке – на каучуке не по карману Елене Денисовне, – а па какой-то микропористой резине. Совсем взрослой становится эта курносая голубоглазка!
– Сколько там ребятишек во дворе! – певуче сообщает она Мишутке, завладевая им и ведя его в переднюю одеваться.
Проводив их, Варя сразу пожалела, что отпустила сынишку: Елена Денисовна на дежурстве, и одной в квартире тоскливо до невозможности. Куда легче на работе, хотя там приходится встречаться с Фирсовой. При встрече обе теперь упорно молчат о своем личном. Знает ли Лариса о разрыве между Варей и Аржановым? Встречается ли она с ним? Разговор об этом сейчас просто не под силу, и Варя не старается узнать правду. Говорят они только о деле, о больных, о лечебных мероприятиях…
Варя убирает со стола посуду, достает с этажерки книги и папку со своими записями. Совсем еще непочатый край работы с этой глаукомой. Но плохо пока идет дело у Вари. Немножко легче стало ее больному Березкину, а на днях его состояние опять ухудшилось. Хоть плачь, хоть бросай! Была она у профессора Щербаковой, та ее разбранила за слабоволие, посоветовала, как дальше вести больного, посмотрела его сама, и снова Варя осталась наедине со своими трудностями.
Разговаривая со Щербаковой, она поняла, что у той свои заботы, наложившие отпечаток отчужденности. на милое, такое внимательное прежде лицо. А может, так /показалось Варе. Еще недавно пело все в ее душе, а сейчас везде ей мнится холодное равнодушие. Или это она свою сердечную пустоту на каждом шагу ощущает? Вот сидит у стола, но не читает, а в раздумье смотрит и смотрит на окно, за которым кружится снег. Уехать бы на Север, в милые, родные края!
– Нельзя так! Работать надо! – понукает она себя, а все не в силах стряхнуть тягостное оцепенение.
Звонок у входных дверей заставил ее очнуться. Она быстро встает. Мысль о невозможном подталкивает ее: а если это Иван Иванович! И не только к Мишутке… Она сама потребовала, чтобы он пока не тревожил ребенка и не заходил к ним, а вдруг он ослушался…
Она торопливо открывает дверь, но рука ее вяло опускается и мгновенное возбуждение угасает. Маринка Злобина.
Девушка входит. Снежинки тают на ее лбу, на вязаной шерстяной шапочке и меховом воротничке простенького пальто. Так и пахнуло от нее зимой.
– Наташа дома?
– Во дворе она, с Мишуткой…
– Как же я их просмотрела! Здоровье мамы? Плохо. Она такая слабенькая стала. – Марина неожиданно улыбается. – Папа теперь дома! – торопливо говорит она, стремясь объяснить свою неуместную улыбку, и добавляет насупясь: – Может, это нехорошо с моей стороны, но я довольна, что мама заболела. Теперь она тихая, и я ее такую снова люблю.
Марина уходит. Как быстро она сбегает по лестнице, забыв о лифте. Бедная девочка: она только сейчас почувствовала себя ребенком. Варе становится еще тяжелее. Злобин вернулся к больной жене, потому что любит ее. «Такая тихая», – вспомнила Варя слова Марины и усмехнулась: утихомиришь Раечку болезнью! Беда ухаживать за такими больными: доведут до слез, до отчаяния своими капризами и высокомерным пренебрежением.
Варе вдруг тоже захотелось заболеть. Пусть бы она уже [умирала. Тогда Иван Иванович примчался бы к ней… Как он в Сталинграде дежурил возле нее! А ведь если бы не сила и мужество Злобина, ее совсем завалило бы в блиндаже.
«Жаль, что не завалило! И Мишутки не было бы тоже, – мелькнула и неожиданно встряхнула Варю горестная мысль. – Подумаешь, распустилась! Неужели опять хочешь, чтобы он пожалел тебя?»








