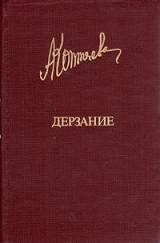
Текст книги "Дерзание"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 38 страниц)
8
«Вот они, взрослые люди! – с грустью думала Наташка, садясь к столу за свои учебники. – «Запачкаешь платье». Просто, но высокомерно! Ах, мама! Ну, пусть ты умная, а я глупенькая. Я меньше твоего прожила, поэтому и знаю меньше. Но почему ты читаешь откровенность со мной пустым разговором?»
Девочка облокотилась и задумалась, глядя в окно. Май месяц… Где-то далеко – на Кавказе, в Крыму, в Узбекистане, Таджикистане и других «станах» – уже отцветают сады. Наташка никогда не видела, как висит на ветке яблоко. Только в кино… Цветет миндаль и разные там мимозы. А здесь, на Каменушке, все еще снега да снега. – Вон какие сугробы – под самую крышу подбираются остро наметенными гребнями. Такие не вдруг растают!
В соседней комнатке громко закашлял старший брат Борис. Вот вернулся с фронта после трех ранений и никак не поправится. Второму брату, Мише, уже двадцать шестой год; женился, живет с семьей на Сахалине.
Третий брат, Павлик, окончил горный техникум, работает на Охотском побережье, тоже скоро женится. И у него будет жена с тещей. Значит, ни матери, ни сестренке вместе с ними не жить. Елена Денисовна на это не обижается, а Наташка – подавно. Ведь и она когда-нибудь выйдет замуж и, конечно, возьмет к себе свою мать. Если будет подходящая квартира, то и свекровь можно взять. Зачем обижать будущего мужа? Какой трескучий, надрывный кашель у Бориса! Пришел однажды незнакомый Наташке, худой, высокий человек в военной шинели. Пришел без костылей, без повязок, но очень больной. Три ранения на тфронте. Одно в голову – говорят, черепно-мозговое (остался след – ямка между бровями), другое – в спину. Серьезнее оказалось третье – в грудь: начался туберкулез. Сначала Борис работал, ходил на рудник, но болезнь постепенно одолевала его. Одни врачи советовали ему выехать на «материк» (так называлась здесь вся большая советская земля, путь на которую шел через Охотское море), другие приводили примеры, когда суровый северный климат излечивал чахотку. Мать колебалась, но Борис заявил, что он отсюда никуда не уедет. Наташка знала, почему он так решил: на соседнем прииске работала геологом молодая женщина, в которую брат был влюблен еще в институте. Он влюбился, а она вышла за другого. Спрашивается: чего же тут ждать хорошего? Борис, наверное, ничего и не ждал, просто не мог разлюбить. А теперь совсем слег…
Опять приступ кашля. Наташка отодвинула книгу, прислушалась. Мать запретила ей бывать в той комнате: чахотка прилипчива.
Но ведь все равно в одной квартире! Какой сокрушительный кашель, будто у человека отрываются внутренности! Наташка встает, ноги сами несут ее к запретной двери. Там жила когда-то якутская девушка Варя, принятая в семье Хижняков как родная. Мать часто вспоминает о ней. Они переписываются. О муже Вари, докторе Иване Ивановиче, в доме всегда говорят с любовью. Его помнят многие старожилы поселка. Только Наташка не помнит. Чего уж лучше: собственного брата не признала, когда он пришел из армии.
– Тебе ничего не нужно, Боря? – спрашивает она, открыв дверь.
Он не отвечает, только задыхаясь, машет рукой: уходи, мол, не до тебя. Но девочка стоит на пороге и упорно смотрит на острые его лопатки, дергающиеся под мокрой от пота рубашкой. Судорожно сжимая руками грудь, откуда так и рвутся лающие, страшные звуки, брат опускается на подушку, ложится на спину.
– Уйди! – просит он, тяжело переводя дыхание и устало моргая влажными черными глазами.
Ему уже тридцать лет, но вытянутое под одеялом бессильное тело его тонко, как у мальчика. И лицо совсем, совсем молодое, чернобровое, с ярким румянцем на впалых щеках. Он похож на деда по матери, которого Наташка тоже не помнит.
– Хочешь, я принесу тебе чаю с брусничным вареньем? – Девочка подходит, несмотря на протест брата, подает ему сухую рубашку, накрывает одеялом «по шейку» и садится на ближний табурет.
Она не верит, что может чем-нибудь заболеть: мысль о собственной смерти никак не укладывается в ее голове.
– Скучно ведь одному лежать целый день!
– Ну, конечно, скучно.
– Давай поговорим.
– Говори.
– Ты знаешь: в Узбекистане уже отцветают сады. Честное слово! Я сама слышала по радио.
В широко открытых глазах больного появляется тоскливое выражение.
– Я тоже слышал.
– Маме обещают устроить тебя в Приморский санаторий. Там тепло. Наверно, цветы распустились и зелень… Может быть, мы тоже поедем с тобой. Вот вскроется бухта Глубокая, придут пароходы, и поедем. Я ведь нигде еще не была.
Минута молчания.
– У тебя здесь болит? – Наташка показывает себе на грудь.
– Нет, не болит. – Борис с признательностью смотрит на сестру. – Я просто отлеживаюсь сейчас. Вчера пробовал встать, на улицу вышел. Чувствую себя почти хорошо. Мне даже поддувание перестали делать, и крови нет. – Он показал смятый, но чистый платок. – Скоро начну помогать вам по хозяйству: дрова колоть, воду носить буду. А может, уедем на Кубань к родным отца. Сад разведем. Отец рассказывал, какие там фрукты родятся. Даже виноград… И у нас будет свой виноград. Тогда я совсем поправлюсь.
Наташку охватил холодный озноб: ведь она слышала, что жить брату совсем недолго. И поддувание воздуха перестали делать потому, что одно только легкое осталось у Бориса. Другое уже съела чахотка. Скоро ему нечем будет дышать, и он умрет. Нет крови при кашле! Откуда же она возьмется, если в груди пусто?
Наташка представила себе черную пустоту в груди брата и чуть не свалилась с табурета от острого горя и жалости. Борис, увлеченный мечтами, не заметил ее волнения. И хорошо. Пусть ничего не знает. Так легче. Мать никогда виду ему не подает, голос у нее в этой комнате громкий, веселый, но по ночам она часто тихо-тихо плачет в подушку.
«Вот беда! – думает Наташка. – Жил бы Борис да жил, работал на руднике. Нашел бы себе жену. Ведь он красивый был… Был? Да, теперь уж конечно так – был! Война ему все испортила», – впервые с такой потрясающей ясностью дошло до ее полудетского сознания, что значит война. Смерть отца была для нее большим горем, но она не видела его мертвого и где-то в глубине души таила неясную надежду: может, вернется. А тут на ее глазах умирал человек, убитый войной. Не убила там, добивает здесь…
– Расскажи, какая она, война?
– Да ну ее! Прошла, и ладно.
– Тебе неохота было воевать? – Наташка вспомнила, что Борис не привез никаких наград, кроме одной большой белой медали «За отвагу». – Поэтому тебе и орденов не дали? Да?
С минуту Борис молча смотрел на сестренку. Недавнее оживление медленно сходило с его лица, и не то гнев, не то недоумение сводили брови в сплошную черную линию.
– Глупая ты, Наташка! – со вздохом, совсем как мать, сказал он наконец. – Ведь я добровольцем ушел ни фронт. Почти в один день с папой, хотя и не договаривались с ним. Почувствовали, что надо, и пошли… Как ты рассудила!.. Под ружьем не одни орденоносцы стояли, а миллионы людей!
– Да разве у тебя не было подвигов? – пунцовая от неловкости, допытывалась Наташка
Подвига были. Но ты пойми: миллионы людей совершали подвиги, и разве возможно отметить всех? да я к тому же три раза в госпиталях лежал.
– Так тем более…
Выйдешь, а воинской твоей части уже нет, – будто не слыша несмелую реплику Наташки, печально и горячо блестя глазами, говорил Борис. – Станешь искать – где? Обескровлена. На переформирование ушла. А то и вовсе уничтожена. Получаешь назначение в другую. Все начальство новое, никто тебя, младшего сержанта, не помнит. И снова в бой… И в окружение попадали, ' в прорывах участвовали, и в заслонах стояли до последнего патрона. Разве в наградах дело, сестренка? Самое главное – что мы победили, что наши дети будут жить в свободной стране.
«Наши дети! Он еще о детях думает!» Слезы так и покатились из глаз Наташки.
– Прости, пожалуйста! – Она громко всхлипнула. – Я не хотела… Просто я думала, что подвигов без орденов не бывает.
9
Письмо от Аржановых и посылочка со стрептомицином пришли, когда Борису стало совсем плохо.
Прочитав письмо в больнице, Елена Денисовна долго сидела у стола в тяжелом раздумье. То, что Варя не посылала Борису привета, больно укололо ее. Однако она не осудила ни Варю, ни Ивана Ивановича: по письмам могли представить, что тут делается, а посылочку с лекарством прислали просто для облегчения материнского горя. Конечно, со стороны легче рассуждать, но сердце матери не расстается с надеждой до последней минуты.
Приглашение Аржановых приехать в Москву тронуло Елену Денисовну и расстроило: такое письмо никак нельзя показать Борису – сразу поймет, что в Москве его уже похоронили.
Что, если и вправду… Тяжело после этого будет оставаться здесь. Младшие сыновья сами по себе. Наташка… Да, Наташка через три года десятилетку закончит, в институт пойдет. Спит и видит себя студенткой. Но каково расставаться с обжитым местом, овеянным дорогими воспоминаниями, с работой? За тринадцать лет Елена Денисовна приняла в здешней приисковой больнице не одну тысячу родов. Куда ни пойди, везде бегают «внучатки». И опыт, и душевная теплота, и время – несчитанные часы – все отдано самоотверженному труду. Все жители Каменушки уважают ее, знают и в таежных районах. Вот на днях приехала из тайги эвенка Мотря Абрамова…
Елена Денисовна вспомнила худое смуглое лицо эвенки с коричневатым румянцем на острых скулах, черные, косо прорезанные глаза, большой живот, приподнимающий густые сборки платья. Пятого ребенка будет принимать у нее акушерка. Рожала и раньше Мотря… Из шестерых детей, рожденных ею под крышей шалаша в тайге, выжила только одна девочка. А детишки, принятые в больнице Еленой Хижняк, все растут. Много времени уделяет она своим родильницам, учит их за детьми ухаживать, беречь свое здоровье, показывает, как домашнее хозяйство вести.
«Привыкла. Нелегко будет уехать. – Но снова возникает мысль о Наташке. – Непременно с медалью закончит среднюю школу. Дальше надо учиться. А ведь не пошлешь девочку одну в далекий город. Не о себе, о дочке следует думать».
В дверь дежурки легонько постучали, и, не ожидая разрешения, вошла Мотря Абрамова, о которой только что вспоминала Елена Денисовна. На руках эвенки"– Миша, мальчишка по второму году; за подол держатся еще двое: косолапенькая, румяная, вся точно сбитая девочка и диковато, исподлобья поглядывающий пятилеток.
– Ишь обсыпалась ребятишками! – Елена Денисовна сразу оживилась, любуясь милой ее сердцу картиной. – Что же ты его, такого бабая, на руках носишь? – заворчала она, взглянув еще раз на огрузневшую фигуру Мотри. – Посадила на живот и тащит. Разве можно так?
– Сама не хочет ходить, – примирительно улыбаясь, пояснила Мотря; тяжело дыша, опустила ребенка на пол и присела на стул. – Вот, пришла. Погляди, скоро мне или нет? Домой ехать надо. Мужик-то ждет, однако, ребята ждут.
– Ничего, успеется. С недельку все равно проходишь. Как сестра-то, помогает нянчиться с этими сорванцами?
Помогает. Муж-то ее теперь старший конюх поставлен. Она – баба дома. Моя мужик деньги мне давал одежка купить ребятишка. Вот хочу просить тебя, Елена… Пошить бы.
Пусть сестра придет ко мне домой…
Мотря конфузливо улыбается, вытирает вспотевший лоб смятым в комок носовым платком.
Я сам хочу. Шить мал-мал умею. Много шил: штаны, дошка, рукавичка. Платья сам шил. Вот… – Мотря с гордостью потрепала кокетку своего цветистого платья. – Простой умел. Учисся надо фасон делать.
– Ишь ты! – Елена Денисовна, забыв свои невзгоды, улыбнулась, подхватила на руки младшего ребенка– Мишке пока самый простой фасон требуется: штаны с разрезом, чтобы не намокли.
Эвенка слушает, морща лоб от напряжения, но глаза и губы ее так и брызжут смехом.
– Мися просится – я горшок покупала. Теперь избе живем, чум бросил. Грязно еще есть: ребятишка много, я один. Мужик своя работа есть.
– У них вечно «своя работа». Как будто это не его работа. – Елена Денисовна тормошит мальчишку, делает «козу», наслаждаясь его заливистым смехом. – Хорошая работа, ничего не скажешь!
– Хорошая. Сюда шла, нарядилася, – весело откликается Мотря, не поняв слов акушерки.
«Ну вот, куда я от них поеду? – проскальзывает щемящая сердце мысль. – Лучше бы Варя и Иван Иванович сюда приехали. Варенька якутский язык знает, да и уроженка здешняя. Окончила институт, и ехала бы сюда! Ивану Ивановичу местные условия тоже знакомы».
Но мысли об институте снова вызывают заботу о Наташке. Нынче уже закончила семилетку, а через три года о высшем образовании думать придется.
– Хочу я, Мотря, уехать отсюда! В глазах таежницы испуг.
– Совсем?
– Совсем.
– Плохо говоришь. Как ехать: сын-то шибко больной!
– Вылечим. – Голос Елены Денисовны дрогнул. – Доктор Иван Иванович лекарство прислал – стрептомицин.
Мотря, похоже, не поверила: магическое слово «стрептомицин» до нее не дошло. О докторе Иване она слышала в тайге не раз. Но ведь он лечил тех, кто приходил к нему в больницу, или сам выезжал в тайгу лечить больных. Как же он вылечит сына Денисовны, которого не видит?
Эвенка окинула взглядом свой выводок, лицо ее стало печальным и строгим:
«Маленький умрет – жалко, а каково взрослого-то хоронить!»
– Мы тебя знаем. Уваженье есть, – сказала она после минутного молчания. – Смотри: моя ребятиш-ка – твоя ребятишка. Все тебя любим. Мой старший дочка Укамчан поедет учиться, потом обратно: родня гут. А твой родня где? Куда поедешь?
– В Москву, думаю. Неохота покидать обжитое место, но, наверно, придется ехать. Тяжело мне здесь будет, если сын умрет…
Мотря на это только вздохнула: что скажешь матери, у которой ранено сердце? Пустое дело – слова. А в Москву и она съездила бы…
10
Стрептомицин не помог. Еще хуже стало Борису. Дала о себе знать черепная травма: ослабело зрение. Врачи приходили только для того, чтобы отметить очередное ухудшение здоровья. Но Елена Денисовна не переставала надеяться. Очень важно при туберкулезе хорошее питание, и она просиживала иногда целые ночи за шитьем, чтобы получить лишнюю сотню рублей. Масло. Мед. Свиное сало. Шоколад. Борис принимал дорогую еду с благодарным смущением: он знал, как трудно матери. Вот она сшила нынче хорошее платье Наташке… Это было настоящим подвигом одинокой женщины, которая не хотела просить помощи у младших сыновей, совсем недавно ставших на ноги. О себе она не заботилась. Жалея мать, Борис не мог отказаться от щедрой ее поддержки: ведь он еще сильнее, чем она, верил в свое выздоровление.
Он ел масло, мед, мясо, пил шоколад со свиным салом, однако получалось так, будто еда съедала его самого.
Не желая доставлять матери лишнее беспокойство, он настрого запретил Наташке подходить к нему. Он знал, как опасен туберкулез для подростков, но признать самого себя опасным для Наташки не мог: не верилось в это, и ему очень трудно было отсылать прочь сестренку с ее полудетскими заботами.
Даже тогда, когда болезнь окончательно свалила его, он считал свою слабость временным ухудшением и страдал больше от того, что так долго не оправдывал надежд матери и сестры.
Елена Денисовна сама понимала в медицине, видела и заключения врачей, и рентгеновские снимки. От нее не скрывали истины: распалось одно легкое, распадается другое, остановить процесс уже невозможно. Человеку нечем дышать. Спасение теперь было бы просто чудом.
В это время и пришла к матери мечта о чуде, которое может спасти ее большого больного ребенка. Началось с «душевного» разговора…
В пасмурный серый день Елена Денисовна стояла на крылечке своего дома, срубленного из толстых столетних лиственниц, прислушиваясь к надрывному кашлю Бориса.
«Даже на улице слышно, а чем только кашляет, ведь весь исчах!»-думала она, впервые боясь открыть дверь и войти: слишком больно было ей от этого кашля.
– Одна останешься скоро, – неожиданно сказал подошедший к крыльцу конторский сторож Павел.
В тоскливой задумчивости Елена Денисовна не расслышала, как постукивала его деревянная нога (вторая была обута в аккуратно подшитый валенок). Опустив худощавое, изрытое морщинами, но благообразное лицо с крупными чертами и клиноватой седенькой бородкой, он тоже прислушался к тому, как кашлял в своей комнате Борис.
– Дочь подрастет, не успеешь оглянуться – и замуж выскочит. Скучно будет тебе тогда…
– Уж не сватать ли меня собрался? Павел заметно покраснел.
– С хорошим, как брат к сестре, пришел, а ты язвишь! Я уже привык жить бобылем. О семейной жизни думать забыл, но одиноким себя не считаю. Есть утоление тоски отрадное.
– Какое же это утоление? Выпивка, что ли? – хмуро спросила Елена Денисовна, хотя никогда не видела Павла пьяным.
– От выпивки, кроме изжоги, нет ничего. Я о другом. – Павел подошел ближе, кряхтя присел на чисто выметенную ступеньку, выставив деревяшку из-под полы полушубка. – Я насчет веры в бога. Да, да, не усмехайся! Нынче все гордые стали: мы-де в коллективе, который опора для каждого. Верно, еще в старину люди говаривали: одна головня в поле не горит… Коллективом жить и работать веселее. Да только здоровому человеку, а каково больному? Кому она нужна, болячка-то моя? Ну, один раз поплачусь – послушают, может, и посочувствуют. А потом надоест, и слушать не станут, еще и к черту пошлют. А богу-то я каждый день, каждый час могу пожаловаться, он меня не отбросит, как ветошку.
– Но и не поможет.
– Пусть не поможет. Не все наши просьбы исполнять! Может, я еще недостоин божьей милости.
– Не выслужился!
– Очень просто, что не выслужился. Но глядит на меня терпеливо кроткий лик и словно склоняется, шепчет: веруй, веруй, и спасет тебя вера твоя.
– От чего спасет-то?
– От тоски хотя бы! Есть существо, с которым, в любое время поговорить можно. Оно всего меня насквозь видит, и я перед ним лукавить не стану.
– С людьми-то устаешь хитрить, – проворчала Елена Денисовна, охваченная духом противоречия.
– Ни перед кем я не хитрю, но только с одним господом богом начистоту разговариваю, он с меня за мою серость не взыщет, ума у него своего довольно.
– А мы все дураки, значит. Ах, ты-ы, серый! Не был бы об одной ноге – загремел бы сейчас отсюда!
– Видишь, неладно сказал – ты и осердилась. А с богом-то я, глупый человек, за всяко просто разговариваю. Не боюсь я его, а люблю. Большое утешение – любить бога и верить, что он всегда с тобой.
– Аминь.
– Зря так, Денисовна: ты тоже одинокая теперь. Тошно ведь бывает! Вот и обратилась бы к богу. О сыне помолилась бы. Врачи-то не помогают – значит, не могут; а он все может. Ну, что тебе, трудно попросить его? Утопающий за соломинку хватается, а ты духовное милосердие отрицаешь.
– Натерпелись мы уже от этого милосердия! – сердито сказала Елена Денисовна, вспомнив, как пробовала молиться ее мать.
Мать тоже не верила в бога. Переселенка из владимирских крестьян, она прошла по Сибири пешком не одну тысячу верст, следуя за повозкой отца и мачехи. Не поладив с мачехой, ушла с отцовской заимки, батрачила у местных кулаков, пока не встретилась с крепким парнем-сибиряком, промышлявшим охотой. Нелегко вначале пришлось молодоженам, но они не унывали. Появился свой домик, пошли дети. Потом вдруг началась война. Елена Денисовна хорошо помнила отца. Его убили в шестнадцатом году под Луцком, тогда же погибли два ее старших брата. Мать больше не выходила замуж, хотя никогда не упоминала о погибшем. Только однажды, разнимая младших сыновей, сказала сурово:
– Ох вы, безотцовщина горькая!
Когда в праздники поп совершал обход по домам глухого сибирского городка, мать давала дочке пятак и уходила во двор. Елена вводила священника в горницу, совала денежку дьякону и пряталась за спины любопытно глазевших братьев. Молоденькая девушка не умела молиться и не ощущала в этом никакой потребности.
Во время гражданской войны пьяные казаки зарубили на улице обоих ее братьев-подростков.
Тогда соседки сказали матери:
– За грехи наказывает тебя бог. Молиться надо.
На всю жизнь запомнила Елена Денисовна, как пыталась молиться, ее мать.
С тяжелым вздохом становилась сибирячка пере^ иконой на колени, по-мужски размашисто крестилась, припадала головой к полу, но слова произносила совсем неподходящие.
– За что ты их покарал? – гневно вопрошала она, ожесточенная душевной мукой за нелепую и страшную казнь своих последних сыновей. – Что они тебе сдела ли? Ты меня суди, а не их.
В конце концов ее беседы с богом закончились тем, что она встала и, вскинув к образу лицо, сказала:
– Если ты есть такой, за что тебе кланяться?! Вот дочка осталась. Может, и ее приберешь? Только тогда я тебя, спасителя, на лучину исщеплю. Чем еще ты меня наказать сумеешь? Грешнику в аду легче, чем матери, пережившей смерть своих детей!
Никогда, при самых тяжелых переживаниях, не приходило в голову Елене Денисовне искать утешения в молитве, но убежденность старого инвалида невольно тронула ее. Потом он заходил еще, и женщина уже вдумчивее прислушивалась к его речам. Так явилась мечта о чуде, вызванная жаждой спасти сына. А вдруг ей откроется то, что было закрыто для истерзанной и озлобленной души матери?
– Зачем он к нам зачастил? – ревниво спрашивала Наташка, обеспокоенная посещениями Павла. – Чего ему здесь надо?
В другой раз она прямо спросила:
– Может, ты за него замуж выходишь?
– Чур тебе, длинный твой язык. Выбрось глупости из головы! Павла пожалеть надо: он инвалид, пострадал в шахте от взрыва.
– Все равно нечего ему сюда ходить. «Сестра моя!» – передразнила Наташка. – Святоша он, вот кто.
– Это тебя не касается, дочка. Отчего не может посторонний человек зайти ко мне?
«Отчего» – девочка не могла ответить. Просто неприятно ей было, что за столом сидел такой посторонний, пусть даже инвалид, и таинственно о чем-то шептался с матерью.
Однажды ночью, крадучись, чтобы не услышала дочь-комсомолка, Елена Денисовна поднялась с постели и опустилась на колени, обжигаемая волнением и стыдом. С чего начать? Она не знала ни одной молитвы.
– Господи, ведь не ради себя, ради Бореньки! – горячо вырвалось у нее, и это прозвучало как самое естественное вступление к просьбе о чуде. – Господи, помоги нам спасти его. Ведь я себе места не нахожу, господи! Спаси мне сына, если можешь, – со всей силой страсти прошептала женщина. – Тебе это ничего не стоит, а у меня теперь вся жизнь в детях.








