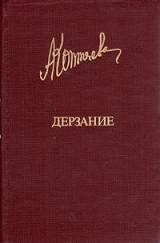
Текст книги "Дерзание"
Автор книги: Антонина Коптяева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
21
Она почти убегала от этого человека, боясь остаться с ним, с его непонятным волнением. Но, скрывшись за деревьями Девичьего поля, похожего здесь на вершину плоского треугольника, поймала себя на том, что прислушивается, не идет ли он следам за нею, поняла, как ей хочется этого, и оглянулась. Нет, он не шел за нею. Разве он мог пойти? Сразу отяжелевшими шагами Лариса направилась к ближней скамье и опустилась на нее.
Кому нужны ее переживания? Ну, в самом деле: кто может помочь женщине, которую в расцвете душевных и физических сил гнетет одиночество? «Помилуйте! – скажет какой-нибудь моралист. – Ведь это прямо в духе Вербицкой: жена погибшего фронтовика, вместо того чтобы гордиться подвигом мужа, сидит а плачет о своем «маленьком счастье»!» Да, плачет! И надо уважать это глубокое горе, надо бороться против того, что обрекает на пожизненное страшное одиночество миллионы людей, а не отгораживаться лозунгами о необходимости жертв!
Лариса, правда, не плакала, а просто сидела подавленная, опустив на колени руки, спасшие жизнь тысячам солдат на фронте, сделавшие тысячи операций в мирной жизни. Она-то знала, что такое вернуть солдата в строй, вернуть в семью отца, мужа, сына, и у нее не повернулся бы язык сказать женщине, проливающей слезы: «Стыдись. Ведь он погиб за родину». Настоящему патриоту совсем не надо напоминать о гордости!
Крутом кипела жизнь. Весело шелестела листва деревьев, кое-где позолоченная дыханием осени, уже наступавшей на город. Ярко пестрели цветы на клумбах, и, куда ни глянь, девушки и парни, то озорноватовеселые, то с выражением озабоченности на юных лицах. Сколько уверенности, самых смелых надежд, требовательной устремленности в будущее!
Пожилая женщина в белом платочке присела рядом с Фирсовой на скамью, посмотрела дружелюбно.
– Что, мамаша, такие невеселые? Может, дочка или сынок на экзамене срезались?
Лариса даже растерялась: впервые к ней так обратился посторонний человек – «мамаша»! «А ведь и правда «мамаша»! – мелькнуло у нее. – Алешке на днях пятнадцать лет исполнится. А Танечке… Танечке уже восемнадцатый год шел бы».
– Нет, мой сын еще не окончил десятилетку, – ответила она грустно и встала.
Возвращаться в клинику было незачем, и Лариса бесцельно побрела по улице к Новодевичьему монастырю. Вот и монастырь с его мощными стенами из красного кирпича. Дальше, за монастырской стеной, кладбище. Лариса тихо вошла в ворота. Белый мрамор памятников среди траура елочек, кресты, масса срезанных цветов, отдающих запахом тления, – от всего веяло скорбным покоем. Над памятниками, крестами и деревьями вздымалась высокая кирпичная стена с узкими прорезями бойниц. Много знаменитых людей нашло свой последний приют на этом кладбище: писатели, художники, полководцы, артисты! Могилы Чехова, Гоголя, Маяковского… Лариса шла среди гранитных я мраморных глыб и думала:
«Какие люди были! И нет их…»
А давным-давно в белых снегах и синих дымах старой деревянной Москвы монастырь стоял, точно крепость, куда заточили столько молодых жизней и разбитых надежд. Выход был один – на кладбище, которым кончалась городская улица. Уныло плыл похоронный звон над пустырями и лесными урочищами московских окраин, тучами кружилось над свалками воронье, а в кельях и в церковных алтарях чадили свечи, и желтый свет с трудом пробивался на волю из подслеповатых окон. Здесь сидела укрощенная Петром царевна Софья, и ветер раскачивал перед ее кельей трупы повешенных стрельцов, чтобы смотрела на своих сторонников и казнилась. Разные тут были, всем нашлось место…
Лариса остановилась наконец и осмотрелась. Зачем ее занесло сюда? Ну, пусть «мамаша». Пусть женская жизнь сломана. Пусть любимый человек принадлежит другой, и счастья никогда не будет, и поздно думать о нем. Да, поздно. Недаром говорится: бабий век – сорок лет, а ей уже тридцать восемь. Зачем же тяжесть на сердце? Отчего боль такая, если все уже кончилось в жизни?!
– Неправда, что в сорок лет все кончилось! – неожиданно громко, почти злобно сказала Лариса. – Насчет бабьего века пошляки придумали! Так почему мы должны верить пошлякам? Сами-то они не желают ограничить"5 свою жизнь сорока годами! А разве я хуже мужчины работаю? Или я сына плохого вырастила? До сих пор мне дохнуть было некогда, но вот распрямилась, вздохнула, о себе вспомнила, и кто посмеет мне сказать: «Поздно, мамаша! Пора на кладбище!» Нет, на кладбище мне еще рано.
22
Подходя к дверям своей квартиры, Лариса услышала приглушенные звуки пианино. Играл, конечно, Алеша, но мелодия была ей незнакома.
– Почему так долго сегодня? – спросил он, целуя Разгоревшуюся щеку матери. – Я так ждал тебя!
– Что ты играл? – не ответив, спросила она, надевая за ширмой легкий халат и домашние туфли.
– Пробовал сочинять. Играл, играл, чувствую, что-то получается. Вот набросал… – Алеша взял с пианино исписанный лист нотной бумаги, всмотрелся, задумчиво шевеля бровью. – Это звучало во мне с тех пор, как мы с тобой смотрели «Лебединое озеро».
– Но у тебя что-то очень печальное.
– Да? Ты почувствовала? – глаза Алеши заблестели. – Мне нужно, чтобы не только печально получилось. Я хотел передать наши переживания в Сталинграде. Конечно, я тогда был маленький, многого не понимал, но главное помню: этот ужасный шум и гул, страдания раненых солдат, доброту их и ласку. Ну что я был для них! А Вовка Паручин, а Витуська, которая совсем уж ничего не понимала? Помнишь, как она родилась в подвале? Еще смеялись, будто ее вместо бомбы сбросили к нам. Вовка тоже смеялся: «Головкой болтает, пеленки пачкает», – а сам ее любил. Один раз оказал: «Наша Витуська боевая. Виктория – значит победа». Я думаю: почему солдаты ласкали меня и Вовку? Наверно, они разговаривали с нами, а думали о своих детях; даже о тех, которые еще не родились. Значит, они в самом деле за будущее воевали. Это мне и хочется выразить – великое в простом.
– Сыграй, что у тебя получается, – попросила Лариса, с живым интересом посмотрев на листки, исчерченные Алешей. – Я плохой судья в музыке, но сердцем смогу понять.
Она села на диванчик, подобрала уставшие ноги и так, сжавшись в комок, притихла, только глаза горели, выдавая ее волнение.
Алеша, немножко смущенный, направился к инструменту.
«Как вытянулся и похудел за лето мальчишка!»– подумала мать, обласкав взглядом черноволосый затылок и узкую спину мальчика с выступавшими под рубашкой лопатками.
Первые аккорды разочаровали и огорчили ее: все было смутно, зыбко, нестройно. Юный музыкант робел, терялся, как будто боялся повторить уже известные мелодии. Но, словно родник среди камней, все сильнее стала пробиваться и складываться музыкальная тема и зазвучала, отодвигая то, что еще не нашло выражения. А потом совсем забыла Лариса недостатки первого большого произведения сына. Именно это испытала она тогда в Сталинграде: это ее смятение, и страх, и вера в победу, и любовь к своим людям. Слезы увлажнили ее глаза. Но Алеша неожиданно бросил играть, размашисто обернулся с конфузливой, счастливой улыбкой.
– Дальше я еще не нашел. Тебе не скучно было слушать?
– Что ты, Алеша, я слушала… – Лариса хотела сказать «с удовольствием», но тоже отчего-то застеснялась. – Я очень слушала, дорогой!
– Если бы мне удалось написать так, чтобы все «очень» слушали! – страстно воскликнул мальчик.
– Напишешь. Хочешь, съездим в Сталинград? Завтра я сделаю операцию одному больному… Есть у нас тяжелый больной Прудник: и по характеру тяжелый, и по течению болезни. Я его оперирую, послежу за ним до снятия швов, и мы съездим, пока не кончились каникулы.
Алеша побледнел от волнения.
– Я очень хочу побывать в Сталинграде, мама! «Отчего же он раньше ни разу не заговаривал о поездке в Сталинград?» – подумала Лариса.
– Я знал, что нам… что тебе очень больно там будет! – неожиданно для нее ответил Алеша и, стоя, пробежал пальцами по клавишам. – Вот так…
Ларисе и в самом деле больно стало – то ли от слов Алеши, то ли от звуков, которыми пианино ответило на его легкие прикосновения.
– Какие у тебя большущие лапы становятся, Алешка! – сказала она, взяв его крупную руку и сквозь слезы рассматривая крепкую ладонь и сильные пальцы. – Мне всегда казалось, что у музыкантов должны быть тонкие и нежные руки.
– Как раз наоборот, мама. Для пианиста маленькая рука – плохое орудие. У нас недавно отчислили очень способную девочку только потому, что у нее крошечные ручки. Это, знаешь, было в моде в восемнадцатом веке… Представь сидит за клавесином дама или кавалер, а над клавишами – их даже специально чернили – порхают узенькие, беленькие такие руки в кружевных манжетах. Красиво? Но для гостиной – камерная музыка. А мы выходим на широкую аудиторию. Рояль – это настоящий физический труд. Чтобы все взять от инструмента, нужна крупная рука. Вот послушай.
Алеша снова сел к пианино и, взяв несколько сильных аккордов, с глубоким чувством, с настоящим артистическим блеском стал играть прелюдию Скрябина.
Лариса смотрела на сына с любовной гордостью. Ее маленький Алешка становился серьезным музыкантом-исполнителем. Он будет и композитором.
«Я еще понравлюсь ей. Я все равно буду тут учиться!» – вспомнились ей упрямые слова огорченного мальчика, когда его не приняли в музыкальную школу.
И понравился, в самом деле учится! Любой отец тоже гордился бы таким сыном…
Ночью Лариса спала плохо: снилось ей что-то кошмарное, и то жарко было, то словно ледяное чье-то дыхание пробегало по коже от корней волос до кончиков пальцев. Когда Алеша проснулся, она уже сидела за столом, одетая для выхода на работу, и что-то еще обдумывала, выкраивая модель из листа белой бумаги.
– Ты сегодня в Институте травматологии будешь? – спросил мальчик, с быстротою военного человека вставая с постели и надевая пижаму.
Лариса любила в нем эту четкость движений и расторопность, не вязавшуюся в обывательском представлении с профессией музыканта, тем более музыканта незаурядного, каким становился ее сын.
– Сегодня я в госпитале…
– Ты там встречаешься с женой Ивана Ивановича? – неожиданно спросил Алеша, поправляя складку на одеяле.
Ножницы в руках Ларисы дрогнули, и разрез получился неровный.
– Конечно, – не сразу ответила она. – А что?
– Просто так… Я тоже встречаю ее у Наташи Коробовой. Но она мне не очень нравится.
– Отчего же?
– Не знаю… Мишук – вот это да! Настоящий богатырь. А как смешно слова выговаривает! Вчера дразнил во дворе такого же карапуза. «Табыл, – говорит, – как тебя колотам-то били?» Значит, галошей били? Правда, комик?
– Да, комик. На каком же дворе ты его видел?
Шея Алеши густо покраснела под коротко остриженными волосами.
– У них во дворе, у Аржановых.
– Зачем же ты к ним ездил?
– Я не к ним. Я… я к Галине Остаповне.
– Алеша…
– Да, мама. – Он положил на место подушку, смущенно взглянул на мать.
– Я не только к Галине Остаповне… Мы еще погуляли немножко с Наташей Хижняк. У нее мать очень славная. Я, когда с ней познакомился, так ясно представил фельдшера Хижняка, будто вчера с ним виделся. И мне очень жаль ее стало.
– Наташу?
– Нет, ее мать. И Наташу тоже! – торопливо добавил Алеша, боясь, что его могут заподозрить в неискренности. – У них во дворе цветы посадили. Клумбы – просто чудо!
– Значит, вы там и гуляли?
– Да… – И Алеша заспешил в ванную – принять душ и избавиться от дальнейших расспросов. Не мог ведь он сказать, что его поездки на Ленинградский проспект были вызваны желанием увидеть Аржанова. Однако увидеть Ивана Ивановича оказалось не так-то просто. Вчера он тоже не дождался доктора. Мишутка сведениями об отце не располагал, а обратиться к Варваре Васильевне, которая присматривала за ребенком. Алеша никогда бы не решился.
– Ты знаешь, какой сегодня день? – спросила Лариса, когда он вернулся в комнату.
– Еще бы! Сегодня мне исполнилось пятнадцать лет. Думаешь, я забыл?
– Так я не думала. – Лариса открыла шифоньер и вынула из него два плоских пакета. – Это тебе подарки.
В пакетах оказались белая шелковая рубашка с манжетами и запонками, как у взрослого мужчины, и книга «Жизнь Моцарта» – роскошное издание, приобретенное в букинистическом магазине.
– Спасибо! – Алеша нежно расцеловал мать. – Ты у меня лучше всех на свете.
«Мамаша», – вспомнила Лариса и улыбнулась печально и гордо.
22
Подходя к дверям своей квартиры, Лариса услышала приглушенные звуки пианино. Играл, конечно, Алеша, но мелодия была ей незнакома.
– Почему так долго сегодня? – спросил он, целуя Разгоревшуюся щеку матери. – Я так ждал тебя!
– Что ты играл? – не ответив, спросила она, надевая за ширмой легкий халат и домашние туфли.
– Пробовал сочинять. Играл, играл, чувствую, что-то получается. Вот набросал… – Алеша взял с пианино исписанный лист нотной бумаги, всмотрелся, задумчиво шевеля бровью. – Это звучало во мне с тех пор, как мы с тобой смотрели «Лебединое озеро».
– Но у тебя что-то очень печальное.
– Да? Ты почувствовала? – глаза Алеши заблестели. – Мне нужно, чтобы не только печально получилось. Я хотел передать наши переживания в Сталинграде. Конечно, я тогда был маленький, многого не понимал, но главное помню: этот ужасный шум и гул, страдания раненых солдат, доброту их и ласку. Ну что я был для них! А Вовка Паручин, а Витуська, которая совсем уж ничего не понимала? Помнишь, как она родилась в подвале? Еще смеялись, будто ее вместо бомбы сбросили к нам. Вовка тоже смеялся: «Головкой болтает, пеленки пачкает», – а сам ее любил. Один раз оказал: «Наша Витуська боевая. Виктория – значит победа». Я думаю: почему солдаты ласкали меня и Вовку? Наверно, они разговаривали с нами, а думали о своих детях; даже о тех, которые еще не родились. Значит, они в самом деле за будущее воевали. Это мне и хочется выразить – великое в простом.
– Сыграй, что у тебя получается, – попросила Лариса, с живым интересом посмотрев на листки, исчерченные Алешей. – Я плохой судья в музыке, но сердцем смогу понять.
Она села на диванчик, подобрала уставшие ноги и так, сжавшись в комок, притихла, только глаза горели, выдавая ее волнение.
Алеша, немножко смущенный, направился к инструменту.
«Как вытянулся и похудел за лето мальчишка!»– подумала мать, обласкав взглядом черноволосый затылок и узкую спину мальчика с выступавшими под рубашкой лопатками.
Первые аккорды разочаровали и огорчили ее: все было смутно, зыбко, нестройно. Юный музыкант робел, терялся, как будто боялся повторить уже известные мелодии. Но, словно родник среди камней, все сильнее стала пробиваться и складываться музыкальная тема и зазвучала, отодвигая то, что еще не нашло выражения. А потом совсем забыла Лариса недостатки первого большого произведения сына. Именно это испытала она тогда в Сталинграде: это ее смятение, и страх, и вера в победу, и любовь к своим людям. Слезы увлажнили ее глаза. Но Алеша неожиданно бросил играть, размашисто обернулся с конфузливой, счастливой улыбкой.
– Дальше я еще не нашел. Тебе не скучно было слушать?
– Что ты, Алеша, я слушала… – Лариса хотела сказать «с удовольствием», но тоже отчего-то застеснялась. – Я очень слушала, дорогой!
– Если бы мне удалось написать так, чтобы все «очень» слушали! – страстно воскликнул мальчик.
– Напишешь. Хочешь, съездим в Сталинград? Завтра я сделаю операцию одному больному… Есть у нас тяжелый больной Прудник: и по характеру тяжелый, и по течению болезни. Я его оперирую, послежу за ним до снятия швов, и мы съездим, пока не кончились каникулы.
Алеша побледнел от волнения.
– Я очень хочу побывать в Сталинграде, мама! «Отчего же он раньше ни разу не заговаривал о поездке в Сталинград?» – подумала Лариса.
– Я знал, что нам… что тебе очень больно там будет! – неожиданно для нее ответил Алеша и, стоя, пробежал пальцами по клавишам. – Вот так…
Ларисе и в самом деле больно стало – то ли от слов Алеши, то ли от звуков, которыми пианино ответило на его легкие прикосновения.
– Какие у тебя большущие лапы становятся, Алешка! – сказала она, взяв его крупную руку и сквозь слезы рассматривая крепкую ладонь и сильные пальцы. – Мне всегда казалось, что у музыкантов должны быть тонкие и нежные руки.
– Как раз наоборот, мама. Для пианиста маленькая рука – плохое орудие. У нас недавно отчислили очень способную девочку только потому, что у нее крошечные ручки. Это, знаешь, было в моде в восемнадцатом веке… Представь сидит за клавесином дама или кавалер, а над клавишами – их даже специально чернили – порхают узенькие, беленькие такие руки в кружевных манжетах. Красиво? Но для гостиной – камерная музыка. А мы выходим на широкую аудиторию. Рояль – это настоящий физический труд. Чтобы все взять от инструмента, нужна крупная рука. Вот послушай.
Алеша снова сел к пианино и, взяв несколько сильных аккордов, с глубоким чувством, с настоящим артистическим блеском стал играть прелюдию Скрябина.
Лариса смотрела на сына с любовной гордостью. Ее маленький Алешка становился серьезным музыкантом-исполнителем. Он будет и композитором.
«Я еще понравлюсь ей. Я все равно буду тут учиться!» – вспомнились ей упрямые слова огорченного мальчика, когда его не приняли в музыкальную школу.
И понравился, в самом деле учится! Любой отец тоже гордился бы таким сыном…
Ночью Лариса спала плохо: снилось ей что-то кошмарное, и то жарко было, то словно ледяное чье-то дыхание пробегало по коже от корней волос до кончиков пальцев. Когда Алеша проснулся, она уже сидела за столом, одетая для выхода на работу, и что-то еще обдумывала, выкраивая модель из листа белой бумаги.
– Ты сегодня в Институте травматологии будешь? – спросил мальчик, с быстротою военного человека вставая с постели и надевая пижаму.
Лариса любила в нем эту четкость движений и расторопность, не вязавшуюся в обывательском представлении с профессией музыканта, тем более музыканта незаурядного, каким становился ее сын.
– Сегодня я в госпитале…
– Ты там встречаешься с женой Ивана Ивановича? – неожиданно спросил Алеша, поправляя складку на одеяле.
Ножницы в руках Ларисы дрогнули, и разрез получился неровный.
– Конечно, – не сразу ответила она. – А что?
– Просто так… Я тоже встречаю ее у Наташи Коробовой. Но она мне не очень нравится.
– Отчего же?
– Не знаю… Мишук – вот это да! Настоящий богатырь. А как смешно слова выговаривает! Вчера дразнил во дворе такого же карапуза. «Табыл, – говорит, – как тебя колотам-то били?» Значит, галошей били? Правда, комик?
– Да, комик. На каком же дворе ты его видел?
Шея Алеши густо покраснела под коротко остриженными волосами.
– У них во дворе, у Аржановых.
– Зачем же ты к ним ездил?
– Я не к ним. Я… я к Галине Остаповне.
– Алеша…
– Да, мама. – Он положил на место подушку, смущенно взглянул на мать.
– Я не только к Галине Остаповне… Мы еще погуляли немножко с Наташей Хижняк. У нее мать очень славная. Я, когда с ней познакомился, так ясно представил фельдшера Хижняка, будто вчера с ним виделся. И мне очень жаль ее стало.
– Наташу?
– Нет, ее мать. И Наташу тоже! – торопливо добавил Алеша, боясь, что его могут заподозрить в неискренности. – У них во дворе цветы посадили. Клумбы – просто чудо!
– Значит, вы там и гуляли?
– Да… – И Алеша заспешил в ванную – принять душ и избавиться от дальнейших расспросов. Не мог ведь он сказать, что его поездки на Ленинградский проспект были вызваны желанием увидеть Аржанова. Однако увидеть Ивана Ивановича оказалось не так-то просто. Вчера он тоже не дождался доктора. Мишутка сведениями об отце не располагал, а обратиться к Варваре Васильевне, которая присматривала за ребенком. Алеша никогда бы не решился.
– Ты знаешь, какой сегодня день? – спросила Лариса, когда он вернулся в комнату.
– Еще бы! Сегодня мне исполнилось пятнадцать лет. Думаешь, я забыл?
– Так я не думала. – Лариса открыла шифоньер и вынула из него два плоских пакета. – Это тебе подарки.
В пакетах оказались белая шелковая рубашка с манжетами и запонками, как у взрослого мужчины, и книга «Жизнь Моцарта» – роскошное издание, приобретенное в букинистическом магазине.
– Спасибо! – Алеша нежно расцеловал мать. – Ты у меня лучше всех на свете.
«Мамаша», – вспомнила Лариса и улыбнулась печально и гордо.
23
Операция действительно предстояла серьезная, у больного Прудника, известного далеко за пределами госпиталя своим скандальным характером и осложнениями после всех хирургических вмешательств, не сразу удалось сформировать приличный филатовскии стебель. Еще труднее было вылечить гнойные раны на лице и улучшить общее состояние больного. В течение последних двух месяцев Лариса заботилась о нем, как о малом ребенке.
– Доктор, у меня печенка сейчас не болит! – протестовал Прудник против ее лечебных назначений. – Вы мне нос сделайте!
– Не будет у вас хорошего носа, пока обмен веществ не наладим.
– Да какое это имеет отношение?
– Самое прямое.
Прудник вздыхал, но покорялся.
Придя в госпиталь, Лариса переоделась и пошла в отделение, где ей надо было осмотреть и проконсультировать больных, которым предстояли операции. Там ждала ее Полина Осиповна со своими больными. Пришла и Варя с неудачником Березкиным – никаких улучшений у него не наступало.
– Вот посмотрите, Лариса Петровна, – тотчас заняла позицию энергичная Полина Осиповна и, крепко держа маленькими ручками за плечо своего пациента, с торжеством выдвинула его вперед. – Посмотрите, какую глазную впадину я сделала ему для протеза! Обратите внимание, какой створ в уголках век получился, а?.. Ну-ка, зажмурь глаз! Только очень скупой, не дал мне взять полосочку для ресниц с брови, и я вырезала вот здесь! – Полина Осиповна, мягко наклонив стриженую голову больного, показала шрам у него за ухом, и опять наивное, милое торжество осветило ее лицо. – Хорошо? Он оптимист и шутит, будто у него реснички так растут, что повязку сдвигают. Я боялась, что луковки волос опять не вынесут пересадки и умрут. Ведь сначала не выходило: полоски кожи приживлялись, но луковки волос погибали, и оставался голый трансплантат. Я долго билась над этим. А нынче весной смотрю: везут деревья для пересадки с большим комом земли. И я подумала: волоску, как и дереву, тоже нужно питание. В самом веке жировой клетчатки почти нет, значит, надо брать полоску для ресниц с жиром, чтобы вставлять ее в разрез века с подкожным кормом. Попробовала. Луковки выжили, и реснички начали расти. Видите? И у него растут! Когда будет вставлен протез, получится замечательно. А была бесформенная яма! Только вот тут… – Полина Осиповна развязала неугомонными пальцами повязку и умоляюще посмотрела на Ларису.
Да, ниже – очень плохо: на месте носа зияющая дыра, губа опустилась.
Больной тоже с тревожно-просительным видом уставился на Ларису единственным глазом. Конечно, доктор Фирсова сумеет избавить его от тяжелого уродства. Недаром больные, лечащиеся в госпитале, боготворят ее. Только Варю, которая шла сюда ради Березкина, не могли уже теперь расположить ее знания и опыт. С тех пор как она почувствовала себя одинокой, с тех пор как услышала зов спящего Ивана Ивановича… Не только от сна пробудилась она в ту ночь, но и от ослепления, владевшего ею столько лет.
«Не может быть, чтобы он разлюбил меня за критику. Он тоже прямой, резкий. Значит, просто никогда не любил меня?.. Непохоже и на то, чтобы он признался Ларисе в своем чувстве, – Варя всмотрелась в хмуро-озабоченное, бледное лицо Фирсовой. – Может быть, у нее уже есть другой человек. Неужели она так и не полюбила никого за эти годы?»
– Вы тоже хотели показать своего больного Лари, се Петровне, – напомнила Полина Осиповна. Варя спохватилась:
– Да, да! Это Березкин с глаукомой, которому мы вместе с вами делали операцию. Вы мне ассистировали.
Лариса нахмурилась, припоминая. Много больных проходит через ее руки… А сколько ей приходилось ассистировать: и старшим коллегам, и молодым врачам вроде Вари, и студентам, проходящим субординатуру шестого курса. Совсем не хотела Лариса унизить Варю невниманием, но той показалось: Фирсова нарочно делает вид, что не помнит. (Ну, можно ли забыть такое!) И очень обидно стало Варе: во всем чувствовала она превосходство этой женщины. Но она справилась с досадой и начала объяснять:
– Он требует, чтобы я удалила ему больной глаз, а мне не хочется его уродовать. Вон сколько усилий тратит Полина Осиповна на создание глазного протеза, а тут пусть не зрячий, но ведь живой глаз!
– Варвара Васильевна права: глаз надо сохранить, – сказала Лариса Березкину после осмотра. – Удалить недолго, но потом вы будете обречены на постоянную черную повязку или на глазной протез. Вернуть зрение этому глазу невозможно, и мы вас зря обнадеживать не станем. А боли надо снять. Не хочется для этого идти на крайнюю меру – перерезать зрительный нерв, лучше мы сделаем вам еще одну операцию: вырежем узенькую полоску склеры. Это иногда очень помогает. Наши врачи позаимствовали такой метод в клинической глазной больнице, – обратилась Лариса к Варе. – Вот куда вам пойти бы на усовершенствование!
– Я уже подала заявление, – ответила сухо Варя, почти оскорбленная словами Фирсовой при больном, которому она не сумела помочь: не намек даже, а прямое напоминание о неопытности.
Но невольно про себя она отметила: «Лариса Петровна тоже все время учится, стремится к полной самостоятельности в лечении болезней лица. Ничего не упускает. Не похожа ли она в этом на Ивана Ивановича?»
– Будем готовиться к операции?
– Я сама ее сделаю, а вы будете помогать, – решила Лариса. – Как думаете, Березкин?
– Если вам не надоело, попытайтесь еще. Только мне не до красоты!
– Сейчас не до красоты, а снимем болевые ощущения – потребуете красоту навести.
Шагая вместе с Березкиным по коридору после консультации, Варя опять увидела Прудника, который был в очень возбужденном состоянии.
– Ты мне не выдумывай всякие штучки! – кричал он, наступая на молоденькую палатную сестру. – Хватит меня жданками кормить! Не лезь и ничего не болтай Ларисе Петровне!
– Ведь плохо будет, Прудник! Я не имею права молчать! Нельзя делать операцию, когда у больного температура, а у вас лихорадочное состояние…
– Сама ты лихорадка болотная! – Прудник выхватил у сестры градусник, переломил, бросил и с яростью шагнул к ней. – Я тебе…
– Нельзя так! – Варя смело встала между буяном и испуганной девушкой. – Мы вас лечим и отвечаем за ваше здоровье, а если вы станете что-нибудь скрывать, вам хуже будет.
– Не будет! Я устал от проклятого уродства. Я вас всех ненавидеть начинаю! Уйди, а то я выбью твои раскосые глаза!
– Эх ты, хулиган! – укоризненно сказал степенный Березкин. – Я вот уже несколько лет пропадаю от боли. Такая боль в глазу – вырвал бы его! Неужели и мне на людей кидаться?
– Что за шум? – спросила Лариса, быстро подходя к ним. – Опять вы, Прудник? Ведь вы сегодня на операцию назначены!
– Его лихорадит. У него температура, – сообщила Варя, потрясенная злобной выходкой больного: никто никогда не унижал в ней национального достоинства.
– Молчи, это тебя не касается! – прервал Прудник.
– Если вы сейчас же не извинитесь перед Варварой Васильевной, мы сегодня выпишем вас из больницы! – не повышая голоса, сказала Фирсова.
«Выпишем из больницы!» Пруднику сразу вспомнилось, как он однажды проснулся… Повязка сбилась ночью с лица, и жена, приподнявшись на постели, в упор смотрела на него. Какая брезгливость была в ее взгляде! А сколько раз, сидя за столом, он испытывал болезненный стыд перед нею и детьми, когда пища выливалась из его обезображенного рта на грудь!.. Хулиган?! Нет, он не испытывал никакого удовлетворения от своих скандалов. Но почему он всю жизнь Должен терпеть это истязание?
– Лариса Петровна!
– Никаких разговоров! – Глаза Фирсовой стали совсем черными, и такую властность выразило ее лицо, что Прудник растерялся.
– Я больше не буду, Лариса Петровна! Это в последний раз, честное слово!
Фирсова стояла неподвижно, точно не слыша его слов. Слишком часто встречалась она на фронте со смертью, чтобы испугаться нахала, судьба которого целиком зависела от нее. Прудник почувствовал это и, побагровев от стыда, обернулся к Варе.
– Простите, доктор, за мою грубость!
– Не просто грубость, а политическое хулиганство, – возразила Лариса, и Прудник покорно повторил:
– Простите за политическое хулиганство.
– Это другой разговор. Делать операцию при повышенной температуре нельзя. Будем вас оперировать не тогда, когда вам вздумается, а когда мы найдем это целесообразным. Понятно?
– Понятно.
– Идите в палату!
– Есть в палату!
– Даже страшно, до чего может распуститься человек! – произнесла Лариса тем же ровным голосом, провожая взглядом уходившего Прудника.








