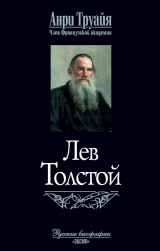
Текст книги "Лев Толстой"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 55 страниц)
Усердный ученик Чертков в каждом письме давал уроки, как себя вести, чтобы не оказаться в ложном, двусмысленном положении. Жена оглушала болтовней, в которой звучала то ненависть, то любовь. «Остались мы, старики, одни, – отвечает она. – Он без посторонних опять по-старому добр и ласков со мной, и я чувствую, что он мой». Льва Николаевича мучила предупредительность супруги, к которой примешивалась изрядная доля подозрительности. Прочитав «В семье» Мопассана, вдруг почувствовал желание написать роман о «пошлости жизни», центром повествования должен был стать «духовно живой» человек. Поначалу проект вдохновлял его – «О, как хорошо могло бы быть!» – но объем предстоящей работы испугал. «Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаться ей от нее [жены], от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех художественных произведений».
В начале октября приехали Таня и Сергей и хором принялись убеждать мать расстаться с отцом, обвиняли несчастную в том, что мучает его, угрожали назначить над ней опеку, если она не уедет или не станет вести себя иначе. Толстой разволновался.
Чтобы не слышать, пригласил Маковицкого совершить прогулку верхом. По возвращении, проехав двенадцать верст, Лев Николаевич лег, не раздеваясь. В семь часов был ужин, но к столу он не вышел. Графиня забеспокоилась и поспешила к нему. Муж лежал без сознания, «шевелил челюстями и издавал странные, негромкие, похожие на мычание звуки». На крики Софьи Андреевны сбежался весь дом: Сухотины, Сергей Львович, Бирюков, Булгаков, Маковицкий. Толстого раздели, уложили. Он водил рукой по одеялу и бормотал: «Общество… общество насчет трех… общество насчет трех…» В этой ситуации жена продемонстрировала исключительное присутствие духа: положила к ногам бутылки с горячей водой, на голову – компресс, приготовила кофе с ромом, принесла флакон с нюхательными солями. Вдруг начались судороги – Бирюков, Булгаков и Маковицкий с трудом удерживали ноги больного. Голова сползала с подушки, мышцы лица напряглись, глаза помутнели. Стоя на коленях, Софья Андреевна повторяла: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!..»
Из Телятников приехала Саша, с ней, нарушив запрет, Чертков. Но Владимир Григорьевич не решился показаться на глаза графине и сидел внизу в комнате Маковицкого. Каждые четверть часа получал новости от своего секретаря – Белинского. Без сомнения, у Черткова был план действий на случай смерти учителя: завладев завещанием, устранить вдову, забрать все последние рукописи… Несмотря на ужас происходящего, Софья Андреевна тоже не забывала о том, чтобы обеспечить свое будущее: пользуясь всеобщей растерянностью, завладела портфелем с бумагами, и только вмешательство Тани, которая видела это, заставило ее отступить. Более ловкая Саша забрала у отца записную книжку так, что мать не заметила. Судороги повторились пять раз, каждый приступ длился по три минуты. К одиннадцати часам вечера Толстой пришел в сознание, спросил, что случилось, и уснул.
Опасность миновала, но Лев Николаевич был слишком слаб, чтобы встать. То, что муж выжил, казалось Софье Андреевне Божьей милостью, за которую следовало заплатить раскаянием. Саша вновь собиралась в Телятники, когда ей сказали, что графиня желает ее видеть.
«Моя мать стояла у двери в одном платье. Голова ее беспомощно тряслась…
– Прости меня. – Она стала целовать меня, повторяя: „прости, прости“… Прости меня, прости, я даю честное слово, что больше никогда не буду оскорблять тебя».
Она обещала дочери перестать мучить отца и попросила ее вернуться в Ясную вместе с Варварой Михайловной. «Жалость к ней сжимала мое сердце. Снова затеплилась надежда». На седьмое число графиня пригласила Черткова, как будто между ними ничего не было.
Но Софья Андреевна переоценила свои силы: когда услышала шум подъезжавшего экипажа верного ученика, сердцебиение участилось, ей чуть не стало плохо. Опасаясь, что муж будет слишком рад, взяла с него обещание не целоваться с Чертковым при встрече. Лев Николаевич вышел на крыльцо. Знали эти двое, что за ними пристально наблюдают? Они ограничились рукопожатием. Графиня не спускала с них глаз весь день. Вечером записала: «Он просто дьявол, я не выношу его никак».
Видя нервозность супруги, Толстой написал жене Черткова, что в интересах всех не повторять этого эксперимента. Ему тем более не хотелось провоцировать Софью Андреевну на обострение ситуации, что несколько дней назад обнаружил пропажу «Дневника для одного себя». Сам ли потерял или кто-то забрал? Лев Николаевич подозревал графиню и не ошибался: она заметила записную книжку в сапоге, где та обычно была спрятана, и унесла, пока он спал. О своем открытии мужу не сказала. Чтение дневника утвердило графиню в мысли о существовании заговора против нее. Главными заговорщиками были Лев Николаевич и Чертков, а завещание составили, чтобы лишить ее авторских прав. Это было тем более неприемлемо, что издательство «Просвещение» пообещало ей баснословную сумму в миллион рублей за исключительное право публиковать произведения Толстого после его смерти. Миллион рублей! Достаточно, чтобы обеспечить будущее сыновей, дочерей и внуков! Значит, во что бы то ни стало завещание надо уничтожить! Что Софья Андреевна и объяснила отцу семейства двенадцатого октября. Он отказался ее слушать. Пришлось написать письмо и оставить на его рабочем столе:
«Ты каждый день меня как будто участливо спрашиваешь о здоровье, о том, как я спала, а с каждым днем новые удары, которыми сжигается мое сердце, которые сокращают мою жизнь и невыносимо мучают меня, и не могут прекратить моих страданий. Этот новый удар, злой поступок относительно лишения авторских прав твоего многочисленного потомства, судьбе угодно было мне открыть, хотя сообщник в этом деле и не велел тебе его сообщать мне и семье… Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески бранили и отрицали, будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его Сытиным и разным богатым типографиям и аферистам, в то время, как внуки Толстого, по его злой и тщеславной воле, будут умирать с голода. Правительство же, Государственный банк хранит от жены Толстого его дневники… Меня берет ужас, если я переживу тебя, какое может возникнуть зло на твоей могиле и в памяти детей и внуков».
Когда, вся дрожа, пришла к мужу, чтобы узнать его реакцию, тот сухо попросил оставить его в покое. Графиня прибегла к нежности, потом к слезам. Лев Николаевич оставался тверд. И не мог сказать, что лишает ее авторских прав не только на произведения, написанные после 1881 года, но и на «Войну и мир», «Анну Каренину», «Казаков». «…Когда она преувеличенно говорит о своей любви ко мне, становится на колени и целует руки, мне очень тяжело», – замечает Толстой. Когда жена вышла, привычным жестом измерил пульс – «90», работал над статьей «О социализме», уехал верхом.
Каждый раз, когда он отправлялся один в лес, Софья Андреевна была уверена – у него свидание с Чертковым. И шестнадцатого октября пешком пошла через поля в сторону Телятников, спряталась в канаве недалеко от въезда в имение, направила на дом бинокль. Ожидала встречи влюбленных, но Левочка так и не появился. К вечеру вернулась в Ясную и села на скамейку под елью, где ее обнаружил слуга. Когда графиня рассказала о своих похождениях мужу, умоляя поклясться, что тот никогда больше не увидится с Чертковым, он сказал, что хочет свободы, не зависеть от ее капризов и отказывается в восемьдесят два года быть мальчишкой, подкаблучником, берет назад все свои обещания.
Через несколько дней к Льву Николаевичу пришел толстовец – крестьянин Михаил Новиков. Писатель поделился с этим «темным», как тяжело ему, как он страдает. Гость ответил, что у них споры с женой решаются просто… И хотя сам он не сторонник кнута, нельзя же делать все, что хочет женщина. А Саша рассказала отцу, «как один раз Иван-кучер вез Ольгу, она спросила его, что делается в Ясной. Он ответил, что плохо. А потом обернулся к ней и сказал: „А что, ваше сиятельство, у нас по-деревенски если баба задурит, муж ее вожжами, – шелковая сделается“».
Впрочем, не только семейные проблемы обсуждали они с Новиковым, и, когда тот уехал, Толстой всерьез стал подумывать о том, чтобы уйти, раствориться в народе, есть кашу… Чтобы доказать себе – есть еще порох в пороховницах, решил заняться гимнастикой: «…помолодеть, дурак, хочет – и повалил на себя шкаф и напрасно намучился. То-то дурак 82-летний». Но все же некоторую уверенность в своих силах это ему придало.
Двадцать четвертого октября получил письмо от петербургского студента Александра Бархударова, который упрекал Толстого в противоречии между его учением и действиями, опираясь на книгу Мережковского «Л. Н. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество». Другое письмо с упреками было из Германии. Не удивительно ли, что оба послания пришли в то время, когда он вновь думал об уходе ради обновления? И Лев Николаевич пишет Новикову:
«В связи с тем, что я говорил вам… обращаюсь к вам еще с следующей просьбой: если бы действительно случилось то, что я приехал к вам, то не могли бы вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную и теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева… Имейте в виду, что все это должно быть известно только вам одним».
На следующий день в «Дневнике для одного себя» появляется запись: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать… А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу». Он поделился своими планами с Сашей, предложив сопровождать его.
«– Да я не хотела бы тебя стеснять, – ответила она, – может быть, первое время, чтобы тебе легче было уйти, не пошла бы с тобой, а вообще жить врозь с тобой я не могу.
– Да, да, но ты знаешь, что я все думаю, что ты для этого недостаточно здорова, насморки, кашель начнется.
– Нет, нет, это ничего. Мне будет легче в простой обстановке.
– Ежели так, то мне самое естественное, самое приятное иметь тебя около себя, как помощницу. Я думаю сделать так. Взять билет до Москвы, кого-нибудь, Черткова, послать с вещами в Лаптево[673]673
Станция Московско-Курской железной дороги, недалеко от деревни, где жил Новиков.
[Закрыть] и самому там слезть. А если там откроют, еще куда-нибудь поеду. Ну, да это все мечты, я буду мучиться, если брошу ее, меня будет мучить ее состояние… А с другой стороны, так делается тяжела эта обстановка, с каждым днем все тяжелее. Я, признаюсь тебе, жду только какого-нибудь повода, чтобы уйти».[674]674
Толстая А. Л. Отец.
[Закрыть]
Спросил, что думает о его плане доктор Маковицкий. Тот отвечал, что не возражает ни как последователь, ни как доктор. Реакция Марии Александровны Шмидт, которой Толстой тоже доверился, была иной – она считала это минутной слабостью, которая пройдет. Взволнованный Лев Николаевич вынужден был признать, что совесть не позволяет ему принять это эгоистичное и жесткое решение.
В те дни в Ясной Поляне было много гостей. Среди них издатель и редактор журналов «Родник», «Воспитание и обучение», «Солнышко» Наталья Алексеевна Альмединген. Она прибыла по поручению издательства «Просвещение» получить подтверждение, что графиня готова за миллион рублей уступить им право посмертной публикации всех произведений ее мужа. Хотя ни та, ни другая и словом не обмолвились об этих планах, Толстой догадывался и был недоволен.
Недовольство это достигло высшей точки с приездом двадцать шестого октября Андрея Львовича и Сергея Львовича. Общение с реакционно-настроенным Андреем всегда было мучительно, что до Сергея, то из-за глупейшей ссоры его вызвал на дуэль сосед. Дело не должно было иметь последствий, но мать вздыхала, стонала, всячески выставляя напоказ свои родительские чувства. «Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших», – записывает Лев Николаевич. Тем не менее он вежлив с сыновьями, что было непросто. За столом говорили обо всем, кроме Черткова и завещания. Софья Андреевна восседала во главе между своими бородатыми сыновьями. Граф скоро оставил гостей и отправился на прогулку верхом в сопровождении Маковицкого.
С серого неба сыпал легкий снежок, подморозило, было скользко, и чтобы пересечь овраг, пришлось спешиться. Маковицкий взял за повод обеих лошадей и заставил их перепрыгнуть через ручей. Толстой мелкими шажками спускался по склону, держась за ветки кустов, «сошел к ручейку, сидя спустился, переполз по льду и на четвереньках выполз на берег, потом, подойдя к крутому подъему, хватаясь за ветки, стал подниматься». Совершив круг в шестнадцать верст, они вернулись. Лев Николаевич был без сил – взгляд ничего не выражал, борода намокла от снега.
Между тем Булгаков привез письмо от Черткова. Софья Андреевна потребовала сказать, что в нем. Муж отказался, «из принципа». Началась ссора. Снова графиня, качая головой, сверкая глазами, настаивала, чтобы Толстой сказал, правда ли, будто он подписал завещание, в котором лишал ее и детей авторских прав. Снова Лев Николаевич ничего не говорил в ответ – не доверял и боялся. С каждым мгновением чувствовал себя все более и более виноватым перед ней. Но и обязательств перед Чертковым нарушить не мог. Меж двух огней – женщиной, которая олицетворяла всю его жизнь, и человеком, воплощавшим учение, – он теперь не знал, чего хочет сам.
К одиннадцати часам удалился в кабинет, достал дневник: «Плохо кажется, а в сущности хорошо. Тяжесть отношений все увеличивается». Потом перечитал несколько страниц «Братьев Карамазовых». Перед глазами была глава, в которой речь шла о ненависти Дмитрия Карамазова к отцу. Карамазовы или Толстые, кто страшнее? Потом беспокойно задремал, отставив открытую книгу на круглом столе. Он решительно не любил этот роман, не мог «побороть отвращение к антихудожественности, легкомыслию, кривлянию и неподобающему отношению к важным предметам».[675]675
Письмо А. К. Чертковой, 23 октября 1910 года.
[Закрыть] Нет, нет, Достоевский не первоклассный писатель. Как некоторые критики могли сравнивать автора «Братьев Карамазовых» с автором «Войны и мира»? Разве лишь для того, чтобы противопоставить их друг другу? Книга Мережковского абсурдна. Впрочем, пусть говорят о его творчестве, что хотят. Жизнь, вот что важно. Сумеет ли он справиться с ситуацией, в которой оказался? Он помолился, прося помощи у Бога, в половине двенадцатого лег и погасил свечу.
Глава 4
Бегство
В три часа ночи двадцать восьмого октября 1910 года Толстой внезапно проснулся: поскрипывали двери, раздавались чьи-то шаги, шелестело платье, казалось, кто-то зажег в кабинете свечу. Приподнявшись в постели, Лев Николаевич затаил дыхание и прислушался. Вдруг уловил шуршание бумаги и понял, что жена роется в его столе. Подумал с неприязнью: «И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем». Дождался, пока Софья Андреевна ушла, попытался заснуть и не мог – был слишком возбужден. Засветил огонь, сел, свесив ноги. На свет пришла графиня, стала спрашивать, не болен ли, не нуждается ли в чем. Когда он увидел свою надсмотрщицу в ночной рубашке, со спутанными волосами, бледным лицом с горящими черными глазами, подумал, что не сумеет подавить гнев. Но совладал с собой, успокоил ее, посоветовал лечь.
Оставшись один, почувствовал сильное сердцебиение, измерил пульс – 97. И вдруг стало очевидно, что оставаться здесь под двойным наблюдением – Софьи Андреевны, которая настаивала, чтобы он действовал в интересах семьи, и Черткова, требовавшего думать исключительно о душе, – больше не может. Противоречия всей его жизни вдруг стали так ясны во всей своей неприглядности: проповедуя всеобщую любовь, делает несчастной жену, говорит о бедности, живя в роскоши, призывает забыть о себе самом, но записывает малейшее свое недомогание, вместо стремления к Богу – сплошные ссоры и склоки с домашними, отказ от славы выливается в непрестанную переписку, интервью, которые эту славу только умножают, любовь к истине выражается в ежечасном утаивании от близких своих подлинных чувств и намерений. Сколько раз он хотел уйти с того дня семнадцатого июня 1884 года, когда шел по тульской дороге в надежде избавиться от семейного ада. Но всегда возвращался, недовольный и раскаивающийся, к родному очагу. Теперь же чувствовал, что намерение свое исполнит: только уход, бегство избавит от противоречия между помыслами и поступками. Разорвав этот порочный круг, покинув друзей и врагов, в одиночестве сумеет, наконец, обрести необходимый для смерти душевный покой. Нельзя было терять ни минуты. Толстой накинул халат, обулся и прошел в кабинет, где написал Соне прощальное письмо, черновик которого он набросал накануне:
«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.
Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому».
Закончив писать, разбудил Маковицкого: «Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать – только самое нужное. Саша дня через три за нами приедет и привезет, что нужно».
Душан Петрович не выказал ни малейшего удивления, ни на минуту не задумался о том, что человек восьмидесяти двух лет, страдающий обмороками, рискует жизнью, отправляясь в подобное путешествие. На это был прежде всего последователь, ученик, а потом уже доктор. Какая честь помочь Толстому! И вместо того, чтобы успокоить Льва Николаевича, уложить, с благодарностью стал собираться. Старик вернулся к себе, оделся, постучал к Саше. Когда та увидела его одетого, в сапогах, сразу все поняла, но даже не пыталась удержать: радость, вызванная этим решением, перевешивала любые опасения за его здоровье и жизнь. «Я сейчас уезжаю… совсем, – сказал он. – Помоги мне укладываться».
Саша предупредила Варвару Михайловну, и обе, словно тени, проскользнули в кабинет, где их уже ждал Маковицкий. Лев Николаевич прикрыл двери, ведущие в комнату жены, которая, к счастью, заснула. Если она проснется, начнутся крики, объяснения. Старались двигаться бесшумно, переговаривались шепотом, постоянно прислушиваясь. Толстой сам, дрожащими руками помогал паковать вещи.
Через полчаса, когда сборы еще не были закончены, он вдруг заволновался, заявил, что не может больше ждать, и пошел на конюшню, просить, чтобы запрягали лошадей. Сбившись в темноте ночи с дорожки, наткнулся на дерево, упал, потерял шапку, стал искать ее, не нашел, вернулся в дом за фонариком, снова направился к конюшне. Спустя некоторое время, Саша, Маковицкий и Варвара Михайловна тоже вышли. Они с трудом тащили вещи по липкой грязи, когда вдруг увидели огонек – навстречу им двигался Лев Николаевич. Взяв у дочери чемодан, пошел впереди, освещая дорогу. От этого одинокого огонька ночь казалась еще темнее.
На конюшне Толстой пытался помочь кучеру Адриану накинуть постромки на лошадь, но руки не слушались. Без сил, сгорбившись, опустился он на чемодан. Боялся, что их обнаружат, что не удастся уехать тихо. Но все было готово. Саша вскочила на подножку поцеловать отца. «Прощай, голубушка, – сказал он, – мы скоро увидимся».
Выехали. Впереди с факелом в руке – конюх. Ночь была сырая, морозная, пролетку трясло на плохой дороге – решили держать путь через деревню, которая потихоньку просыпалась: в некоторых избах горел огонь, топили печи. Беглец никак не мог отделаться от мысли, что жена пустится за ними в погоню, все время оборачивался. Было так холодно, что Маковицкий надел Льву Николаевичу вторую шапку. «Куда бы подальше уехать?» – спросил его Толстой. Душан Петрович предложил Бессарабию, где жил с семьей московский рабочий Гусаров, истинный толстовец. Оба понимали, что такое путешествие будет слишком длинным и утомительным. Ответа не последовало. Саша была предупреждена, что отец едет в Шамордино, в монастырь к своей сестре Марии Николаевне. А там – как подскажет интуиция и сообразно с обстоятельствами.
На станции Щёкино больше часа прождали поезд. Толстой нервничал, опасаясь появления жены. Наконец, состав прибыл, Лев Николаевич облегченно вздохнул. До Горбачева ехали вторым классом, там пересели на другой поезд в третий. Вагон был переполнен, многие курили плохой табак, дышать было нечем. Писатель вышел на заднюю площадку, но курильщики были и здесь. Перешел на переднюю, и, подняв воротник, сел на свою палку с раскладным сиденьем. «Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее», – сказал он. Пробыв три четверти часа на страшном ветру и холоде, вернулся в вагон.
Некоторые попутчики узнавали Толстого: крестьяне, мещане, рабочие, интеллигенты… Это льстило его самолюбию, хотя он пытался подавить вызванное этим узнаванием радостное чувство. Сидевшему напротив мужику Лев Николаевич сказал, что едет в Оптину пустынь, и тот посоветовал: «А ты, отец, в монастырь определись. Тебе мирские дела пора бросить, а душу спасать. Ты в монастыре и оставайся». Толстой ответил ему доброй улыбкой. В конце вагона рабочий заиграл на гармошке и запел. Поезд медленно полз вперед. Навалилась усталость, отправившийся в путь человек преклонных лет утрачивал чувство реальности.
Без десяти пять прибыли в Козельск, недалеко была и Оптина. Прямо с вокзала отправили две телеграммы – Саше и Черткову, в них говорилось о ближайших планах: Оптина пустынь, Шамордино. Дочери также ушло письмо с рассказом о путешествии и просьбой прислать или привезти книги – «Опыты» Монтеня, второй том «Братьев Карамазовых», «Жизнь» Мопассана, маленькие ножницы, карандаши и халат. «Пожалуйста, голубушка, мало слов, но коротких и твердых», в объяснениях с матерью.
Путешественники наняли бричку и выехали в Оптину. Разбитая дорога, ледяной ветер, черное небо, пробивающаяся сквозь тучи луна, переправа через реку – доктор с беспокойством наблюдал за своим подопечным. «Гостинник о. Михаил с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном». Лев Николаевич пил чай с медом, ничего не ел, попросил стакан, чтобы поставить на ночь ручку-самописку, сделал запись в дневнике и к десяти часам, измученный, но довольный, лег. Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, Толстой остановил: «Я хочу сам себе служить, а вы вскакиваете». С трудом снял их, добавив: «Хочу до крайности ввести простоту».
Лег, закрыл глаза, думая о тех, кого оставил в старом белом доме в глубине березовой аллеи.
В Ясной Поляне в этот день, двадцать восьмого октября, Софья Андреевна встала в одиннадцать часов, оделась и прошла проведать мужа. Его нигде не было. Рассерженная графиня вошла в «ремингтонную» и поинтересовалась у Саши, где отец. «Уехал», – ответила та. «Куда?» – «Я не знаю», отдала ей письмо Льва Николаевича.
Быстро разорвав конверт, прочла первую строчку и, прошептав: «Боже мой!.. Что он со мной делает!..», бросилась сначала к себе, потом в парк. Саша, только что вернувшийся от Чертковых Булгаков, слуги устремились за ней. Ее серое платье мелькало между деревьями, женщина быстро шла к пруду, взошла на мостки, с которых стирали, поскользнулась, упала, доползла до кромки и перекатилась в воду. Беспомощно перебирая руками, погружалась в воду, когда подоспевшие Саша и Булгаков прыгнули в пруд и вытащили ее на берег. Вернувшись в дом, промокшая, продрогшая, несчастная стала умолять Сашу телеграфировать отцу, что мать утопилась.
Дочь едва успела переодеться, как увидела, что Софья Андреевна вновь направляется к пруду. Булгаков со слугами удержали ее. До вечера она неистовствовала от горя, ее нельзя было оставить одну ни на минуту: графиня плакала, била себя в грудь то пресс-папье, то молотком, хваталась за ножницы, ножичек, угрожала выброситься из окна, утопиться в колодце. Обеспокоенная ее состоянием, Саша вызвала из Тулы доктора, который сказал, что это истерический припадок, но никак не психическое расстройство. Но телеграммы сестре и братьям с просьбой приехать как можно скорее были отправлены. Первым, вечером того же дня, прибыл Андрей, сразу осудивший отца. Булгаков и Мария Александровна Шмидт сменяли друг друга подле Софьи Андреевны, которая всю ночь ходила из комнаты в комнату, разговаривала сама с собой, плакала, угрожала…
Пока она сокрушалась, Сергеенко по просьбе Черткова отправился в Оптину пустынь, куда добрался к семи часам утра двадцать девятого октября. Невыспавшийся Толстой – по коридору, мяуча, сновали кошки, в соседней комнате плакала женщина – встретил его с тревогой и беспокойством: что-то творится в Ясной? Узнав, что жена хотела покончить с жизнью, был страшно подавлен, хотя должен бы быть готов к такому повороту событий, хорошо зная ее. Обеспокоило Льва Николаевича и сообщение, что графиня с сыновьями хотят отправить по его следам полицию. К счастью, Сергеенко привез и добрые вести: письмо от Саши, в котором та просила его не падать духом, и послание Черткова, ликовавшего, как будто это была его личная победа.
«Не могу выразить Вам словами, – писал ученик, какою для меня радостью было известие о том, что Вы ушли. Всем существом сознаю, что Вам надо было так поступить и что продолжение Вашей жизни в Ясной, при сложившихся условиях, было бы с Вашей стороны нехорошо. И я верю тому, что Вы достаточно долго откладывали, боясь сделать это „для себя“, для того, чтобы на этот раз в Вашем основном побуждении не было личного эгоизма. А то, что Вы по временам неизбежно будете сознавать, что Вам в Вашей новой обстановке и лично гораздо покойнее, приятнее и легче – это не должно Вас смущать. Без душевной передышки жить невозможно. Уверен, что от Вашего поступка всем будет лучше, и прежде всего бедной Софье Андреевне, как бы он внешним образом на ней ни отразился».[676]676
Толстая А. Л. Отец.
[Закрыть]
Толстой немедленно ответил обоим.
Сначала Саше: «Трудно. Не могу не чувствовать большой тяжести…Очень надеюсь на доброе влияние Тани и Сережи. Главное, чтобы они поняли и постарались внушить ей, что мне с этими подглядыванием, подслушиванием, вечными укоризнами, распоряжением мной, как вздумается, вечным контролем, напускной ненавистью к самому близкому и нужному мне человеку [Черткову], с этой явной ненавистью ко мне и притворством любви, что такая жизнь мне не неприятна, а прямо невозможна, что если кому-нибудь топиться, то уж никак не ей, а мне, что я желаю одного – свободы от нее, от этой лжи, притворства и злобы, которой проникнуто все ее существо. Разумеется, этого они не могут внушить ей, но могут внушить, что все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок, который грозит мне, я избавлю и ее и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться».[677]677
Письмо А. Л. Толстой, 29 октября 1910 года.
[Закрыть]
Письмо Черткову короче, но решимости в нем не меньше: «…возвращение мое к прежней жизни теперь стало еще труднее – почти невозможно, вследствие тех упреков, которые теперь будут сыпаться на меня, и еще меньшей доброты ко мне. Входить же в какие-нибудь договоры я не могу и не стану. Что будет, то будет. Только бы как можно меньше согрешить».[678]678
Письмо В. Г. Черткову, 29 октября 1910 года.
[Закрыть]
Облегчив душу этими признаниями, Толстой продиктовал Сергеенко свои размышления по поводу смертной казни, потом пошел гулять к скиту. Мир и покой этого места показались ему Божьей милостью. Поговорил с монахами. Вернувшись, сказал Маковицкому: «К старцам сам не пойду. Если бы сами позвали, пошел бы». Он «желал видеть отшельников-старцев не как священников, а как отшельников, поговорить с ними о Боге, о душе, об отшельничестве, и посмотреть их жизнь, и узнать условия, на каких можно остаться жить при монастыре», понять, почему отказались они от мирской жизни, сравнить их опыт с собственным. Ведь занимается он, как и старцы, поиском истины. Как хорошо было бы, не признавая официальных церковных догматов, поселиться в келье, вдали от жены, сыновей, учеников, размышляя спокойно…
В час дня с аппетитом поел монастырской еды – ему подали щи и гречневую кашу с постным маслом. Эта непритязательная пища восхитила Толстого.
Через некоторое время выехали в Шамордино. Там, в расположенном в четырнадцати верстах от Оптиной женском монастыре, жила сестра Льва Николаевича Мария Николаевна. В это время ее навещала дочь Елизавета. Женщины встретили Толстого с нежностью, выслушали его рассказ о ссорах, смятении, бегстве и сумели успокоить. С момента ухода из Ясной он думал об этой встрече с какой-то необъяснимой надеждой: Мария была для него единственным свидетелем счастливого былого, отправляясь к ней, он поворачивал время вспять, вдыхал свежий воздух детства. Быть может, это желание погрузиться в воспоминания детства было знаком близкой смерти?
Гость сказал сестре, что был в Оптиной и как ему там понравилось: «Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо, с какой радостью я теперь надел подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела; но поставил бы условие: не понуждать меня молиться, этого я не могу…»
Вечером его вещи отнесли в монастырскую гостиницу, где он заночевал, наутро пошел в деревню узнать, нельзя ли снять избу. И нашел одну. Хозяйка, вдова, просила три рубля в месяц. Зачем куда-то ехать? Проведет последние дни здесь, в Шамордине. Под этими великолепными небесами, где звучит звон колоколов и монастырское пение, его собственное лжеучение будет мирно сосуществовать с православной верой. Приняв решение, Толстой пообещал хозяйке переехать к ней тридцать первого октября.
Пока он лелеял мечту о тихой старости с размышлениями под сенью монастырских стен, в Ясной Поляне собрался семейный совет. Двадцать девятого октября в родном доме собрались все дети Льва Николаевича. Не приехал только Лев – он был в Париже. Вызвала их младшая сестра, в комнате которой они теперь обсуждали взаимные претензии своих родителей. На защиту отца встали только Саша и Сергей, остальные считали, что он поступил плохо, оставив мать, когда сам всю жизнь проповедовал истинное христианство, и настаивали на том, что долг его – вернуться. Саша возражала, что, если отец вернется, непосильный груз ляжет на его плечи. Но ее не слушали, и каждый, кроме Михаила, написал отцу, пытаясь образумить его.








