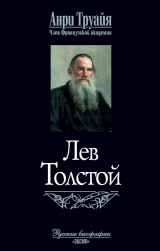
Текст книги "Лев Толстой"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 55 страниц)
Восемнадцатого февраля 1884 года полиция изъяла весь тираж издания «В чем моя вера?» в типографии Кушнерева. Соня надеялась, что муж не станет больше ничего писать в том же роде. Но, ободряемый Чертковым, тот уже работал над следующим произведением – «Так что же нам делать?».
Часть VI
Ненавистная плоть
Глава 1
Попытка святости
Тридцатого января 1884 года графиня Толстая со старшей дочерью отправились на бал, который давал московский генерал-губернатор князь Долгоруков. Тот самый, что тремя месяцами раньше запретил торжества памяти Тургенева именно потому, что Лев Николаевич должен был там выступить. «Долгоруков вчера на бале был любезнее, чем когда-либо, – делилась с мужем восхищенная Софья Андреевна. – Велел себе дать стул и сел возле меня, и целый час все разговаривал, точно у него предвзятая цель оказать мне особенное внимание… Тане он тоже наговорил пропасть любезностей». Полное ликования письмо жены пересеклось с письмом Толстого, в котором тот с гордостью сообщал, что своими руками тачает ботинки для Агафьи Михайловны, чьи именины приходились на пятое февраля. Каждое утро он шел в избу к деревенскому сапожнику и там смиренно трудился под взглядами мужиков, которые одновременно и посмеивались над ним, и побаивались его. В этом грязном, темном углу все представлялось писателю светлым и нравственным, казалось, достаточно лишь войти в обитель труженика, чтобы душа расцвела.
Вернувшись в Москву, Толстой не захотел бросить эти занятия и оборудовал рядом с кабинетом мастерскую: купил кожу и инструменты, сапожник приходил давать ему уроки. В комнате была довольно странного вида печь, призванная одновременно согревать и проветривать помещение. Несмотря на это запах кожи и табака чувствовался еще с порога. Сапожник приходил точно в назначенный час, ливрейный слуга в белых перчатках открывал ему дверь. Гость, на цыпочках, втянув голову в плечи и косясь по сторонам, проходил к графу, садился рядом с ним на табурет. Начиналась работа: они вощили нить, отбивали кусочки кожи, пришивали подметку, набивали каблуки. Склонившись над верстаком, хозяин тяжело дышал, раздражался, ругался, пытаясь, например, вколотить деревянные гвоздики в подошву. «Позвольте мне сделать это, Лев Николаевич», – порой обращался к нему мастер. Толстой ворчал, говорил, чтобы тот делал свое дело, а он – свое.
Друзья и почитатели приходили посмотреть на его труд, удивлялись упорству, с которым он пытался овладеть профессией, в которой преуспеть ему явно не удастся. Скептически настроенным визитерам объяснял, что никто не должен пользоваться плодами деятельности бедняков, не отвечая им тем же. Сапоги, сшитые для Сухотина, тот поставил в своей библиотеке рядом с двенадцатитомным собранием сочинений Льва Николаевича, надписав: «Том XIII». Что до Фета, то, получив в подарок пару ботинок, он прислал сертификат, удостоверяющий, что сделаны они прекрасно под руководством графа Льва Толстого, автора «Войны и мира».
К радостям освоения новой профессии добавилось открытие китайской философии. Он читал Конфуция, Лао-цзы. «Надо составить себе круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лао-цзы, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно», – заносит он в дневник 15 марта. Как хотелось ему, чтобы и жена шла этим чудесным путем! Но она не желала отделяться от толпы, и в минуты, когда была ему очень нужна, приходилось отыскивать ее в мире «других». Помимо всего прочего, несмотря на свои сорок лет, отяжелевшая и поблекшая Софья Андреевна сохранила для него физическую притягательность. Особенно остро он ощущал это во время своих отъездов в Ясную и тогда стремился в Москву, где, утолив желание, вновь погружался в философию.
В начале 1884 года графиня поняла, что опять, уже в двенадцатый раз, беременна. Сетует в письме к сестре, что роды не могут случиться до приезда в Ясную, так как лучше было бы избавиться от этого «кошмара» в одиночестве; что на этот раз едет в Ясную не за радостью, а за мукой, что лучшее время года, связанное с купанием, сенокосом, долгими днями и лунными ночами, проведет в постели под крики новорожденного. Говорит, что порой ее одолевает полная безнадежность, хочется выть, что больше кормить грудью не станет, возьмет кормилицу. Жалуется мужу, который возмущен тем, что Соня дурно отзывается о священных радостях материнства: «Она очень тяжело душевно больна. И пункт это беременность. И большой, большой грех и позор».[511]511
Толстой Л. Н. Дневники, 31 марта 1884 года.
[Закрыть]
Он никогда бы не согласился с ней, потому что полагал потомство единственным оправданием плотской связи между супругами. И если жена отказывается иметь детей, божественный закон уступает место похоти.
Тайком от мужа Софья Андреевна съездила в Тулу к акушерке, чтобы та помогла ей сделать аборт. Узнав фамилию посетительницы, повитуха испугалась и отказалась: «Нет, графиня, кому другому с удовольствием сделала бы, но вам, хоть озолотите, не стану. Случится что – беда!» Тогда Соня попыталась самостоятельно вызвать преждевременные роды – принимала горячую ванну и прыгала с комода. Все было напрасно.
Толстой тем временем каждый день заносит в дневник причины, по которым чувствует себя несчастным в собственном доме: «Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успехи света, музыка, обстановка, покупки, все это считаю несчастьем и злом для них и не могу этого сказать им. Я могу, я и говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты – теперь такая – я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее: прими я участие в их жизни – я отрекаюсь от истины, и они первые будут тыкать мне в глаза этим отречением» (4 апреля), «Бедная, как она [Соня] ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дерганье души – ужасно, не только тяжело, больно, но трудно» (3 мая), «Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко, ясно все стало! Ничего похожего наяву. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть» (5 мая), «Страдаю я ужасно. Тупость, мертвенность души, это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью» (20 мая), «Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Все, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими» (28 мая), «Ужасно то, что все зло – роскошь, разврат жизни, в которых я живу, я сам сделал. И сам испорчен, и не могу поправиться. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно. Не могу бросить куренье, не могу найти обращенья с женой, такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу. Стараюсь» (29 мая), «И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья? И как бы ни были тяжелы (да они легки) условия бродяги, там не может быть ничего, подобного этой боли сердца» (4 июня).
Он стал меньше курить, перестал есть мясо и белый хлеб, пытался справиться с нервами, работая в поле вместе с мужиками. Но достаточно было вернуться в дом, чтобы вновь увидеть позорную жизнь – сидящих в креслах сыновей, прекрасно одетых дочерей, Соню с огромным животом, одутловатым лицом и злобным взглядом. Вечером восемнадцатого июня у них случилась глупейшая ссора из-за продажи лошадей, по поводу которой Толстой не посоветовался с женой. Она повышала голос, и Лев Николаевич вдруг почувствовал, что струна, натянутая в нем, лопнула, надо бежать. Бросившись в комнату, схватил котомку, запихнул в нее белье, предметы туалета и устремился прочь с воплями, что уезжает в Париж или Америку. Дочь Таня видела, как отец уносится по аллее, ведущей к дороге на Тулу. Софья Андреевна, которая вот-вот должна была родить, сидела перед домом, обхватив живот, и рыдала. Илья помог ей встать и проводил в комнаты.
Лев Николаевич в ярости шагал по залитой лунным светом дороге. Недавно в порыве откровенности он поделился со своей слишком измученной женой планом уйти из семьи, взять себе крепкую, здоровую крестьянку, присоединиться к группе каких-нибудь эмигрантов и отбыть в дальние края. Соня не поверила своим ушам. Теперь – ушел один, безо всякой подготовки, да и куда идти, попросту не знал. В пути его начали одолевать сомнения – имеет ли моральное право бросить жену, когда та должна вновь родить? В пылу ссоры он совершенно об этом забыл. И, скрепя сердце, повернул назад. Настроение его становилось все более сумрачным по мере приближения двух башенок на въезде в имение. «Дома играют в винт бородатые мужики – мои молодые два сына. „Она на крокете, ты не видал“, – говорит Таня, сестра. „И не хочу видеть“. И пошел к себе, спать на диване; но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в 3-м часу, она пришла, разбудила меня: „Прости меня, я рожаю, может быть, умру“. Пошли наверх. Начались роды, – то, что есть самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое».[512]512
Толстой Л. Н. Дневники, 18 июня 1884 года.
[Закрыть]
На свет появилась дочь Александра. «Кормилица приставлена кормить. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным… Переделывал свои привычки… Разрыв с женой уже нельзя сказать, что больше, но полный. Вина совсем не пью, чай вприкуску и мяса не ем. Курю еще, но меньше» (июнь 1884 года).
Из Пирогова приехал брат Сергей, и Толстой признался ему, что впервые несчастлив в семье и не знает, как выйти из этой ужасной ситуации. Делится своим настроением в письме к Черткову, прекрасному ученику, понятливому, суровому, усердному, который так удивительно «одноцентренен» с ним. Однажды ночной кошмар поразил его неприятно, словно предчувствие: «Видел сон о Черткове. Он вдруг заплясал, сам худой, и я вижу, что он сошел с ума».[513]513
Толстой Л. Н. Дневники, 12 июля 1884 года.
[Закрыть]
Несмотря на разногласия, Соня по-прежнему притягивала Толстого физически. Порой, глядя на ее крепкое тело, яркий рот, он был готов простить ей все, даже отказ кормить ребенка. Но снова начинались споры, слово за слово, и вот граф уже раздраженно хлопал дверью, а жена бежала за ним, умоляя о прощении. «Она начинает плотски соблазнять меня, – заносит Лев Николаевич в дневник седьмого июля. – Я хотел бы удержаться, но чувствую, что не удержусь в настоящих условиях. А сожитие с чужой по духу женщиной, то есть с ней, – ужасно гадко». И продолжает: «Только что написал это, она пришла ко мне и начала истерическую сцену, – смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать… Она до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей».
Ночью, когда лежал рядом с ней, голова вдруг закружилась от исходившего от нее тепла, запаха ее тела и волос. Как прежде, захотелось ему быть с ней, забыв о взаимных упреках: «Кажется, что в этот день я звал жену, и она с холодной злостью и желанием сделать больно отказала. Я не спал всю ночь… Не знаю, что со мной было: желчь, похоть, нравственная измученность, но я страдал ужасно. Она встала, я все ей высказал, высказал, что она давно перестала быть женой. Помощница мужу? Она уже давно не помогает, а мешает. Мать детей? Она не хочет ею быть. Кормилица? Она не хочет. Подруга ночей. И из этого она делает заманку и игрушку. Ужасно тяжело было, и я чувствовал, что праздно и слабо. Напрасно я не уехал. Кажется, этого не миную».[514]514
Толстой Л. Н. Дневники, 14 июля 1884 года.
[Закрыть]
В какую-то из ночей Соня уступила, и это закончилось для нее осложнениями и болями, которые взволновали мужа. Приехала акушерка и строго-настрого запретила «супружескую близость». Соня жаловалась сестре, что ей позволено только сидеть или лежать, ни в коем случае не ходить и не выезжать, не волноваться, что это ужасно скучно, но выбора нет, что Левочка несколько сбит с толку произошедшим, неприятно поражен ее болезнью, но очень предупредителен по отношению к ней. Льва Николаевича мучило вынужденное воздержание и, надеясь побороть желание разлукой, он ускорил отъезд жены в Москву.
Но, оставшись один в Ясной, не переставая думал о ней, в письмах умолял не слишком доверять московским врачам, которые не должны испортить им жизнь. С удовольствием рассказывал о своем простом и здоровом деревенском существовании, о том, что работает руками и не говорит ни с кем, кроме мужиков, принуждает себя к смирению. Немного раздраженная этой проповедью Соня отвечала:
«Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона… Ты, конечно, скажешь, что так жить – это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо; тогда это дело другое, и могу только сказать: „наслаждайся“, и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колоньи дров, ставлении самоваров и шитье сапог, – что все прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальные занятия. – Ну, теперь, об этом будет. Если б я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: „чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало“. Опасаясь, что ее ирония больно ранит супруга, завершает письмо словами:
„Прощай, милый друг, целую тебя; я вдруг ясно тебя представила, и во мне такой вдруг наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное, и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям“».[515]515
Письмо от 23 октября 1884 года.
[Закрыть]
Толстой был еще под властью этого фимиама, когда на другой день узнал, что доктор Чиж подтвердил опасения и рекомендации акушерки. В смятении Лев Николаевич отвечает:
«Вчера получил твое письмо после посещения доктора, и ужасно мне стало грустно тяжело и главное, сам я себе стал ужасно гадок. – Все я, – грубое и эгоистическое животное. А еще я храбрюсь и осуждаю других, и гримасничаю добродетелью. Не могу тебе выразить, как мне было и есть тяжело. Вчера и во сне все видел себя презирающим себя».[516]516
Письмо от 26 октября 1884 года.
[Закрыть]
«Но что ты, милый друг, так смутился моим нездоровьем? – пишет ему Соня двадцать седьмого октября. – Совсем ты не виноват; оба виноваты, и так случилось, может быть, просто от какой-нибудь механической причины во время родов. Вчера весь день было очень плохо, такая боль и все что-то лило, точно внутри нарыв прорвался, а сегодня вдруг весь день ни капли ничего не было и боль гораздо лучше».
Через два дня она вновь обращается к мужу: «Ах, Левочка! Если бы я писала в те минуты, когда хочу тебя видеть, писала бы все то, что я чувствую, – то разразилась бы таким потоком страстных, нежных и требовательных слов, что ты не остался бы и тем доволен. Мне иногда, во всех отношениях, невыразимо тяжело без тебя… я уже писала тебе, что мне больнее видеть тебя страдающим в Москве, чем не видеть тебя совсем. – А в каком ты чудесном, по-видимому, духе! Твое умиление за музыкой, впечатление природы, желание писать – все это ты самый настоящий, тот самый, которого ты хочешь убить, но который чудный, милый, добрый и поэтический, тот самый, которого все знающие тебя так сильно любят. И ты не убьешь его, как ни старайся».
Пока шел обмен любовными признаниями и нежными советами, Соня ни на минуту не забывала о материальном устройстве их жизни. Лев Николаевич, погруженный в свои размышления, отказывался заниматься счетами, и жена заменила его на этом посту главы семьи. Ее волновало увеличение расходов: выходило, что надо было тратить 910 рублей в месяц, из которых 203 – на обучение детей, 98 – слугам, 609 – на дом и еду. Она написала об этом Толстому, указывая, что и речи быть не может о меньшей сумме, но не знает, как долго удастся укладываться в нее.
Читая эти «донесения», Толстой улыбался: как Соня, будучи его женой, не в состоянии понять, что подобные пустяки не заслуживают внимания: «Не могу я, душенька, не сердись, – приписывать этим денежным расчетам какую бы то ни было важность. Все это не событие, – как, например: болезнь, брак, рождение, смерть, знание приобретенное, дурной или хороший поступок, дурные или хорошие привычки людей нам дорогих и близких, а это наше устройство, которое мы устроили так и можем переустроить иначе и на 100 разных манер. – Знаю я, что это тебе часто, а детям всегда, невыносимо скучно (кажется, что все известно), а я не могу не повторять, что счастье и несчастье для всех нас не может зависеть ни на волос от того, проживем ли мы все или наживем, а только от того, что мы сами будем».[517]517
Письмо от 28 октября 1884 года.
[Закрыть]
Если бы Соня прочитала в записных книжках мужа его планы на жизнь, безусловно, была бы обескуражена, так как касались они не его одного, но всего семейства: «Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных… Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же… себе, т. е. нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход от Ясной Поляны, от 2 до 3-х тысяч. (Оставить на время, но с единственным желанием отдать и его весь другим, а самим удовлетворять самим себя, т. е. ограничить как можно свои потребности и больше давать, чем брать, к чему и направлять все силы и в чем видеть цель и радость жизни…) Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас, и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната, чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых… По воскресеньям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда – все самое простое. Все лишнее: фортепьяно, мебель, экипажи – продать, раздать. Наукой и искусствами заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинаково».
Толстой был в плену своих мечтаний, когда, приехав в Москву 3 ноября 1884 года, вновь увидел большой дом, слуг, учителей, ленивых детей, новую мебель, натертый паркет, белые скатерти. Все это неприятно поразило его, он осознал, что тревоги жены, связанные с семейным бюджетом, не столь необоснованны. На коренное переустройство жизни расчитывать не приходилось, требовалось найти дополнительные источники дохода. Соня полагала, что литература вполне могла покрыть необходимые издержки и давать прибыль наряду с имением. Левочка давно не писал романов, его авторские права приносили все меньше денег. Сам он посмеивался над этим, жена же непрестанно об этом думала.
Вдруг ей пришла спасительная мысль: почему доходами от продажи должны пользоваться другие? И, по примеру вдовы Достоевского, графиня Толстая решила самостоятельно издавать произведения мужа.
План этот поначалу показался Толстому чересчур меркантильным и возмутил его, но Лев Николаевич не мог не признать, что при нынешнем положении дел ничего иного предпринять не возможно. Он мечтал раздать землю мужикам, отказаться от литературных доходов, жить в нищете, и вот, чтобы угодить близким, вынужден продавать душу. Но дабы не окончательно предать свои принципы, предоставил распоряжение своими авторскими правами Соне, как ранее сделал это со всеми делами имения. Так, по крайней мере, казалось ему, он будет избавлен от дьявольских денежных дел. Жену несколько огорчило его желание взвалить на нее то, что сам считает грехом, но в глубине души она была довольна. Впрочем, было оговорено, что речь идет о произведениях, написанных до 1881 года, года его «второго рождения». Но это было лучшее из написанного им: «Война и мир», «Анна Каренина», «Казаки», «Детство», «Отрочество», «Юность», «Севастопольские рассказы»…
Соня прекрасно отдавала себе отчет в том, что ей предстояло сделать и какие доходы это могло принести семье. И сверхзагруженная жена, мать, хозяйка дома отважно пустилась в коммерческое предприятие. Требовался начальный капитал – она заняла десять тысяч рублей у матери и пятнадцать – у Стаховича. В примыкающем к дому строении открылась контора по изданию полного собрания сочинений Льва Толстого. Каждый раз, проходя перед вывеской, хозяин дома хмурил брови: за дверью продавали его самого, того, чьи произведения должны были быть подарком людям. А так как он открыто заявлял о своем пренебрежении материальной стороной жизни, его могли счесть мошенником, который не в силах соотносить свои дела со словами. И все это ради того, чтобы его дочь могла купить новые платья, а сыновья – есть до отвала. Тем временем стопки книг росли, и специально нанятый служащий распространял их по книжным магазинам. Доходы увеличивались…
К счастью, будто чтобы уравновесить унизительные для Толстого последствия этого предприятия, незаменимый Чертков предложил другое, вполне соответствующее принципам его учителя: вдвоем они основали издательский дом «Посредник», задачей которого была публикация для широких слоев населения произведений «высокой» литературы и дешевых изданий. Печатать их и распространять согласился Иван Сытин. Должность секретаря предложили другу Черткова Павлу Бирюкову, молодому, прекрасно образованному аристократу, который отказался от карьеры морского офицера, став последователем Толстого. Тексты по взаимному согласию выбирали Лев Николаевич и Чертков. В первой серии фигурировали рассказы самого Толстого и рассказ Лескова «Христос в гостях у мужика». Затем напечатаны были произведения других русских и зарубежных писателей, переводы античных философов.
Возглавив дело, Чертков проявил себя прекрасным организатором и яростным защитником идей Толстого. Художественные достоинства книг интересовали его гораздо меньше того влияния, которое они могли оказать на народ. Часто в заботе о нравственном содержании требовал, чтобы Лев Николаевич исправил фразу, которая могла бы заронить тень сомнения в простые умы. Этот ригоризм возмущал писателя, но потом он сдавался. Понемногу Чертков становился для него надоедливым воплощением собственных идей. Как бы то ни было, маленькие книжечки «Посредника» по цене пять копеек за штуку продавались тысячами по всей России. Единственной прибылью Толстого стала еще более широкая известность. За шесть лет суммарный тираж изданий превысил двадцать миллионов экземпляров.
Соня не отставала и тоже печатала, издавала, продавала… Но ее затея имела одну только цель – прибыль. В феврале 1885 года, взяв с собой Таню, она отправились в Петербург, чтобы получить разрешение на опубликование в «Полном собрании сочинений» мужа до сих пор запрещенных «Исповеди», «В чем моя вера?» и «Так что же нам делать?». Ей было отказано. Она задержалась в столице, чтобы встретиться с вдовой Достоевского. Жены писателей, ставшие деловыми женщинами, любезно обменялись мнениями, Достоевская, как более опытная, дала несколько советов графине Толстой. За чаем они говорили о себестоимости, распространении продукции, хранении, чистом доходе. Соня с энтузиазмом писала о доходе в 67 000 рублей, который ее собеседница получила за два года, и что та «только 5 % уступает книгопродавцам».
Другая встреча поразила ее еще больше. Когда они с Таней наносили визит тетушке Шостак, неожиданно сообщили о приезде императрицы. Присутствующие были взволнованы, хозяйка, опираясь на палку, поспешила к дверям. Дамы склонились в глубоком реверансе. «Я подошла, – пишет Соня мужу, – и она [Шостак] меня представила императрице, потом позвала Таню, и тут я сказала: „Ma fille“.[518]518
Моя дочь (фр.).
[Закрыть] Признаюсь чистосердечно, что очень была взволнована, но не растерялась».
Любезная и немного утомленная императрица по-французски говорила с Соней, спрашивала, давно ли та приехала и как поживает ее муж, пишет ли. На это графиня отвечала, что пишет исключительно для школ, вроде «Чем люди живы?». В этот момент в разговор с медовой улыбкой вмешалась хозяйка, сообщив, что Толстой сказал своей тетушке Александрин, будто никогда больше не станет писать роман. Императрица повернулась к Соне и прошептала: «Est-ce que vous ne le désirez point? Cela m'étonne».[519]519
Разве вы больше не хотите этого? Это меня удивляет! (фр.).
[Закрыть] Графиня растерялась и, не зная, что ответить, вдруг спросила, явно нарушив этикет: «J'espère que les enfants de Votre Majesté ont lu les livres de mon mari?»[520]520
Надеюсь, дети Вашего Величества читали книги моего мужа (фр.).
[Закрыть] Императрица великодушно кивнула головой и согласилась, что, да, конечно. Пересказывая слово в слово этот диалог в письме к Левочке и детям, Соня ликовала:
«Вижу отсюда, как вы все скажете: „Ну, мамаша, влетела“. Вот, право, последнее, что я ожидала в Петербурге».[521]521
Письмо от 24 февраля 1885 года.
[Закрыть]
Левочка был холоден:
«Действительно удивительно твое счастье. Ты ведь этого очень желала. Мне это было тщеславью лестно, но скорее неприятно. Хорошего от этого не бывает. Я помню, в Павловске был человек, сидевший всегда в кустах и щелкавший соловьем. Я раз заговорил с ним и тотчас по неприятному тону угадал, что с ним кто-то говорил из царской фамилии. Как бы с тобой того же не было… Отчего же ты сказала не то, что я пишу, а что не пишу? Заробела».
Соня вернулась в Москву в последних числах февраля, а двенадцатого марта Толстой уехал в Крым со своим другом Леонидом Урусовым, тульским вице-губернатором, у которого был туберкулез в последней стадии.
Во время путешествия вновь с волнением побывал в Севастополе: на высотах, где стоял сам, и на месте вражеских батарей. Воспоминания о войне пробудили в нем, к его собственному удивлению, энергию и ощущение молодости. Обнаружив полузарытое в землю ядро и предположив, что оно было выпущено с его батареи, радовался, как ребенок. Все, что принадлежало его прошлому – даже война, – было любезно его сердцу, все, что принадлежало настоящему – даже дети, – было в тягость.
Вернувшись в Москву, Толстой сделал пометку в записной книжке:
«Нынче. Думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага… Хоть бы они-то поняли, что их праздная, трудами других поддерживаемая жизнь только одно может иметь оправдание: то, что употребить свой досуг на то, чтобы одуматься, чтоб думать. Они же старательно наполняют свой досуг суетой, так что им еще меньше времени одуматься, чем задавленным работой… Еще думал: об Усове, о профессорах: Отчего они, такие умные и иногда хорошие люди, так глупо и дурно живут? От власти на них женщин. Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жены или любовницы. Все дела решаются ночью».[522]522
Толстой Л. Н. Записные книжки, 5 апреля 1885 года.
[Закрыть]
Ему самому не хотелось становиться жертвой женщины, жертвой ночных решений. И если порой уступал своим чувствам, то быстро брал себя в руки. Все лето в Ясной Поляне он косил, писал сказки и рассказы для «Посредника», доводил до конца «Так что же нам делать?», продолжал «Смерть Ивана Ильича», которая продвигалась кое-как в зависимости от настроения. Приезжали Чертков и Бирюков, Толстому казалось, что они благотворно влияли на его дочерей. Оставшись вновь один, получил в начале октября письмо от Тани, очень разумное, которое потрясло его: в отличие от матери девушка робко еще, но обращалась к идеям отца. Восемнадцатого октября последовал ответ:
«Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться – та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор – отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение – не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то. А это очень жаль. Нынче-завтра придет смерть. За что же мне унести с собой туда одно чувство – к своим – неясности умышленной и отчуждения большего, чем с самыми чужими. Мне очень страшно за тебя, за твою не слабость, а восприимчивость к зевоте, и желал бы помочь тебе».
Когда Лев Николаевич вновь оказался в Москве, улыбок старших дочерей уже не хватало, чтобы примирить с жизнью близких ему людей. Он подозревал Соню в том, что она за его спиной сражается с его теориями, оспаривая их перед детьми. То, что думала о нем жена, она сама написала ему со всей откровенностью, и он сохранил письмо, и каждый раз, перечитывая, холодел, понимая свое поражение: «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я – городская, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, – любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу, и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твое деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры – всё это, как и прежде, при яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что своих детей ты мало полюбил; если бы они были крестьянкины дети, тогда было бы другое».[523]523
Письмо от 9 декабря 1884 года.
[Закрыть]
Нет, эта женщина решительно не понимала его. Она могла заботиться о нем, переписывать его рукописи, заниматься изданием его произведений, мчаться в Петербург, чтобы смягчить комитет по цензуре, но не была союзницей. Больше всего Толстого огорчало, что она стремилась и получала столько средств от публикации его книг. Даже дала объявление в газетах, чтобы привлечь новых подписчиков. Ему становилось стыдно. Но он не мог отрицать, что, как и все остальное семейство, жил за счет этих доходов. Терял всякую надежду, делился с Чертковым: «Дети учатся в гимназиях – меньшие даже дома учатся тому же и закону Божию такому, который будет нужен в гимназиях. Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и все увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что я пишу об этом, не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцов условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня [как] на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писанье. Ах, кабы кто-нибудь в газетах указал ярко и верно и ядовито (жалко за него, а нам как бы здорово было) всю подлость этого… Крошечное утешение у меня в семье – это девочки. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это».[524]524
Письмо от 9—15 декабря 1885 года.
[Закрыть]
Это письмо он не решился отправить, к тому же этому помешали новые события: восемнадцатого декабря вечером между супругами опять вышел спор, Лев Николаевич объявил Соне, что больше так жить не может и хочет с ней развестись, уехать в Париж или Америку. Дети – Таня двадцати одного года, Илья, девятнадцати, Лев, шестнадцати, и Маша, четырнадцати, сидели на стульях в передней на первом этаже, время от времени подходили к двери комнаты второго этажа, прислушиваясь к голосам родителей. Мать не понимала, что произошло, отец кричал, что «если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и больше не везет», «где ты, там воздух отравлен». Никто не мог вмешаться. «Ни тот, ни другая, – напишет Таня, – ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого нежели жизнь: она – благосостояние своих детей, их счастье – как она его понимала; он – свою душу».[525]525
Сухотина-Толстая Т. Л. О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода.
[Закрыть] Немного погодя Соня велела принести сундук и стала укладываться, прибежали дети, стали умолять остаться. Она согласилась, у Льва Николаевича случился нервный срыв.








