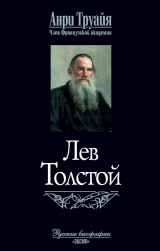
Текст книги "Лев Толстой"
Автор книги: Анри Труайя
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 55 страниц)
Несмотря на эти непрекращавшиеся визиты, он много работал: рассказ «Ходынка», статьи, сотни писем… Отвечал Бернарду Шоу, Ганди, которым искренне восхищался, незнакомым людям, которые критиковали его или просили совета. Место Гусева, по рекомендации Черткова, занял Валентин Федорович Булгаков, образованный и чувствительный молодой человек. Он понравился Толстому своей прямотой и приветливостью. Булгакова тронула даже Софья Андреевна: ему говорили, что она эгоистична, хитра, назойлива, он находил ее простой и понимающей. Восхищение писателем не мешало его беспристрастному отношению ко всем участникам драмы. Он тоже вел дневник: перед своим отъездом из Ясной Сергеенко вручил ему тетради особенного формата, с проложенной между листами копиркой. Следовало ежедневно делать записи химическим карандашом, вырывать копию и посылать ее в Крекшино. Таким образом Чертков рассчитывал быть в курсе событий, зная от верного человека обо всем происходившем в Ясной. Но подобного рода деятельность, больше похожая на шпионаж, не могла понравиться Булгакову, который вскоре прекратил отправлять секретные донесения «начальству», все-таки продолжая вести дневник.
Ему нравилось в Ясной Поляне, место казалось «аристократическим». Каждое утро, завидев Толстого в рубашке из грубого полотна, с руками, заложенными за пояс, с седой, белой бородой и острым взглядом, испытывал почти религиозное чувство радости и страха. Хозяин дома часто приглашал его на прогулки, расспрашивал, живо интересуясь мнением молодого человека двадцати четырех лет, о проблемах, которые волновали его самого. Ненавидя всякие новшества и прогресс, Лев Николаевич обращал внимание на технические новинки: за несколько месяцев он познакомился с граммофоном, механическим пианино, кинематографом. Писатель Леонид Андреев, будучи в Ясной, с восторгом говорил о кинематографе, и Толстой вдруг заявил, что непременно напишет историю, по которой можно будет снять фильм. Наутро за столом вернулся к этой теме, сказал, что думал об этом всю ночь:
«Ведь это понятно огромным массам, притом всех народов. И ведь тут можно написать не четыре, не пять, а десять, пятнадцать картин…»[661]661
Булгаков В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни (дневник).
[Закрыть]
Через несколько дней Лев Николаевич ходил на Киевскую дорогу смотреть автомобильную гонку Москва – Орел. Впервые наблюдал скопление этих дьявольских гудящих машин, проносившихся с шумом, окутанных дымом и пылью. Водители узнавали и приветствовали его. Один остановился, писатель осмотрел автомобиль, покачал головой, пожелал гонщику успеха.
В тот же вечер поделился с Маковицким: «Автомобили нашей русской жизни abstehen… У иных лаптей нет, а тут автомобили (3—12 тысяч рублей)».[662]662
Маковицкий Д. П. Дневник, 1 мая 1910 года.
[Закрыть] На следующий день сказал Булгакову: «Вот аэроплан я, должно быть, уж не увижу. А вот они будут летать, – указал он на горбуновских ребятишек. – Но я бы желал, чтобы лучше они пахали и стирали…»
Второго мая Толстой с Булгаковым и Маковицким уезжали в Кочеты к Сухотиным. Софья Андреевна, которая оставалась дома, помогала ему собраться. На вокзале лихорадочно снимал фотограф. Хотя билеты были куплены в третий класс, пришлось ехать вторым – третий был забит. Лев Николаевич разволновался, решил, что все это подстроила жена или железнодорожное начальство, чтобы он не очень устал, и с досадой повторял, что это незаконно.
Протестовал так сильно, что пришлось освободить для него место в третьем классе, где, устроившись на жесткой лавке, наконец успокоился. С любовью смотрел на проносившиеся мимо пейзажи. Сидя напротив, Булгаков любовался им: «Голова, выражения лица, глаз и губ Льва Николаевича были так необычны и прекрасны! Вся глубина его души отражалась в них. С ним не гармонировали багажная корзина и обстановка вагона третьего класса, но гармонировало светлое и широкое голубое небо, в которое устремлен был взор этого гениального человека».[663]663
Булгаков В. Ф. Лев Толстой в последний год его жизни (дневник), 2 мая 1910 года.
[Закрыть]
Глава 3
Завещание
Первые дни в Кочетах были чудесны: вдали от Софьи Андреевны природа казалась Толстому прекрасной, люди – милыми, заботы – необременительными. Письма, которые он пишет Саше, все еще выздоравливающей у Черного моря, полны радости жизни: гуляет по парку, слушает соловьиное пение, любуется ландышами и не может отказать себе в удовольствии сорвать несколько цветков, душу обуревают чувства – одно лучше другого.
Но скоро на первый план выступают всегдашние сомнения: «Опять мучительно чувствую тяжесть роскоши и праздности барской жизни. Все работают, только не я. Мучительно, мучительно», – записывает Лев Николаевич в дневник четвертого мая. И немедленно делится с дочерью: «Очень, очень у меня нарастает потребность высказать все безумие и всю мерзость нашей жизни с нашей глупой роскошью среди голодных, полуголых людей, живущих во вшах, в курных избах».[664]664
Письмо А. Л. Толстой, 9 мая 1910 года.
[Закрыть]
Даже хорошее обращение хозяев со своими слугами или крестьянами кажется ему сомнительным: не лучше ли неприкрытый деспотизм, чем такой замаскированный? И вот уже Кочеты не приносят былой радости, но тут приезжает Чертков. Они обнимаются со слезами на глазах. В течение последующих восьми дней следуют взаимные признания, прерываемые только фотографическими сеансами – снимает либо сам Владимир Григорьевич, либо приглашенный и одобренный им специалист. Двадцатого мая учитель и ученик расстаются, пообещав друг другу скорую встречу.
Через неделю после приезда Толстого в Ясную вернулась из Крыма Саша – поздоровевшая, бодрая, с коротко остриженными волосами. Ее сопровождала преданная Варвара Михайловна Феокритова. Увидев их, Софья Андреевна вновь почувствовала себя неспокойно – и та, и другая были сторонницами Черткова. Пока дочь энергично стучала по клавишам «Ремингтона», мать слонялась по дому, бранила слуг и страдала, словно не была здесь хозяйкой. Она заявляла всем и каждому, что измучена, что никто ее не бережет, что управление имением – непосильный груз для женщины ее возраста. Толстой возражал, что никто не заставляет ее все это делать, и предложил совершить путешествие, чтобы сменить образ мыслей. В ответ – крик: ее прогоняют, хотят от нее отделаться, со страшными проклятиями она убежала. Слуги – пешие и конные – отправились на поиски, нашли ее в поле довольно далеко от дома, привезли в коляске. Нервы у нее были напряжены, но прощения она попросила.
Немного погодя другое происшествие. Вот уже несколько месяцев имение охранял черкес Ахмет, выглядевший весьма импозантно в своем черном наряде, с кинжалом на боку. Но он был груб, не слишком умен, не давал крестьянам ходить по «хозяйским» лесам и лугам, угрожал, иногда бил, приставал к женщинам. Четвертого июня арестовал мужика по фамилии Власов, бывшего ученика Толстого, который украл дерево, и, связав кнутом, притащил к графине, чтобы та наказала. Узнав об этом, Лев Николаевич ужаснулся – никак не мог смириться, что черкес, состоящий у них на службе, затеял из-за какого-то без разрешения подобранного бревна ссору с крестьянином, которого сам Толстой прекрасно знает и любит. Хозяин дома умолял жену расстаться с Ахметом, само присутствие которого было надругательством над его взглядами, но не был понят. Отказав, она заплакала и записала в дневнике, что муж мучает и себя, и ее. Тот занес в свой дневник: «…сказал Софье Андреевне о черкесе, и опять волнение, раздражение. Очень тяжело. Все хочется плакать». На следующий день почувствовал себя плохо, прервал прогулку, лег. Пульс был слабый, снова возникли проблемы с памятью. Видя Льва Николаевича в столь плачевном состоянии, супруга не стала противиться его намерению поехать на несколько дней в Мещерское, недалеко от Москвы, где теперь поселились Чертковы. Это была неоправданная жертва, и уже согласившись, она спрашивала себя, что за дьявол толкнул ее на этот шаг.
Толстой отправился в путь двенадцатого июня в сопровождении Саши, Маковицкого и Булгакова. Варвара Михайловна осталась в Ясной, чтобы не оставлять графиню одну, присматривать за ней и успокаивать. Увидев Черткова, Лев Николаевич почувствовал себя помолодевшим лет на десять. Неухоженный, разваливающийся дом в Мещерском был полон толстовцев, что не могло не нравиться гостю. Вместе с дочерью и Владимиром Григорьевичем они посетили психиатрическую лечебницу, поговорили с пациентами и даже приглашены были на киносеанс для больных. Саша вспоминала, что показывали глупейшие мелодрамы; в темноте она видела белую рубашку и седую бороду отца, понимала, что зал полон сумасшедших, и ей хотелось убежать оттуда как можно быстрее. Но Толстой был спокоен, делился своими наблюдениями с Чертковым и, казалось, не подозревал никакой опасности. Он часто повторял, что сумасшествие – это чрезмерный эгоизм, эгоизм человека, все мысли которого сконцентрированы только на себе самом и который интересуется лишь собственной персоной. Безусловно, подобные суждения были связаны с его мыслями о Софье Андреевне. В Мещерском писателя ничто не беспокоило, и он мог размышлять о своей семейной жизни с пониманием и терпением. «Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью, – говорится на страничке дневника за двадцатое июня. – Издалека кажется возможным. Постараюсь и вблизи исполнить. Душевное состояние очень хорошее». А жене пишет: «Время летит. И не успел оглянуться, и прошла уж неделя. Какой неделя – остается уж только 5 дней до отъезда. Мы решили ехать 25-го. И в гостях хорошо, и дома хорошо. Как ты поживаешь? Как твои работы?.. До свиданья милая, Соня. Целую тебя». Из соображений дипломатии сначала вылил бочку меда, а потом уже добавил ложку дегтя: в постскриптуме Лев Николаевич сообщает, что Черткову разрешили жить в Телятниках во время пребывания там его матери.
Софья Андреевна плохо переносила одиночество: недовольная тем, что Владимир Григорьевич пригласил ее недостаточно отчетливо, не предложил отдельной комнаты, перебирала в памяти свои претензии, и злость переполняла ее. Узнав, что это «чудовище» Чертков вновь поселится недалеко от Ясной, потеряла всякий контроль над собой и в горячке велела Варваре Михайловне отправить телеграмму Толстому: «Сильное нервное расстройство, бессонница, плачет, пульс сто, просит телеграфировать. Варя». Через несколько часов принесли телеграмму, подписанную самой Софьей Андреевной: «Умоляю приехать скорее – двадцать третьего. Толстая». Саша не считала мать тяжело больной и убедила отца не переносить отъезд, тем более что ожидали прибытия скрипача Михаила Эрденко. Толстой подчинился и ответил жене: «Удобнее приехать завтра днем, телеграфируйте, если необходимо, приедем ночью». Слово «удобнее» возмутило графиню, которая закричала, что узнает ледяной стиль Черткова, и тут же велела Варваре Михайловне отправить новую телеграмму: «Думаю необходимо. Варя».
Потом бросилась к своему дневнику: что с нею? истерика, нервный срыв, грудная жаба, начало безумия? Грусть навалилась в связи с долгим отсутствием Льва Николаевича, который самым отталкивающим образом старчески влюблен в Черткова (влюбляться в мужчин ему было свойственно в юности!) и готов делать все, что тот пожелает. Чертков их разлучает. Этот хитрый, властный и бессердечный человек представляет себя близким другом Толстого и извлекает из этого выгоду. А ей остается безумно ревновать мужа к Владимиру Григорьевичу, чувствуя, что у нее отняли то, чем она жила сорок восемь лет. Ей представляются все возможные способы самоубийства: отправиться в Столбовую и там лечь под поезд, который «удобен» Льву Николаевичу для возвращения; она прочитала медицинский труд Флоринского, чтобы понять последствия отравления опиумом – сначала возбуждение, потом оцепенение, нет противоядия. И Чертков, без сомнения, может найти «удобным» запереть ее в психиатрическую лечебницу… Но убьет ли она себя или будет помещена в лечебницу, враг ее должен понести наказание за свои махинации – ему отомстит один из сыновей…
Приехав домой к десяти часам вечера, Толстой нашел жену в постели, охваченную нервной горячкой. Провел подле нее часть ночи и записал в тетрадь: «Нашел хуже, чем ожидал: истерика и раздражение. Держался не очень дурно, но и не хорошо, не мягко».
Несмотря на все усилия Льва Николаевича избежать новых споров и ссор, Софья Андреевна не упускала случая упрекнуть его в «любви» к Черткову, а после заливалась слезами. Однажды утром бросилась вниз по лестнице, Саша с Маковицким устремились следом и нашли лежащей на полу возле кладовой с пузырьком опиума в руке. «Один глоточек, только один глоточек», – повторяла графиня. Потом поднесла его к губам, как если бы хотела отпить, но не сделала этого. Саша намеревалась вырвать склянку из рук матери, но вдруг почувствовала отвращение.
Дочь была резка, доктор Маковицкий отчитал, и Софья Андреевна, осушив слезы, пообещала в будущем контролировать свои поступки. На другой день, двадцать шестого июня, попросила мужа дать ей прочитать записи в его дневнике, касающиеся событий последнего времени. Тот неохотно согласился. В глаза ей бросилась запись от двадцатого июня: «Хочу попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью». Что это значит? Почему – бороться с ней? Разве сделала ему что-нибудь плохое?
Софья Андреевна отказывалась слушать любые объяснения и потребовала сказать, где дневники за последние десять лет. Припертый к стене, Толстой признался, что у Черткова. Жена попыталась выяснить, где тот хранит их. Лев Николаевич ничего об этом не знал. Она выскочила в сад под дождь, вернулась до нитки промокшая. На предложение Толстого переодеться, запричитала, что не станет, пусть лучше простудится и умрет, что именно этого все желают, что у нее случится удар…
Лев Николаевич не спал всю ночь, на следующий день изучал книгу психиатра Корсакова. На каждой странице находил подтверждение Сониной болезни. «Сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это от того, что для них нет никаких нравственных преград: ни стыда, ни правдивости, ни совести, ни даже страха». Толстой опасался реакции жены на известие о пребывании – пусть временном – Черткова недалеко от Ясной. И все время откладывал разговор. Двадцать седьмого вечером из Телятников вернулся Булгаков с сообщением, что Владимир Григорьевич прибыл туда со своей матерью. Софья Андреевна запаниковала, решила увезти Левочку подальше от его пагубного влияния и попросила мужа сопровождать ее в Никольское к сыну Сергею, день рождения которого близился. Одновременно попросила изменить в рассказе «Нечаянно» описание жены героя, внешне похожей на нее. Толстой покорно согласился, и брюнетка с блестящими глазами стала блондинкой с голубыми.
Отъезд в Никольское назначен был на двадцать восьмое. С утра, когда все в доме еще спали, в Ясной появился Чертков. С собой у него было письмо для Софьи Андреевны, с помощью которого он надеялся смягчить ее: «…я слышал, что последнее время Вы выражаете ко мне неприязненное чувство. Я не могу поверить, чтобы это Ваше чувство ко мне было бы чем-нибудь иным, как временным раздражением, вызванным какими-нибудь недоразумениями, которые при личном свидании очень скоро улетучились бы, как постороннее, наносное наваждение. В лице Льва Николаевича слишком многое – и притом самого лучшего, что у нас обоих есть в жизни – нас с Вами связывает, и связывает глубоко и неразрывно». Чертков собирался вручить послание слуге для передачи Софье Андреевне, когда его из окна заметил Толстой, вышел, обнял и увлек на прогулку. За разговорами с любимым учеником не обратил внимания, что направляются они в сторону Ясенок, а не к станции Засека, куда должно было выехать семейство. Когда Лев Николаевич вернулся домой, жены уже не было. Ему пришлось догонять ее в коляске Черткова, извиняться с видом напроказившего школьника и смириться с дурным расположением духа супруги. Во время путешествия по железной дороге она не спускала с него глаз, когда тот выходил на остановке, чтобы размять ноги, следовала за ним, повторяя, что иначе он останется на перроне.
В Никольском было слишком много народа, чересчур шумно, измученный Толстой сожалел о своем приезде. Хотя графиня, всегда внимательная к тому, что станут говорить окружающие, вела себя в высшей степени любезно. Но по возвращении в Ясную тридцатого июня вновь вернулась к наболевшему – дневникам Льва Николаевича за последние десять лет. Визит Черткова первого июля вывел Софью Андреевну из себя: когда она видела этого человека, кровь начинала кипеть, исчезало всякое понятие о приличиях. Он же оставался холоден и корректен. Вечером, поздоровавшись с хозяйкой дома, Владимир Григорьевич удалился с Толстым и Сашей в кабинет писателя. Та была уверена – эти трое замышляют что-то против нее. Действительно, плотно прикрыв двери, отец, дочь и ученик обсуждали завещание и дневники. Вдруг Саша заметила, что на балконной двери пошевелилась занавеска – там, в темноте, напрягшись, стояла мать, которая босиком, чтобы не шуметь, прокралась к кабинету. Она возмущалась новым заговором против себя.
Лев Николаевич был сражен этим, Саше пришлось увести его в соседнюю комнату. Оставшись с глазу на глаз с Чертковым, Софья Андреевна, с ненавистью глядя на него, потребовала сказать, где дневники и по какому праву он их держит у себя. Владимир Григорьевич уступать не собирался и немедленно перешел в наступление – вся его любезность исчезла в один миг. Он резким тоном заметил, что графиня не имеет права вмешиваться в отношения между учителем и учеником: «Вы боитесь, что я вас буду обличать посредством дневников. Если б я хотел, я мог бы сколько угодно напакостить… вам и вашей семье… но если я этого не делал, то только из любви к Льву Николаевичу!» И, направляясь к двери, добавил, что «если бы у него была такая жена, он застрелился бы или бежал бы в Америку!»[665]665
Дневники С. А. Толстой, 1 июля 1910 года.
[Закрыть]
Софья Андреевна не дала ему уйти и потребовала, чтобы он в присутствии ее дочери и мужа пообещал хранить дневники, пока их у него не потребуют. «Хорошо, – согласился Чертков, – только не вы, а Лев Николаевич». И немедленно составил расписку: «Дорогой Лев Николаевич. Ввиду вашего желания получить обратно от меня дневники ваши, которые вы мне передали для исключения из них указанного мне вами, я поспешу окончанием этой работы и верну эти тетради, лишь только окончу эту работу».
«А теперь, – сказала графиня, – пусть Лев Николаевич напишет расписку, что обещает вернуть дневники мне!»
«Какие же расписки жене, это даже смешно», – воскликнул Толстой. И добавил, склонясь к бороде: «Обещал и отдам».
Но его нежелание сделать это было столь очевидным, что Софья Андреевна записала в дневнике: «Но я знаю, что все эти записки и обещания один обман… Чертков отлично знает, что Льву Николаевичу уже не долго жить, и будет все отлынивать и тянуть свою вымышленную работу в дневниках и не отдаст никому».
Впрочем, все это не помешало ей на следующий день весьма любезно принять матушку Черткова, «женщину очень красивую, возбужденную, не вполне нормальную и очень уже пожилую», которая много говорила о своей душе, своих утратах, своих землях и верила, что в ней живет Христос. Софья Андреевна провела с ней восхитительный день, но что за мучение было видеть Черткова, сидящего на диване рядом с ее Левочкой! Они о чем-то шептались, почти касаясь друг друга коленями. «Меня всю переворачивало, – отметила она в дневнике, – от досады и ревности».[666]666
Дневники С. А. Толстой, 5 июля 1910 года.
[Закрыть] В довершение к этому вечером разговор зашел о безумии и самоубийстве. Графиня вмешалась с просьбой сменить тему. Толстой возразил, что идет обсуждение его статьи. Жена настаивала, что все это нарочно, что разговор возобновляется, стоит лишь ей показаться на пороге, и что можно было проявлять больше такта.
Она не спала всю ночь – перед глазами были Лев Николаевич и Чертков, сидящие бок о бок. Воспаленный ум рисовал картины противоестественной связи седобородого учителя и дородного ученика.
Несмотря на усталость, утром Софья Андреевна была полна решимости продолжать борьбу. Сначала нанесла ответный визит вежливости Чертковой, оттуда направилась в имение Звегинцевой, имевшей связи в Петербурге, просить о содействии – помочь добиться, чтобы Владимиру Григорьевичу вновь запретили появляться в Тульской губернии. Силы ей придавал приезд в Ясную союзника – сына Льва, который придерживался взглядов, противоположных отцовским. Однажды ему удалось поставить Черткова на место, когда тот пытался наставить его на путь истинный. Казалось, все сошлось как нельзя лучше и можно начинать наступление.
В ночь на одиннадцатое июля Софья Андреевна в очередной раз потребовала от Левочки отдать ей дневники, хранящиеся у Черткова, ходила взад-вперед перед комнатой мужа, угрожала, умоляла. Тот заклинал об одном – дать ему поспать. Графиня обвиняла его в том, что он хочет ее прогнать, грозила убить Черткова и, в чем была, бросилась из дома. Ее не было долго, обеспокоенный Толстой пошел будить сына Льва и доктора Маковицкого, чтобы отыскали несчастную. Она лежала на мокрой траве. Сказала, что муж прогнал ее, как собаку, и не вернется, пока он сам не придет просить ее об этом. В негодовании Лев побежал в дом, стал кричать на отца, что тот не имеет права оставаться в тепле, когда его брошенная, оскорбленная жена грозит убить себя. Подталкиваемый сорокалетним сыном, Толстой, скрепя сердце, последовал в сад. Утешив и проводив ее в дом, записал: «Жив еле-еле. Ужасная ночь. До 4 часов. И ужаснее всего был Лев Львович. Он меня ругал, как мальчишку, и приказывал идти в сад за Софьей Андреевной». Совершенно разбитые, супруги заснули, каждый в своей комнате.
Для противодействия гибельному влиянию на мать Льва Львовича в Ясную была вызвана разумная Татьяна Львовна. Двенадцатого июля она приехала с Сухотиным и была поражена, как изменились родители и их взаимоотношения всего за две недели: взгляд постаревшей Софьи Андреевны выдавал полное безумие, Лев Николаевич согнулся, высох, лицо его, когда он не контролировал эмоции, свидетельствовало о совершенно детской растерянности.
Таня, бывшая старше Саши на двадцать лет, хотела, чтобы та с одинаковым пониманием относилась и к отцу, и к матери, но натолкнулась на непоколебимую уверенность младшей сестры в том, что мать симулирует болезнь. Действительно, Софья Андреевна быстро оправилась и вновь перешла в наступление. В день приезда Сухотиных попыталась перетянуть на свою сторону секретаря Льва Николаевича – Булгакова. Когда они сели в коляску, чтобы ехать к Чертковым, графиня, в слезах, повернулась к молодому человеку и попросила, чтобы тот вмешался в историю с дневниками.
«Пусть их все перепишут, скопируют, – говорила она, – а мне отдадут только подлинные рукописи Льва Николаевича!.. Ведь прежние дневники хранятся у меня… Скажите Черткову, что, если он отдаст мне дневники, я успокоюсь… Я верну ему тогда мое расположение, он будет по-прежнему бывать у нас, и мы вместе будем работать для Льва Николаевича и служить ему… Вы скажете ему это?.. Ради бога, скажите!..»
Молодой человек – честный, порядочный – был потрясен: «…слезы и волнение ее были самые непритворные… Признаюсь, меня самого охватило волнение, и мне так захотелось, чтобы какою угодно ценою, ценою ли передачи рукописей Софье Андреевне, или еще каким-нибудь способом, был возвращен мир в Ясную Поляну…»
Прибыли в Телятники. Пока мать великого ученика с церемониями встречала гостью, Булгаков прошел в кабинет Владимира Григорьевича, где был и Сергеенко, и попытался объяснить, что, по справедливости, следует согласиться на просьбу графини. Чертков был вне себя. «Что же, – спросил он, уставившись на него своими большими, белыми, возбужденно бегающими глазами, – ты ей так сейчас и выложил, где находятся дневники?!»
«При этих словах Владимир Григорьевич, совершенно неожиданно для меня, делает страшную гримасу и высовывает мне язык… Собравшись с силами, я игнорирую выходку Владимира Григорьевича и отвечаю ему:
– Нет, я не мог ей ничего сказать, потому что я сам не знаю, где дневники!
– Ах, вот это прекрасно! – восклицает Чертков и суетливо поднимается с места. – Так ты иди, пожалуйста!.. Там пьют чай… Ты, наверное, проголодался… А мы здесь поговорим!..»[667]667
Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни.
[Закрыть]
После консультаций с Сергеенко Чертков заявил, что позиция его остается неизменной. Но Толстой стал сдавать. По его словам, зафиксированным в дневнике одиннадцатого июля, «она [Софья Андреевна], бедная, очень страдает, и мне не нужно усилия, чтобы, любя, жалеть ее».
Была ли с его стороны это просто усталость или желание не отступать от принципа непротивления злу насилием? Но, так или иначе, идеология оправдывала слабость сердца, когда он так нуждался в покое. Четырнадцатого июля Толстой решает: забрать дневники у Черткова, но не отдавать жене, а положить на хранение в банк в Туле, где они останутся до его смерти. Чтобы уточнить свои намерения, пишет Софье Андреевне длинное письмо:
«1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя.
2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке.
3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях – если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни.
Мои отношения к тебе и моя оценка тебя такие: как я смолоду любил тебя, так я, не переставая, несмотря на разные причины охлаждения, любил и люблю тебя. Причины охлаждения эти были (не говоря о прекращении брачных отношений – такое прекращение могло только устранить обманчивые выражения не настоящей любви) – причины эти были, во-1-х, все большее и большее удаление мое от интересов мирской жизни и мое отвращение к ним, тогда как ты не хотела и не могла расстаться, не имея в душе тех основ, которые привели меня к моим убеждениям, что очень естественно и в чем я не упрекаю тебя… во-вторых, характер твой в последние годы все больше и больше становился раздражительным, деспотичным и несдержанным. Проявления этих черт характера не могли не охлаждать – не самое чувство, а выражение его. Это во-2-х. В-третьих. Главная причина была роковая та, в которой одинаково не виноваты ни я, ни ты, – это наше совершенно противуположное понимание смысла и цели жизни. Все в наших пониманиях жизни было прямо противуположно: и образ жизни, и отношение к людям, и средства к жизни – собственность, которую я считал грехом, а ты – необходимым условием жизни. Я в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, ты же принимала это за уступки твоим взглядам, и недоразумение между нами росло все больше и больше…
Оценка же моя твоей жизни со мной такая: я, развратный, глубоко порочный в половом отношении человек, уже не первой молодости, женился на тебе, чистой, хорошей, умной 18-летней девушке, и, несмотря на это мое грязное, порочное прошедшее, ты почти 50 лет жила со мной, любя меня, трудовой, тяжелой жизнью, рожая, кормя, воспитывая, ухаживая за детьми и за мною, не поддаваясь тем искушениям, которые могли так легко захватить всякую женщину в твоем положении, сильную, здоровую, красивую. Но ты прожила так, что я ни в чем не имею упрекнуть тебя. За то же, что ты не пошла за мной в моем исключительном духовном движении, я не могу упрекать тебя и не упрекаю, потому что духовная жизнь каждого человека есть тайна этого человека с богом, и требовать от него другим людям ничего нельзя. И если я требовал от тебя, то я ошибался и виноват в этом.
4) …если в данную минуту тебе тяжелы мои отношения с Чертковым, то я готов не видаться с ним, хотя скажу, что это мне не столько для меня неприятно, сколько для него, зная, как это будет тяжело для него. Но если ты хочешь, я сделаю.
Теперь 5) то, что если ты не примешь этих моих условий доброй, мирной жизни, то я беру назад свое обещание не уезжать от тебя. Я уеду. Уеду, наверное, не к Черткову. Даже поставлю непременным условием то, чтобы он не приезжал жить около меня, но уеду непременно, потому что дальше так жить, как мы живем теперь, невозможно.
Я бы мог продолжать жить так, если бы я мог спокойно переносить твои страдания, но я не могу… Перестань, голубушка, мучить не других, а себя, себя, потому что ты страдаешь в сто раз больше всех. Вот и все. Лев Толстой. 14 июля утро».
Письмо Лев Николаевич дал прочитать жене, та была и обрадована, и обеспокоена – подозревала, что таким образом он пытается лишить ее свободы действий. Чтобы убедить Софью Андреевну, что это не так, Толстой немедленно отправил Сашу к Черткову за дневниками в ответ на его расписку. Дочь уехала, возмущаясь, что отец уступил в главном. Но вернулась она несолоно хлебавши, так как отец забыл написать Владимиру Григорьевичу, чтобы тот немедленно вернул дневники. Лев Николаевич написал, как того хотел Чертков: «Я так был взволнован нынче утром, что, писав вам, думал, что я написал главное: то, чтобы вы сейчас же отдали дневники Саше. Теперь прошу вас об этом. Саша же прямо свезет их в банк. Очень тяжело, но тем лучше. Крепитесь в добре и вы, милый друг».
Саша, с недоброй улыбкой на губах, отправилась во второй раз, а Толстой заносил в дневник: «Не знаю, хорошо ли это, и не слишком ли слабо, уступчиво. Но я не мог иначе сделать».
Когда девушка вновь оказалась в Телятниках, толстовцы собрались за столом под предводительством Черткова. Присутствовали: супруги Гольденвейзеры, Сергеенко, Ольга Дитерихс, бывшая жена Андрея Львовича, свояченица Черткова. Саша села. Они разделили между собой семь тетрадей, отыскивая в них места, могущие скомпрометировать Софью Андреевну, которые, по их предположениям, она могла изъять, завладев дневниками. Как только обнаруживалась критика, свидетельство грусти или неприязни, описание ссоры, с наслаждением переписывали отрывок. Когда с этими «избранными местами» было покончено, собравшиеся отложили перья и переглянулись с чувством выполненного долга. Тетради вновь скрепили вместе, упаковали, и когда Саша садилась в коляску, Чертков, стоя на крыльце, с шутливой торжественностью «троекратно перекрестил ее» этим свертком. По настоянию Льва Николаевича он также отдал ей письмо, в котором выражал сожаление, что истинные друзья учителя не могут прийти ему на помощь, как когда-то ученики Христа, шедшего на Голгофу: «Мне сегодня особенно живо вспомнилось умирание Христа, как Его поносили, оскорбляли, как глумились над Ним, как медленно убивали Его, как самые близкие к Нему по духу и по плоти люди не могли к Нему подойти и должны были смотреть издали, и как все это Он чувствовал и говорил: „Прости им, так как они не ведают, что творят“.








