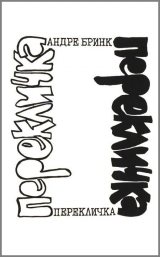
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц)
– Все, что хочешь.
Я затаил дыхание, пораженный столь не свойственной ему вспышкой щедрости.
– И змеиную кожу? – упрямо продолжала она.
– Я же сказал: все, что хочешь.
– А ты позволишь мне выстрелить из твоего ружья, когда мы пойдем на охоту?
Он немного поколебался, но потом все же кивнул.
Она стояла, молча обдумывая ситуацию. В воде плавали и ныряли утки. Я отвлекся, глядя на прозрачные крылья стрекозы. Далеко во дворе кудахтали куры.
– Ну пожалуйста, – сказал Баренд.
– Прекрати это, слышишь! – набросился я на него. – Эстер, не позволяй ему!
– Нет, – спокойно сказала она. – Сегодня я, пожалуй, не буду купаться.
А затем отвернулась и пошла прочь.
Я ожидал, что Баренд сорвет злость на мне, но он лишь отошел в сторону, уселся на корточки и принялся сосредоточенно месить глину. Я готов был заплакать.
Через некоторое время он швырнул комок в воду и сердито обтер руки о штаны.
– Может, ты думаешь, что меня интересует эта глупая девчонка? – спросил он.
После того как мы вечером погасили в спальне свечи, я еще долго лежал, уставясь в потолок, словно собираясь пробуравить его взглядом. Что-то у меня в душе готово было рыдать, сам не знаю отчего. И в то же время я чувствовал безмерное облегчение: ведь Баренду не удалось подчинить ее своей воле. Нет, даже не от этого. Баренд меня мало беспокоил. Я думал об Эстер, только о ней. Я не хотел, чтобы она ходила с нами купаться. То, что произошло днем, как бы пробудило во мне собственнические притязания на нее. Я еще не ощущал своего права владеть ею, просто мне хотелось взять ее под свое покровительство, принять на себя обязательства, требовавшие от меня чего-то гораздо большего, чем я мог в самом деле дать ей тогда.
– Когда ты захочешь пойти выкупаться, я буду следить, чтобы тебе никто не мешал, – сказал я ей на следующий день, а затем почему-то добавил: – Обещаешь?
Она, конечно, не поняла, почему я сказал так. Да я и сам едва ли до конца понимал тогда это. Она бросила на меня быстрый проницательный взгляд и, слегка пожав плечами, ответила:
– Хорошо.
И с того времени, всякий раз когда она шла купаться, я прятался за деревьями так, чтобы не видеть ее, и защищал ее от всего мира. Я ложился на землю и закрывал глаза, пытаясь представить ее себе такой, какой я видел ее прежде: смуглое, барахтающееся в воде тело, гладкое, как у выдры, длинные, мокрые и сверкающие на солнце волосы, липнущие к телу, когда она выходила из воды, ее таинственное и прекрасное девичество. И я ни разу не схитрил, ни разу не попытался подглядывать за ней, даже когда она сама звала меня, предлагая купаться вместе с нею. Ведь я должен был охранять ее и от себя самого, более всего от себя самого. Ведь все мы всего лишь грешная плоть, осужденная на адские муки.
Заботило ли это ее хоть немного? Что я мог бы сказать или сделать, чтобы заинтересовать ее? Я смастерил мебель для ее выструганной из дерева куклы, выдул птичьи яйца и сделал из скорлупок хрупкое ожерелье, собирал для нее бабки. Она спокойно и благосклонно принимала мои дары, держась при этом так, словно ей было все равно, дарю я их ей или нет.
Уже тогда во мне исподволь созрело решение: я женюсь на ней. То, что она переселилась к нам, я воспринимал как знамение свыше. Все, за что я цеплялся в своей непрочной жизни, было отнято у меня. И только благодаря Эстер я еще мог продолжать жить.
Ей я решался доверить то, чего никогда не сказал бы никому другому, даже маме: как я боюсь, как ненавижу эту ферму, как мне хочется уехать отсюда. Я рассказал ей о своем намерении уехать, как только стану достаточно взрослым, уехать далеко в Кейптаун, а то и того дальше. Я стану пастором или в крайнем случае возчиком. Кем угодно, лишь бы не оставаться навеки прикованным к жизненным обстоятельствам, в которых другие чувствовали себя совершенно свободно и естественно, но к которым я никак не мог приспособиться. Она молча слушала меня и кивала, когда я ждал от нее ответа. Она вроде бы доверяла мне, во всяком случае я не ощущал в ней недоверия – и это придавало мне решимости.
Острыми колючками терновника мы расцарапали кожу на запястьях, выдавили капельки крови и, смешав их, скрепили наш договор. Она поцеловала меня холодными сухими губами.
И все же она оставалась отчужденной, этого не могло изменить ничто. А когда ей хотелось побывать на отцовской могиле, она убегала в Хауд-ден-Бек, и даже я не в силах был помешать ей. Мне нравилось касаться ее длинных черных волос, и она с отсутствующим видом терпела мои ласки, но, поняв, сколь сильно я пристрастился к этому, обрезала волосы. В ней всегда было нечто суровое и робкое одновременно. И все же я был доволен. Ведь все это временно: когда-нибудь мы с ней поженимся, и она великодушно откроется мне.
– Когда мы поженимся, я попрошу папу, чтобы он отдал мне Хауд-ден-Бек, – сказал я. – И ты сможешь жить там, где тебе больше всего хочется.
Она уставилась на меня с каким-то странным выражением.
– По-моему, ты говорил, что не хочешь быть фермером?
– Я стану фермером, если ты этого хочешь.
– Ну, до этого еще далеко. Впереди еще много времени.
Но времени оказалось меньше, чем мы думали. Мы ждали, когда ей исполнится пятнадцать. В наших краях это вполне зрелый для замужества возраст.
Накануне дня ее рождения, того дня, когда, как мы условились, я должен поговорить о наших планах с папой, я был так взволнован, что не мог заснуть. Казалось, сердце вот-вот разорвется у меня в груди.
– Что это с тобой? – недовольно пробурчал Баренд. – Ворочаешься, как черт знает кто.
– Баренд, я женюсь.
– Ты что, спятил? На ком ты собираешься жениться?
– На Эстер, конечно. Завтра ей исполняется пятнадцать. Я поговорю с папой.
– А ее ты спросил?
– Разумеется. Уже давно.
Он замолк так надолго, что я решил, что он заснул.
– Баренд, – окликнул я его, не в силах сдержать своего волнения. – Почему ты молчишь?
– Никогда не ожидал от тебя такого.
Бог его знает, что он имел в виду.
На следующий день, когда мы в полдень все вместе сидели за обеденным столом – обычная трапеза: мясо, молоко, хлеб, – папа, окончив молитву, поднял голову и сказал:
– По-моему, Эстер теперь уже вполне взрослая, чтобы выйти замуж.
– О чем это ты? – спросила мама, от удивления снова поставив на стол тарелку, которую только что взяла в руки.
Эстер слегка покраснела и уставилась глазами в стол. Я очень удивился тому, что она успела поговорить с папой раньше меня, но от нее всего можно было ожидать.
– Сегодня утром Баренд рассказал мне о своих планах, – сказал папа, разрезая мясо.
Меня будто ударили ногой в пах, перед глазами все поплыло, голоса звучали словно издалека. Эстер подняла голову и посмотрела на папу, потом на Баренда, затем на меня. Такой бледной я ее еще никогда не видел.
Мой собственный голос показался мне каким-то чужим, когда я попытался вмешаться:
– Но это же невозможно. Мы с Эстер…
– Баренд – старший, – резко оборвал меня папа. – Ему и решать. По правде говоря, мне бы хотелось, чтобы мои сыновья выбирали себе в жены высоких и крупных женщин. Чтобы потомство Ван дер Мерве было сильным и выносливым. Но если Баренд решил…
– А разве у Эстер нет права решать? – спросила мама с несвойственной ей твердостью.
– Я думаю, что Баренд уже поговорил с ней, – сказал папа.
– Конечно, – ответил Баренд. – Разве не так, Эстер?
– Видит бог… – взорвался я.
– В этом доме не поминают имени господа всуе, – мрачно заявил папа. – В любом случае тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись. Ну ладно, что ты скажешь нам, Эстер?
Она снова подняла голову и посмотрела, но не на кого-то из нас, а просто куда-то в пустоту, шевельнула губами, будто пытаясь произнести что-то, и затем вновь опустила голову. Даже смуглость кожи не могла скрыть ее бледности. Если бы она сказала хоть слово, если бы возразила тогда! Я не мог и представить себе, что она отвернется от меня и предаст так же, как и все остальные. Должно быть, сам господь пожелал, чтобы все свершилось именно так. Но если это его воля, то, значит, он разглядел во мне некий чудовищный изъян, достойный предельно жестокой кары.
И все же были времена, когда мир вокруг меня был еще целостным. Ранним утром, скрючившись от холода, мы с Галантом и мамой Розой сидим на корточках вокруг большого железного котла, зачерпывая руками кашу, и глаза у нас слезятся от дыма. Вечерами во время молитвы, мы, пятеро, за длинным столом, освещенным керосиновой лампой, рабы темной кучкой расположились на полу возле кухонной двери, и голос папы рокочет над нами, вылепливая каждое слово, будто фигурки из податливой глины. И поздно вечером, когда лежишь, съежившись, под одеялом, ветер рвет солому с крыши у тебя над головой и мама входит со свечой, чтобы заботливо укрыть и обнять нас, а потом немного посидеть с нами. И на восходе солнца в вельде, когда мы с Галантом идем за овцами в счастливой уверенности, что впереди долгий день и нас никто не потревожит. Баренд, Галант, я и Эстер играем возле запруды и лазаем за бледно-голубыми яйцами в гнезда птиц-ткачей. Эстер, прижимающая свое запястье к моему, чтобы смешать капельки нашей крови. Редкие и потому особенно радостные поездки в Кейптаун с папой…
Папа. Всегда папа. Всегда только он один. Все остальные казались тонкими веточками, которые отламываешь, чтобы подобраться к мощному стволу огромного дерева. Но он всегда сторонился меня. Мне к нему не удавалось пробиться. И в день рождения Эстер самое мучительное оскорбление нанесла мне не она, и не Баренд, а папа, который словно бы окончательно отверг меня своим уничтожающим замечанием: «Тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись». Я всегда пытался преодолеть свое одиночество, господь тому свидетель. Еще совсем маленьким я старался, как умел, помочь маме, но даже она выталкивала меня из гнезда. Я всегда отдавал Баренду все, что он требовал, и даже больше, напрасно надеясь, что он полюбит и признает меня. Все в своей жизни я поверял Галанту, потому что мне хотелось, чтобы он был мне другом. А для Эстер я готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы только она навсегда осталась со мной. Но за всем и за всеми неизменно был папа, единственная вершина, возвышающаяся в долине нашей жизни.
Не было никого сильнее его. Никто не мог с такой легкостью подняться по лестнице на чердак с полным мешком пшеницы на плечах. Никто не мог сравниться с ним в ловкости, с которой он заваливал бычка, холостя его. «Грош цена тому фермеру, который не может превзойти в работе своих рабов», – любил говорить он. И никто – ни на нашей ферме, ни по соседству – не мог тягаться с ним, когда он пахал, сеял, копал землю или что-нибудь строил. Мне хотелось, чтобы он гордился мной. Или хотя бы признал во мне мужчину. Но на его взгляд, я никуда не годился.
– Пора становиться мужчиной, мой мальчик. Мужчиной до мозга костей. А ты все еще маменькин сынок.
– А каким я должен стать, папа? Объясни мне. Что значит быть мужчиной до мозга костей?
– Настоящий мужчина зарастает волосами на груди и не дает никому проходу, как жеребец, – отвечал он, сопровождая свои слова гоготом, похожим на рев быка.
У Баренда выросли волосы на груди. Не такая жесткая подушка волос, как у папы, но достаточно впечатляющая. А я, к моему вечному стыду, так и остался гладким. Даже это было для меня знаком того, что, вероятно, я никогда не смогу соответствовать папиным требованиям. Но я старался. Клянусь господом богом, старался. Я работал на гумне, пока не падал от усталости. Я жал пшеницу вместе со всеми, пока не получил солнечный удар и меня не унесли домой с жаром и помутившимся на много дней сознанием. Когда мы ездили в Кейптаун, я вызывался править волами, стараясь изо всех сил, чтобы он похвалил меня, но в ответ получал лишь снисходительную улыбку, словно я забавлял его. Он ни разу так и не признал во мне мужчину. И когда в тот день он сказал: «Тебя, Николас, это не касается. Так что заткнись», он словно вынес мне окончательный приговор, подтвердив, что я для него полное ничтожество: мужчина без волос на груди.
И все же я однажды попытался снова. Ведь надежда неистребима. (А не была ли и моя женитьба на Сесилии, дочери Яна дю Плесси, еще одной попыткой доказать ему, что я мужчина? Нет, не думаю. Скорее это была попытка спасти свою репутацию, доказать уже не ему, а самому себе свою способность выжить.) Та история со львом приключилась вскоре после дня рождения Эстер, и, может быть, именно поэтому я и решил, что мне представился еще один случай завоевать его расположение. Ко дню ее рождения о звере уже прослышали в окрестностях: до нас доходили вести о разбое, учиненном им то на той, то на другой ферме, об овце, украденной ночью из крааля, о следах, пугающе крупных для леопарда или другого привычного хищника. А потом на одном из папиных пастбищ пропал ребенок-раб: его утащили прямо из хижины, где он спал вместе с другими рабами. В ту же ночь в наших горах раздался львиный рев – звук, от которого трепещешь всем телом. Никогда прежде тебе не приходилось слышать его, но стоит ему впервые послышаться, как в тебе пробуждается какой-то темный инстинкт, который узнает его и откликается на него так, словно ты ожидал его с самого рождения. Одинокий рев, сопровождаемый гулким громыханием, будто сама гора издает эти звуки, а потом ритмичные вздохи, такие низкие, что их едва различаешь, – тайная близость, втягивающая и выбрасывающая тебя, – вдох и выдох. В этом звуке чудилось дыханье самой этой страны, неукрощенной и неукротимой. В наших краях уже бог весть сколько времени не бывало никаких львов, и вдруг на тебе – он снова тут.
Не было надобности посылать за соседями; уже на следующее утро без всяких приглашений весь Боккефельд собрался на охоту. Все, разумеется, поняли, в чем дело, и решили не возвращаться домой, пока незваный пришелец не будет убит. В этом и была вся суть: не просто охота, а свидание со смертью. Не просто лев, но сама смерть, которая вечно рыскала среди нас, даже если мы не всегда умели так ясно распознать ее голос.
И это, конечно, был случай доказать папе, что не следует пренебрегать мной и отвергать меня.
Та утренняя охота словно вобрала в себя все наши прежние погони за хищниками. Мы всегда охотились вместе, идя гуськом по следам леопарда, гиены или рыси; впереди папа, потом Баренд, за ним я, а замыкал шествие Галант. Когда становилось страшно, мы близко придвигались друг к другу, наступая на пятки один другому, и, если папа вдруг останавливался, мы все с разгону наскакивали на него. Однажды мы преследовали раненого леопарда, который уже не раз ускользал от нас, и папа то и дело предупреждал нас, чтобы мы не наступали ему на пятки, но мы были так напуганы, что не обращали внимания на его слова. Пока наконец он не рассвирепел и не заорал:
– Баренд! Если ты хоть раз еще налетишь на меня, я тебя прибью.
Оцепеневший от страха Баренд лишь пробормотал в ответ:
– А я тогда прибью Николаса.
(А я – Галанта.)
И все же, несмотря на раздражение, во время охоты между нами возникала некая близость, общность перед лицом невидимой угрозы, будь то леопард, которого мы потом нашли мертвым в чаще, или кто-нибудь еще. Я ощущал эту близость и в то утро, когда мы с Галантом и горсткой почти невооруженных готтентотов отправились на поиски льва. На несколько часов все, что случилось недавно, казалось, отошло на задний план и стало мелким, незначительным, словно и вовсе не было никакого дня рождения Эстер. Я был так погружен в собственные мысли, что лев напал на нас прежде, чем я успел осознать это. Я непроизвольно вскинул ружье, но курок заело. Убегая прочь без оглядки, я уже почти примирился с неизбежным, как вдруг услышал за спиной выстрел – лев рухнул на меня и повалил на землю. Но даже и тогда я еще не мог поверить, что остался жив. Я продолжал тупо удивляться заурядности смерти, когда Галант схватил меня и начал тормошить, поднимая на ноги. Я был весь в пыли. Глаза у меня слезились. Но ужаснее всего была мысль о том, что я выказал себя трусом. Это было дьявольски нечестно: ведь сплоховало ружье, а не я. А когда я увидел папу и остальных охотников, то оказался не в силах сказать им в лицо всю правду.
– Он чуть не прикончил Галанта, – пробормотал я, тяжело дыша, подошедшему ко мне Баренду. – Я попал в него в самый последний миг.
Но на самом деле я говорил это папе, который стоял сзади, заслоняя от меня солнце своей широкополой шляпой.
Не все ли равно Галанту? Какая ему разница, кто застрелил льва, он или я? Для него это была обыкновенная охота, обыкновенный зверь, не тот, так другой. А для меня это было последней попыткой вновь обрести то, что, как мне следовало бы знать, было невозвратно утрачено.
– Вот те на! – пробормотал папа, поглядев на меня, а потом отвернулся и подозвал охотников. Он наверняка прочел правду у меня в глазах. Никакого сомнения. И его презрительное молчание было куда тяжелее любого громогласного обвинения во лжи.
Все толпились вокруг, что-то возбужденно крича, смеясь и пиная мертвого зверя ногами. Но когда они наконец ушли, мы остались вдвоем, чтобы освежевать льва. Как всегда вдвоем. Галант и я. Если бы он сказал мне хоть что-нибудь! Но его тактичное молчание жгло меня чувством вины более глубоким, чем то, которое можно искупить словами. Я проклинал этого мертвого льва, пока мы сидели на корточках, сдирая с него шкуру: как он смел лежать тут столь жалким, как смел позволять нам делать с ним такое? Ведь всего лишь несколько минут назад он был еще так ужасающе, так чудовищно жив! А сейчас перед нами лежала пыльная туша, грива вымазана грязью, вся в колючках и сухой траве, зубы сточены и сломаны, голова слишком большая по сравнению с костистым телом, глаза подернуты голубоватой пеленой смерти, когти затуплены. Я не хотел даже глядеть на него: быть таким недостойно льва!
Великан, ночное рычащее чудовище, которое могло вдохнуть и выдохнуть тебя с низким звуком непотревоженного дыхания, превратилось в жалкую жертву всего самого скверного в нас. Его смерть стала смертью чего-то, что я хотел обрести, чего-то такого, что желало остаться нетронутым, чего-то важного, что все прочие не посмели бы отрицать. Как побежденные, брели мы обратно к дому, таща его шкуру, словно свидетельство нашего поражения: я впереди, Галант далеко позади. И если бы мне вздумалось вдруг остановиться, то уже никто не наскочил бы на меня сзади. И все же главным моим чувством было нежелание оставаться здесь, невозможность оставаться здесь. Как в тот далекий день возле камня для убоя скота.
Ахилл
 Мне нечего сказать о тех днях. То, что было, было уже потом. Это их забота, не моя. И страна эта их, а не моя. Моя родина там, откуда меня привезли на корабле, где растут деревья мтили, а это очень далеко отсюда. Они пришли с длинными ружьями, чтобы охотиться на нас, как охотятся на зайцев. Стариков пристреливали или загоняли в чащу. Им были нужны только молодые. Они ощупывали нас – руки, ноги, тела, проверяли зубы, мяли груди наших девушек. А потом гнали от одной стоянки до другой, по долгой, длинной дороге, что идет от Зимбабве к морю, туда, где растут пальмы и солнце поднимается из воды. Тех, кто был не в силах идти, бросали на дороге умирать. Остальных грузили на корабли, прикованных цепью друг к другу, ряд за рядом. В цепях не встать и не повернуться. Те, кто умирал, умерли в цепях. А кто не помер, те выжили. Солонина, свинина, кислое пиво. И вот мы в Кейпе, ходячие скелеты, с шатающимися зубами, пропахшие уксусной вонью. Целый месяц вдоволь еды и арака, чтобы откормить нас немного, а потом работа в каменоломне возле Львиной горы, чтобы поднакачать мускулы. И вот уже аукцион и удары гонга.
Мне нечего сказать о тех днях. То, что было, было уже потом. Это их забота, не моя. И страна эта их, а не моя. Моя родина там, откуда меня привезли на корабле, где растут деревья мтили, а это очень далеко отсюда. Они пришли с длинными ружьями, чтобы охотиться на нас, как охотятся на зайцев. Стариков пристреливали или загоняли в чащу. Им были нужны только молодые. Они ощупывали нас – руки, ноги, тела, проверяли зубы, мяли груди наших девушек. А потом гнали от одной стоянки до другой, по долгой, длинной дороге, что идет от Зимбабве к морю, туда, где растут пальмы и солнце поднимается из воды. Тех, кто был не в силах идти, бросали на дороге умирать. Остальных грузили на корабли, прикованных цепью друг к другу, ряд за рядом. В цепях не встать и не повернуться. Те, кто умирал, умерли в цепях. А кто не помер, те выжили. Солонина, свинина, кислое пиво. И вот мы в Кейпе, ходячие скелеты, с шатающимися зубами, пропахшие уксусной вонью. Целый месяц вдоволь еды и арака, чтобы откормить нас немного, а потом работа в каменоломне возле Львиной горы, чтобы поднакачать мускулы. И вот уже аукцион и удары гонга.
Я сбежал с первой же фермы. Меня поймали и выпороли. Я убежал опять. Поймали и выпороли. И еще раз. Потом продали на ферму подальше. Я убежал и оттуда, хозяин поймал и выпорол. Потом снова продали и я снова убежал. Мне выжгли железом клеймо и бросили в Черную дыру в крепости. Рано или поздно перестаешь думать о побеге. Понимаешь, что все без толку. Знаешь, что тебе уже никогда не отыскать дороги на родину, в ту страну, где растут баобабы и деревья мтили с белыми голыми стволами и темной кроной, где ты носил свое настоящее имя, Гвамбе, где возле тебя была твоя мать, где твой отец восседал рядом с другими вождями баконде. Здесь у тебя другое имя – Ахилл. А это значит – раб.
Большой человек купил меня в Кейптауне и привез в своем фургоне в здешние края за горами. Как только мы добрались до фермы, он выпорол всех своих рабов. И меня тоже. Чтобы припугнуть нас. Я больше и не пытался убегать. Тут стареешь до времени. Но ничего не забываешь. По ночам мне снится луна, которая поднимается из темного моря, плещущегося о берег. Эта рана никогда не затянется, она вроде шрама от каленого железа, только ее никому не видно. Но болеть она не перестает ни на миг.
Что они могли знать об этой боли? Они были всего лишь детьми. Баренд и Николас, которым нравилось дразнить меня или прикрикивать на меня, точно я был для них мальчишкой. Галант, которого я учил править фургоном: я видел, что у него ловкие руки, но разве могло мне прийти в голову, что он научится убивать? И маленькая девочка Эстер, которая частенько приходила поглядеть, как мы работаем, и приносила для нас в кармане передника печенье с кухни. Она-то была другой, не такой, как остальные. Но и она была всего лишь ребенком, и что она могла понять?
Эстер
 Ощущение вещей. Плотность ткани. Ворсистый мех, мягко податливый под рукой: папина куртка. Истертая головка глиняной трубки, зазубренный уголок там, где она отбилась, когда он упал. Пугающий металлический холод ружейного ствола. Большая крепкая рука, обхватывающая меня, а потом шелк и щетина лошади, трущиеся о мои ноги.
Ощущение вещей. Плотность ткани. Ворсистый мех, мягко податливый под рукой: папина куртка. Истертая головка глиняной трубки, зазубренный уголок там, где она отбилась, когда он упал. Пугающий металлический холод ружейного ствола. Большая крепкая рука, обхватывающая меня, а потом шелк и щетина лошади, трущиеся о мои ноги.
Кухня, жилая комната, спальня – мой мир. Твердая крышка стола из желтого дерева во время обеда, легко поддающаяся ногтю, гладкая под ладонью. Мягкая на ощупь свеча, плавно сужающаяся к грубому фитилю. Медь, железо, дерево. И запахи: корица, гвоздика, лук, дым горящих дров. Матрас, набитый сеном, приятно покалывающий голую кожу, постепенно прилаживающийся к настойчивому натиску тела.
И мир за дверьми. Деревянная калитка, истертая и засаленная прикосновениями рук. Зазубренность камня, саднящего кожу, рубцы и трещины, тяжесть камня в руке. Сухая трава в птичьих гнездах и великолепные хрупкие скорлупки крошечных яиц, грубая кора ивового сука, царапающего кожу на бедрах. Хлюпанье грязи, обтекающей пальцы рук и ног. Ощущение воды: капли, сбегающие из чашевидной ладони к локтю; прилив холода к лицу, погруженному в горный источник; влага, сладострастно обмывающая окунаемое в нее тело. (Что он делал, таясь и сторожа меня, пока я купалась? Охранял от других или тайком подсматривал сам? Надеясь, что он подсматривает, я предлагала ему, невидимому, больше себя – вот, смотри, мое тело, смотри же, какова я есть, смотри, на что я способна, – чем тогда, когда он бывал рядом, раболепный и заботливый.)
Но дело не только в этом. Важно не просто чувствовать, но и ощущать, когда тебя чувствуют. Не просто ощущать своей кожей поверхность камня, но и знать, как сам камень ощущает тебя. Его тяжесть в руке, его покой, его немота. И как тебя ощущает дождь. Первые капли, их запах и то, как они, оживляя, изменяют запах травы, вереска, лишайника, земли. Дождь, промачивающий тебя насквозь, одежда, в холодном вожделении липнущая, присасывающаяся к твоему телу, как он присосался тогда после укуса змеи; осознание собственного тела, каждого члена, изнуряющее жжение внутри. Я бы так и сидела, если бы мне позволили, опустив голову, поджав ноги, вроде камня, чтобы чувствовать, как дождь омывает меня, проникая в меня, пронизывая насквозь. Гром. Не приходящий сверху из туч, а сотрясающий землю. Желание оставаться босой, неприкрытая нагота желания. Объятые пламенем небеса, громыханье гор, рушащихся вокруг, растворение в простой текучести бытия, создающей и перевоссоздающей меня, влажной и восхитительной. Однажды, когда я сбежала в Хауд-ден-Бек, случилась гроза, первая в моей жизни гроза, в которой мне удалось стать частью ее самой; а когда они нашли меня – почему в таком бешенстве? почему в таком едва ли не отчаянье? – мне уже было не важно, что я так и не добралась до своего дома. Я очистилась, и это главное.
В Хауд-ден-Бек я убегала, чтобы найти его. Меня не взяли на похороны: может быть, никаких похорон и не было, хотя потом там оказалась могила. Как-то раз я даже попробовала разрыть ее, чтобы удостовериться в его смерти, но сломала ногти о твердую землю и оставила эту затею. Все равно это было бессмысленно. Мне нужно было нечто большее, чем просто прикосновение к его куртке и крепким башмакам, чем его отцовский запах: мне нужна была его память обо мне, которой меня лишили. Этот человек явился и избил его, будто беглого раба, отшвыривая меня, пока я, крича от ужаса и ярости, висла на его бьющей руке; потом он увез меня к себе на лошади. А когда я снова вернулась домой, отец исчез. Память исчезла. Так много было всего, чего я о себе не знала: рождение, младенчество, мама. Отец был при этом, он видел это, став хранителем моей целостности, а когда он умер, ее уже было не восстановить. Все, что он знал обо мне, теперь навсегда похоронено вместе с ним. Толкнув к смерти моего отца, этот человек убил часть меня самой – там была мама, тетя Нэн и сам отец, – потеряв его, я навсегда утратила связь с ними.
Привязаться к кому-то – значит потерять ту часть себя, которую придется вверить другому. Нет, никогда. Никто не будет больше владеть мною. Уступить – значит лишиться последней возможности выжить среди них. Мне придется жить с ними, придется – и это я тоже знала – выйти замуж за одного из них. Но я никогда не буду принадлежать им. Принадлежать только себе самой, всегда оставаться отчужденной и неприступной – мой долг по отношению к себе и к тому, что еще осталось от моего отца и продолжало жить во мне. Память, дождь. Быть смытой им в забвение, чтобы вновь воссоединиться с утраченной памятью.
Николаса я подпустила к себе близко. Его кротость и терпеливость были опасны, великодушие его маленьких даров угрожало мне. Было так легко уступить. Но он не мог понять моего ужаса: Ради бога, не дари мне ничего. Не удерживай меня. Не подавляй. Он был так туп в своей покорной назойливости. Я не собиралась издеваться над ним – соблазнить, чтобы потом отвергнуть, – просто у меня не хватало сил вовсе оттолкнуть его. Я нуждалась в его нежности. Если бы он дарил мне ее, не требуя взамен моей жизни. В каком-то смысле я даже предпочитала грубость Баренда, его явную враждебность: он выкручивал мне руки, думая, что я закричу, рвал на мне платье, ожидая, что я заплачу, – но все напрасно. Больше всего ему нравилось досаждать мне, дергая меня за волосы. Эту боль было особенно трудно выносить, даже не просто боль, а унижение, издевательство над тем немногим, чем я еще позволяла себе гордиться. Чтобы прекратить это мучение, мне оставалось лишь одно – обрезать волосы. Трогая в темноте коротко остриженные пряди, я плакала; но я знала, что нанесла ему ответный удар, еще раз утвердила свою неприкосновенность. По сравнению с Барендом Николас был слишком мягким: послушный пес, покорно виляющий хвостом, всегда готовый услужить. Придется выйти за него замуж, другого выхода нет. На что еще надеяться девушке в здешних краях? Да, я согласна, когда мне исполнится пятнадцать. Казалось, что до этого еще так далеко.
Когда Баренд заговорил в то утро, я не поверила своим ушам. Ничего не стоило поймать его на вранье, пристыдить. Я ждала, что Николас вмешается. Первый испуг прошел; глядя на сцену, в реальность которой никак не могла поверить, я удивлялась собственному бесстрастию. Я ощущала даже некую извращенную гордость, которую испытываешь, когда за тебя бьются. Правда, никакой битвы и не было. Николас лишь чуть приподнялся со стула и снова упал на него, сокрушенный одним-единственным окриком этого человека и наглостью Баренда.
Худшей обиды он не мог нанести: не найти в себе смелости даже попытаться. Просто отказаться от меня, пожалев себя самого. Наглое бесстрашие Баренда, посмевшего столь грубо заявить о своих правах на меня – принадлежать ему я никогда не буду, но откуда ему было знать это? – так потрясло меня, что все во мне вспыхнуло, разжигая волнение, подобное тому странному возбуждению, которое я ощущала порой, глядя на брачные игры животных, в которых самцы и самки с откровенным бесстыдством провозглашали и утверждали новую жизнь. Я уставилась на Баренда, на этого человека, его отца, на его удрученную мать, на Николаса, чувствуя, как страсть разгорается во мне с такой силой, что пришлось опустить голову, чтобы они не заметили выступившие на щеках пятна, и сглотнуть ком в горле. Сражения, ожидавшие меня впереди, будут самым надежным способом выжить.
Однажды я уже испытала нечто подобное – хватит у меня смелости признаться в этом? – нечто столь же неожиданное, сколь и необъяснимое. Как-то раз, направляясь в Хауд-ден-Бек, я повстречала Галанта, пасшего в вельде овец. Я знала, что эта встреча не сулит никакой опасности, Галант – единственный, кто не станет мне мешать и не выдаст меня. Мы немного поболтали, он дал мне ломоть хлеба, и я отправилась дальше. Я так торопилась добраться в Хауд-ден-Бек дотемна, с радостью предвкушая ночь, которую проведу там одна (в небольшом очаге горит огонь, вокруг воют гиены и шакалы, молчаливые горы хмуро глядят на звезды, и могила, в которой, если верить им, лежит мой отец), что едва не наступила на огромную змею, заметив ее лишь тогда, когда она вонзила мне в бедро свои ядовитые зубы. Я пнула ее ногой и закричала, зовя на помощь. Когда ко мне подоспел Галант, я уже размозжила ее плоскую треугольную голову, но толстое великолепное туловище еще извивалось в пыли. О господи, я же умираю. Галант повалил меня на землю, разорвал на мне панталоны и надрезал кожу вокруг двойной аккуратной ранки на бедре. И принялся отсасывать кровь, высасывал и сплевывал, бешено и неистово. Он был похож на молочного теленка, и, хотя я была уверена, что, конечно же, умру, я вдруг ощутила горение внутри, растворявшее меня, словно потоки дождя, но дождя теплого, не льющего сверху, а поднимающегося изнутри меня, точно он приник к моим грудям, которые тогда только еще начали набухать – крошечные болезненные бугорки, нежные и упругие.
Он прижал к ранке черный камень, потом приложил какие-то травы, которые, должно быть, дала ему мама Роза, – я ничего не замечала. Когда он перестал высасывать яд, во мне образовалась странная обезоруживающая пустота. Раньше я никогда не стеснялась Галанта, но сейчас не решалась встретиться глазами с его радостным и довольным взглядом. А может, и ему в этот миг вспоминался тот давний вечер, когда мы спустились с гор во время грозы – мне так хотелось остаться там навсегда, но он схватил меня и потащил вниз – и мама Роза сняла с нас одежду и, чтобы мы согрелись, завернула нас в кароссу. Не знаю, сколько времени мы лежали там в темноте – в очаге тлел кизяк, от дыма слезились глаза и щипало в носу. Должно быть, не слишком долго, но мне казалось, словно многие ночи слились тогда воедино и мы тоже как бы слились друг с другом под той грубой кароссой. Было так темно, что я отважилась приласкать его: там не было ни меня, ни его – только два маленьких тела, невидимо прижавшиеся друг к другу; близость, которая не грозила ни опасностью, ни расплатой. Робкое прикосновение, голова, лежащая у него на плече, моя рука, поглаживающая его. Он не шевелился. Я знала, что он не решится ответить на мою ласку, и сделала вид, будто сплю, а когда и в самом деле заснула, по-моему, он рискнул.








