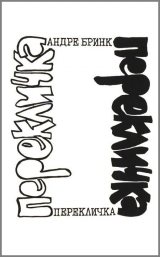
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 31 страниц)
Часть третья

Кэмпфер
 Нет, всегда так быть не может. Сколько раз я утешал себя этой мыслью – и в тот день, когда мы жали пшеницу, и в тот послеполуденный час на гумне. И передо мной возникало лицо матери, постаревшее раньше времени, усталое и измученное. И сколько же раз так будет еще? «Джозеф, – обычно говорила она, – я вижу для тебя только два пути в жизни: ты либо станешь богачом, либо окончишь жизнь на виселице. – И, качая седой головой (она поседела, когда ей не было еще и тридцати), со вздохом добавляла: – Никак не пойму, от кого ты это унаследовал. Уж во всяком случае не от меня». А если это слышал отец, то начинались бесконечные пререкания. Он был родом из Северного Брабанта – мы жили неподалеку от Бреды, – а мать была южанка и родилась на территории Бельгии, и потому бурные перепалки были не редкость в нашем семействе. «Вот подожди, мама, – успокаивал я ее, – я еще докажу, на что способен. Весь мир будет с почтением глядеть на меня». Пожалуй, у нас обоих были причины верить в то, о чем мы говорили, ведь я родился в рубашке, что с самых первых дней давало повод для всевозможных предсказаний моего будущего – как зловещих, так и восторженных. А сам я был уверен лишь в одном – что бы ни сулила мне судьба, она ничего не подарит мне просто так, мне придется приложить усилия, чтобы добиться удачи. Мы были вроде многочисленного помета щенков: сосков для всех не хватало, и можно было выжить, либо перехитрив, либо одолев остальных.
Нет, всегда так быть не может. Сколько раз я утешал себя этой мыслью – и в тот день, когда мы жали пшеницу, и в тот послеполуденный час на гумне. И передо мной возникало лицо матери, постаревшее раньше времени, усталое и измученное. И сколько же раз так будет еще? «Джозеф, – обычно говорила она, – я вижу для тебя только два пути в жизни: ты либо станешь богачом, либо окончишь жизнь на виселице. – И, качая седой головой (она поседела, когда ей не было еще и тридцати), со вздохом добавляла: – Никак не пойму, от кого ты это унаследовал. Уж во всяком случае не от меня». А если это слышал отец, то начинались бесконечные пререкания. Он был родом из Северного Брабанта – мы жили неподалеку от Бреды, – а мать была южанка и родилась на территории Бельгии, и потому бурные перепалки были не редкость в нашем семействе. «Вот подожди, мама, – успокаивал я ее, – я еще докажу, на что способен. Весь мир будет с почтением глядеть на меня». Пожалуй, у нас обоих были причины верить в то, о чем мы говорили, ведь я родился в рубашке, что с самых первых дней давало повод для всевозможных предсказаний моего будущего – как зловещих, так и восторженных. А сам я был уверен лишь в одном – что бы ни сулила мне судьба, она ничего не подарит мне просто так, мне придется приложить усилия, чтобы добиться удачи. Мы были вроде многочисленного помета щенков: сосков для всех не хватало, и можно было выжить, либо перехитрив, либо одолев остальных.
Сколько я себя помню, мы всегда жили, окруженные войной или слухами о ней, армии заворачивали к нам, чтобы промаршировать по нашей песчаной местности, – австрийская, русская, французская, – а на побережье громогласно заявляли о своем присутствии англичане. Сегодня мы были республикой, а завтра уже королевством или частью французской империи. Я вырос, постоянно слыша имена членов дома Оранских, потом им на смену пришел Пишегрю (его имя в нашей семье звучало именем Сатаны, в устах моего отца сообщения о его продвижении от Антверпена до Хертогенбоса и Неймегена превращались в рассказ о путешествии Люцифера, а то, что его солдаты сотворили с матерью и моими сестрами, заперев отца и всех братьев в свинарнике, я понял лишь много лет спустя, хотя и тогда уже смутно подозревал нечто ужасное – ведь Элси после того помешалась и была способна произносить лишь какие-то нечленораздельные звуки); а потом Луи Наполеон.
Мимо нашей крошечной фермы, где жгли древесный уголь, чтобы заработать на жизнь – а жили втринадцатером, – и сажали капусту и турнепс для своего стола и на продажу – девочки приглядывали за домашней птицей и скотом или пряли и ткали вместе с матерью, – все лозунги того времени пролетали, кружась, словно уносимые ветром клочки бумаги, часть которых остается трепетать на изгороди. А поскольку все они были на иностранном языке, то напоминали таинственные напевы в волшебных сказках, которые любила рассказывать мать.
Libert?, egalit?, fraternit?[24]24
Свобода, равенство, братство (франц.).
[Закрыть] – три горячих уголька, тлеющих зимней ночью у тебя в животе, пока ты лежишь вповалку с братьями и сестрами, слушая, как шумит дождь и ветер, или прислушиваясь к тишине падающего снега, а за перегородкой тем временем возятся, посапывают и неожиданно повизгивают свиньи, козы и коровы. Les droits de l’homme. La Commune. Vive la r?publique[25]25
Права человека. Коммуна. Да здравствует республика (франц.).
[Закрыть]. По вечерам мужчины пьют джин за чисто выскобленным столом (мать тем временем сидит в полутьме, штопая и вышивая, – серенькая мышка с покрасневшими веками и вечной каплей, свисающей с кончика носа) и беспечно перебрасываются магическими словами. L’homme est ne libre et partout il est dans les fers[26]26
Человек рожден свободным, и повсюду он закован в цепи (франц.).
[Закрыть]. Отец стучит кулаком по столу так, что позвякивают тарелки: «Черт подери! Можете говорить сколько угодно. Но единственное, что мы видели от этой так называемой свободы, из-за которой все с ума посходили, так это голод и нищету. Весь урожай турнепса расхищен очередной сворой солдат. Месячный запас угля отобрали за просто так. А моя жена и дочери, моя Элси!..» – Тут его голос прерывался, потому что Элси была его любимицей, и раздавался еще один громовой удар кулаком по столу.
И все время, о чем ни пойди разговор, звучит одно и то же имя. Наполеон. Разбивший оковы рабства. Освободитель. «Освободитель моей задницы! – Это снова отец. – Если это называется свободой, то хотел бы я поглядеть, что такое рабство!» И жалобные, тягучие упреки матери: «Герд, только, пожалуйста, не при детях».
Трое моих братьев вступили в армию, и не прошло и года, как двое из них погибли: один – сражаясь за Австрию, другой – за Францию, а третий вернулся домой без ноги. И снова отец ругался на чем свет стоит. «И после этого у них хватает наглости болтать о свободе-равенстве-братстве! – Желтая от табака слюна брызжет изо рта. – Единственное, что мы видели до сих пор, так это их чертовы задницы, а на них любоваться – удовольствие небольшое». – «Ох, Герд, Герд. Ну как ты можешь?»
Я должен был признать, что отец, вероятно, прав. И все же по ночам, когда ветер завывал за окнами, слова эти продолжали звучать у меня в ушах. Libert?. Egalit?. Fraternit?. Я верил, что где-то за этими словами, за всей нищетой и убогостью, турнепсом и углем, лохмотьями и бессмысленным бормотаньем Элси должна таиться потрясающая реальность. Иначе я вообще не находил в жизни ни малейшего смысла.
Дела пошли еще хуже, когда умер отец, – после того, как он, невзирая на протесты матери, решил покинуть дом и вступить в армию, чтобы задать хороший урок Наполеону. К несчастью, в его смерти не было ничего героического: по дороге в Хохенлинден он споткнулся о собаку и нечаянно выпалил себе в грудь.
К этому времени я уже обнаружил – не без помощи дяди Фонса, чахоточного старшего брата матери, – что даже из войны можно извлечь выгоду, если среди всех этих беспорядочно разбросанных и постоянно перемещающихся армий ты ухитришься появиться с контрабандными товарами в подходящее время и в подходящем месте. Вскоре наша деятельность переросла в широко распространившееся движение сопротивления иностранным захватчикам. Мой пока еще невредимый старший брат Дидрик был у нас вожаком. В конце концов было решено в назначенный срок, в среду ночью, взорвать казармы гарнизона, расположенные возле Остерхаута. Но в последний миг отвага покинула меня: вспомнив о своей бедной матери, которая и так уже столько потеряла во время войны, я решил, что ради нее не должен подвергать свою жизнь опасности. А потому упаковал свои пожитки в заплечный мешок и во вторник ночью сбежал из дому, чтобы присоединиться к армии. (Впоследствии я узнал, что их замысел провалился и оба – дядя Фоне и Дидрик – были в числе погибших: весьма очевидное доказательство того, что я не зря родился в рубашке.)
Мать рыдала, когда я разбудил ее, чтобы попрощаться.
– Тебе же еще нет и шестнадцати, Джозеф, – умоляла она, но я поднес палец к ее губам и сказал:
– Я рослый для своих лет, мама. И вполне могу сойти за восемнадцатилетнего. Сейчас самое время позаботиться о благе семьи.
– Мы очень бедны, Джозеф, но всегда ухитрялись сводить концы с концами.
– Моя мать заслуживает лучшей жизни. И кроме того, я всегда говорил тебе, я чувствую это нутром, что мне предстоят великие дела. – И, потрясая кулаком, гордо прошептал ей на ухо – Либерте. Эгалите. Фратерните.
– Ох, Джозеф, Джозеф, – не унималась она, – ты даже не умеешь это правильно произнести.
– Увидишь, мама.
И вот я отправился в путь в полной уверенности, что история распахнется передо мной, как калитка. В ушах у меня победно звучали фанфары. Расступитесь перед человеком, родившимся в рубашке!
Как бы не так, черт подери! Единственное, что выпало мне на долю, – год за годом таскаться по всей Европе, большей частью на своих двоих. Бывалые солдаты вокруг меня с довольными лицами разглагольствовали о великих битвах, в которых им довелось участвовать: Ульм, Аустерлиц, Йена, Лейпциг – названия громкие, как звуки фанфар, – а я вместо ожидаемой славы видел лишь кровь и дерьмо, лохмотья и нищету, дохлых лошадей, усталость, ругань и беспрерывный голод.
Разочаровавшись в обеих воюющих, сторонах, я в конце концов прибился к банде мародеров, которые, подобно стае стервятников, следовали по пятам за армиями, пробавляясь грабежом. А когда был заключен мир и в Вене начались переговоры, я решил отряхнуть с моих ног прах разрушенной и обнищавшей Европы и отправиться в Англию.
Мать была безутешна, но я стоял на своем.
– Я попытал счастья в Европе, – сказал я, стараясь успокоить ее, – но ничего не вышло. Но конечно, все это было не напрасно. Ты не должна терять веры в меня. Я обещаю: ты умрешь богачкой.
– Мне не так уж долго осталось жить, Джозеф. Из одиннадцати детей в живых осталось всего четверо, да и то один калека, а другая слабоумная. А теперь и ты хочешь покинуть меня.
– Ненадолго, мама. Я уверен, что удача поджидает меня за ближайшим углом. Англия полна самых заманчивых возможностей.
Но в Англии, куда после войны возвращались домой солдаты, к иностранцам относились не слишком ласково. Я нанимался на всевозможные временные работы – в угольные копи, на обувную фабрику, даже на картофельные поля, – но это была вовсе не та жизнь, на которую я рассчитывал и которой, по моему мнению, заслуживал, а потому я стал проявлять все больше интереса к рассказам о дальних странах. В то время много говорили об Америке, где, по слухам, прославленные лозунги моей юности уже стали действительностью и все люди обрели свободу и достаток. Были разговоры об Австралии. А еще о мысе Доброй Надежды. Меня привлекло само это название, а когда я добрался до Саутгемптона, там как раз был корабль, который готовился отплыть к югу Африки, что и развеяло мои последние сомнения.
Однако прибытие туда по меньшей мере не предвещало ничего хорошего. Пять дней жуткий ураган не давал кораблю войти в гавань и чуть было не оборвал якорную цепь, а когда нам наконец удалось выбраться на берег, ветер дул с такой яростью, что ты едва мог удержаться на ногах; Гора была скрыта грядой клубящихся белых облаков.
Несколько рабов-малайцев предложили мне приют в лавке краснодеревщика, где они работали, в обмен на большую часть табака и арака, которые мне посчастливилось контрабандой протащить на берег. Благодаря знакомству и ходатайству главного столяра Мустафы мне подыскали работу на винограднике неподалеку от Констанции. «А опыт в виноградарстве у вас есть?» – весьма подозрительно спросил меня владелец фермы Сиас де Вет. «Я обучался этому делу в самых разных областях Франции, – заверил я его. – В Вандее, в Бургундии, в Медоке и многих других местах». Этому научил меня покойный дядя Фоне – упокой господь его грешную душу, – когда я был еще юн и восприимчив к советам: «Если тебя спросят, умеешь ли ты что-то делать, непременно отвечай „умею“. Ведь подучиться всегда успеешь, а стоит ответить „не умею“, и ты упустишь случай». И я действительно вскоре подучился. А если и делал что-то не так, то успокаивал де Вета тем, что, мол, делаю это на французский манер, но ничего не имею против того, чтобы освоить методы, принятые в этой отдаленной колонии. Под конец мы с ним недурно поладили, но больше двух лет я не смог там выдержать. История по-прежнему звала меня. Да и мать не становилась с годами моложе.
Меня снова понесло в армию – и на этот раз совершенно зря. На что было рассчитывать солдату в Кейпе? Вылазки против мародерствующих бушменов и готтентотов, дежурства на крепостных батареях в Кейптауне, походы во внутренние районы страны. Не прошло и двух месяцев, как я дезертировал. Но когда я работал на уборке урожая на одной из ферм неподалеку от Пикетберха, меня вдруг арестовали. Кто бы мог подумать, что они столь серьезно относятся к дезертирству в этой все еще полудикой колонии? Черт бы их всех побрал! В наказание – изрядная порка в Кейптауне, и вдобавок публичная – самое мучительное унижение за всю мою жизнь.
Но по крайней мере теперь я был официально отчислен из армии, снова был свободен и мог попытаться начать новую жизнь. Тогда-то я и повстречал герра Либермана, который, нагрузив товарами три фургона, намеревался предпринять торговую экспедицию во внутренние районы страны.
– Мне нужен проводник и хороший охотник, – сказал он, после того как я ему представился. – Вы знакомы с центральными районами?
– Я знаю их как свои пять пальцев, – уверил его я. – И к тому же вырос с винтовкой в руках.
– В таком случае я беру вас с собой, если только вы не запросите слишком высокого жалованья.
Как только мы условились об оплате, я убедил его вложить несколько сотен риксдалеров, причитавшихся мне после нашего путешествия, в партию товаров, которые я мог бы продать с выгодой для себя. Похоже, что судьба наконец улыбнулась мне.
Мы отправились в путь – через горы к Вармбаду, потом через дикую, необжитую местность к Свеллендаму и еще дальше, к Грааф-Рейнету и Великой реке. Во время всего нашего путешествия я обычно выезжал верхом вперед, чтобы разведать местность, а потом возвращался и указывал дорогу герру Либерману. Доверчивому старику даже в голову не приходило, что я знаю эти места не лучше его самого. Когда мы забрались подальше в глубь страны, торговля пошла очень бойко. Обычно мы останавливались на ночевку на какой-нибудь ферме и на следующий день с утра распаковывали товары и с большой выгодой продавали или обменивали их. К тому же нас неизменно снабжали на дорогу едой и выпивкой. Не раз случалось, что герр Либерман упивался настолько, что не просыпался по нескольку дней подряд, и мне приходилось привязывать его, чтобы он ненароком не вывалился из фургона. А я тем временем мог спокойно обделывать собственные дела. Выяснив, что в этих отдаленных районах можно продавать товары куда дороже, чем возле Кейптауна, я без малейших угрызений совести клал в собственный карман разницу между тем, что герр Либерман рассчитывал получить, и тем, что я получил в действительности. Для него в этом не было никакой потери, а меня каждый заработанный риксдалер все более приближал к вожделенным «Либерте-Эгалите-Фратерните», до которых, как я теперь понимал, можно добраться лишь с кругленькой суммой в кармане.
Я убедил старика пересечь Великую реку и отправиться в Землю кафров. Он поначалу возражал, говоря, что это, мол, противозаконно. Но кто про это узнает? А когда он увидел, сколько слоновой кости можно получить в обмен за смехотворно малое количество дешевых бусин, скобяного товара и табака, его водянистые глаза широко раскрылись, так и застыв в немом изумлении, и он на радостях немедленно напился в стельку.
Мы двинулись обратно, лишь когда у нас вышли все товары. Герр Либерман был вполне доволен путешествием и намеревался возвращаться в Кейптаун. Но я уговорил его еще немного поразмыслить над открывшимися нам возможностями.
– Вы только подумайте, – объяснял я, – имей мы товары, которые пользуются тут спросом, мы привезли бы домой впятеро больше слоновой кости.
– А про какие товары ты говоришь?
– Про бренди и оружие.
– Aber[27]27
Но (нем.).
[Закрыть] Йозеф, ведь нельзя продавать оружие племени коса. Gott im Himmel[28]28
Господь всемогущий (нем.).
[Закрыть], разве ты не слышал, что говорят буры о пограничных стычках?
– Герр Либерман, вы не сможете рассказать мне про войну ничего такого, чего бы я уже сам не знал и не испытал. Мне еще не исполнилось и десяти лет, когда я узнал, что война самое прибыльное дело.
– Но если коса будут вооружены, они вырежут всех буров.
– Лучший способ обеспечить мир – это сделать так, чтобы оба противника были одинаково сильны. Тогда ни один из них не решится напасть первым.
Герр Либерман по-прежнему не испытывал восторга от моего предложения, но благодаря последним каплям бренди, оставшимся у нас в бочонке, мне удалось убедить его поехать в Алгоа Бей, где мы продали слоновую кость и прочие товары. Прибыль была столь ошеломляющей, что старина Либерман немедленно осушил бутылку мерзкого коньяка «Кейпсмоук», который уложил его пластом на пять дней, в течение которых мы продвигались обратно к Великой реке с фургонами, трещавшими под тяжестью закупленных мною ружей и патронов, табака, бренди и скобяных товаров.
На этот раз торговля напоминала бушующий полевой пожар, и благодаря нескольким туземцам, которых я нанял в Алгоа Бей, сделки проходили очень быстро. А когда все железные котелки были раскуплены, мне пришла в голову мысль продавать жадным до них дикарям дробинки на рассаду. «Это не котелки, а семена, – втолковывал я им. – Просто положите зерно в воду, и через месяц начнет расти горшок. Как только он вырастет до нужного размера, можете вытаскивать его из воды». Надо было видеть, с каким восторгом они покупали дробь, платя за каждую дробинку половинную стоимость котелка. Когда мы двинулись в путь, наши фургоны еле тащились, до отказа нагруженные слоновой костью. Чтобы не нарваться на пограничный патруль, о котором меня предупредил один из туземцев, я оставил герра Либермана с фургонами неподалеку от Алгоа Бей и сам отправился вперед, чтобы убедиться в том, что берег чист.
И тут удача вдруг изменила мне. Когда я вернулся туда, где оставил фургоны, я нашел там лишь одного из погонщиков, которому удалось скрыться в кустах при внезапном появлении патруля.
И снова я был вынужден наниматься на фермы, сначала в Сурфельде, в восточных районах, но затем, после войны девятнадцатого года, когда племена коса лавиной пересекли границу, грабя и уничтожая все на своем пути, я вернулся в более безопасные края и обосновался неподалеку от Ворчестера. К тому времени мне удалось скопить небольшую сумму денег, однако фермеры были либо чудовищно скупы, либо не могли предложить приличную плату; чаще всего они нанимали меня, расплачиваясь частью урожая, а когда бывали засушливые годы – что случилось со мной три раза подряд, – я оставался почти ни с чем, еле-еле наскребая денег на то, чтобы прокормиться и прикрыть голую задницу.
Далеко за морем мать тосковала и ждала меня. Быть может, она уже ослепла от слез. А может быть, и умерла. Но единственное, чем я мог похвастаться, была работа на фермах, принадлежавших не мне, а другим. Звучные слова далекого прошлого начали понемногу изглаживаться из памяти, словно их яркие обрывки снова сорвало с изгороди и унесло ветром. Значит, все было напрасно? Великие лозунги революции. Наполеон. Неужели напрасно?
На крошечном участке старого, выжившего из ума сапожника Дальре в Хауд-ден-Беке мне снова блеснул слабый луч надежды. Лето стояло хорошее. Сухое, но хорошее. Пшеница колыхалась на ветру. Меня просили помочь убрать урожай и на соседних фермах. Вновь забрезжила надежда заработать достаточно денег, накупить товаров, погрузить их в фургоны и отправиться в глубинку за слоновой костью.
Впервые в жизни ко мне относились с некоторым почтением. Не старик Дальре и не семейство Ван дер Мерве, смотревшее на меня свысока, как на обычного работника, а рабы. Удивительно, с какой охотой они собирались вокруг меня, жадно слушая все, что мне взбредет в голову рассказать. Еще, еще, еще, подстегивали они меня. В их глазах я был необыкновенным человеком. А может, порой думал я, мое время еще не вышло? Ведь впереди у меня полжизни. Быть может, моя рубашка наконец проявит свою магическую силу, быть может, мать не напрасно ждала меня так долго?
Все эти мысли постоянно вертелись у меня в голове в то лето. Особенно занимали они меня во время путешествия с Николасом в Кейптаун в конце октября и в тот октябрьский день, когда мы убирали на поле пшеницу. И конечно, в тот послеполуденный час, когда мы сразу после Нового года молотили зерно на гумне. Ведь именно тогда, по-моему, все и решилось окончательно.
Галант
 Белый. Ребенок Памелы был белый.
Белый. Ребенок Памелы был белый.
Николас
 Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек – «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья – весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное – пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Я испытывал почти что облегчение, отъезжая под безжалостно палящим ноябрьским солнцем от Рие-Витценберха, поднимаясь по склонам полуразрушенных гор Скурве, чтобы снова подставить лицо летнему ветру нашего высокогорья, медленно продвигаясь вперед на фургоне, который едва не разваливался на ходу, как всегда и бывает на обратном пути из Кейптауна. Я сидел на козлах, Кэмпфер возле меня, старый Мозес размахивал длинным кнутом, а малыш Рой вел волов. Да, облегчение, потому что скоро уже не нужно будет гадать, не случилось ли дома чего-нибудь в твое отсутствие (теперь была надежда, что после Нового года мы обретем наконец желанный покой), а кроме того, и потому, что поездка была тоскливой и унылой, ведь моим единственным попутчиком был Кэмпфер, который все время сидел, погруженный в собственные мысли, лишь иногда бормоча что-то на непонятном языке с таким видом, будто на него снизошел святой дух. И все же я испытывал не только облегчение, но и уже знакомую гнетущую тоску. Всю дорогу из Кейптауна меня не покидало странное ощущение, будто я повторяю путь моих предков: именно по этой дороге первый Ван дер Мерве ехал из Кейптауна к Родесанду и долине Ваверен; а после ссоры с ланддростом мой прадед вместе со своими попутчиками пересек Витценберх, добрался до Боккефельда и оказался в числе первых, кто сумел одолеть эти труднопроходимые горы: тут он застолбил, проскакав целый день в седле, огромный участок земли, который после стычки с агентами Ост-Индской компании окрестил фермой Хауд-ден-Бек – «Заткни-Свою-Глотку»; а через пятьдесят лет после того, как семья уехала отсюда и перебралась в Свеллендам, отец вернулся в здешние края, чтобы взять в свои руки Хауд-ден-Бек, Эландсфонтейн и Лагенфлей. И вот теперь я ехал дорогой моего рода, испытывая и удовлетворение, и страх. Ведь я был не только наследником моих предков, но и их жертвой. Я не мог отречься от этого наследия и дать волю собственным склонностям: меня лишили свободы выбора не только кейптаунские власти, которые сделали все возможное, чтобы установить границы и направление моей жизни, но и вот эта тесная долина, эти дикие горы и люди, живущие меж гор, моя семья – весь окружающий мир, который словно Объединился против меня, стремясь очертить пределы моего существования. Я возвращался сюда, к моей жене и детям, по той простой причине, что был не волен делать что-то иное – пленник этой земли, на первый взгляд открытой и доступно-податливой, но на самом деле сокрушающей тебя в своих крепких объятиях.
Из-за отсутствия развлечений и разговоров мне хватало времени для размышлений по дороге туда и обратно. Рой обычно держался особняком, с улыбкой на нахальной рожице и настороженными, как у суслика, глазами, от Мозеса я не мог добиться ничего, кроме коротких кивков, подтверждающих все, что бы я ни сказал, а Кэмпфер лишь односложно отвечал на заданные вопросы, и не более того, – хотя я уже давно приметил, что он порой бывал весьма болтлив, когда оставался наедине с рабами.
Неужели я действительно неудачник? Но что именно называется неудачей? Человек неизбежно умаляет то, чем, как ему кажется, он обладает, сама жизнь – это нечто беспрерывно урезающее тебя, ограничивающее твои возможности. Единственное, на что я мог рассчитывать, – это на уважение соседей. И даже не уважение, а хотя бы признание и симпатию. Но и этого мне так и не удалось добиться. Родители потеряли веру в меня с тем большим основанием, что я хозяйничал на исконно родовой ферме. Мой брат презирал меня, называя слабаком. Моя собственная жена не считала меня настоящим мужчиной, поскольку я не мог произвести на свет сына да к тому же бегал за черными женщинами. Эстер давно и решительно отвергла меня. А по взглядам и ответам Галанта я видел, что и он относится ко мне пренебрежительно: а ведь мы были когда-то так дружны. Кто еще оставался? Бет, которая по-прежнему ходила за мной по пятам, явно поджидая случая, чтобы отомстить мне за смерть сына? Памела, которой я не решался поглядеть в глаза, когда она входила в дом со своим белым ребенком?
Я старался не замечать злобного, хотя и молчаливого упрека Сесилии и ее отношения к ребенку Памелы. Неужели господь не мог удалить его с моих глаз? Но это, несомненно, было его карой мне, карой, каждодневно налагаемой заново, чтобы вынудить меня к предельному смирению. Карой невыносимой и не оставляющей мне иного выхода, кроме как окончательно покориться его воле. Бывали дни, когда я готов был просить Сесилию отослать эту женщину обратно в Бюффелсфонтейн, но я понимал – и Сесилия странным образом словно соглашалась со мной, – что мой грех всегда должен оставаться у меня перед глазами.
И только дети были еще со мной. Хелена. Маленькая Эстер. Катрина. Лишь они не задавали никаких вопросов и не судили меня. Держа двух старших за руки, а младшую на плечах, я мог целыми днями гулять с ними по ферме. Маленькие ручки, с любовью обнимающие меня за шею, горячие влажные поцелуи, словно тебя лижут щенята, запах солнца, пыли и смятых цветов. Невинность хрупкая и мимолетная. Ведь я знал, что стоит приехать учителю, а этого ждать уже недолго, и возникнет неизбежное отчуждение. Собственно, оно и так уже чувствуется. Сесилия постепенно брала верх, заявляя, что «неприлично» девочкам целыми днями повсюду разгуливать с отцом. Еще немного – и они объединятся с ней против меня и моего мужского мира и окончательно уйдут в ее материнский мир. Постоянно обостряющееся чувство одиночества. Вначале все кажется таким цельным. Любовь и забота матери, внушающая благоговение сила отца, расположение брата, доверие друга, который делит с тобой все. Но как скоро все это было отравлено, как безжалостно уничтожено! Ты все еще маменькин сынок. – Сегодня утром Баренд рассказал мне о своих планах. – Такое я могла ожидать от Баренда. Но ты! Мне стыдно за тебя. – Огромный лев с черной развевающейся гривой, у тебя на глазах превратившийся в жалкую грязную тушу: навеки загубленная свобода. Единственным, что мне помогало теперь выжить, была, как это ни странно, ферма, та самая, которая так угнетала меня прежде. И вот мы возвращаемся туда, каждый погруженный в собственные горькие размышления, – Рой, старый Мозес, Кэмпфер и я.
В этом году мне не хотелось ехать в Кейптаун, сама мысль о предстоящей поездке раздражала меня. И когда март и апрель уже прошли, а я все никак не мог собраться – бобы созрели нынче поздно, и еще нужно было расчистить и вспахать землю, – я молча решил отложить поездку до следующего года. Но продуктов скопилось слишком много – мыло, кожи, шкуры, бушевый чай, яйца, пух, солонина, – да и Сесилия не оставляла меня в покое: «Дети подрастают, Николас. Я не желаю, чтобы мои дочери росли как дикарки. Нужно подыскать в Кейптауне учителя. Хелене пора начать учиться». И когда в октябре наступила короткая передышка перед близящимся неистовством жатвы и молотьбы, которое обрушит на нас яростное лето, мне все же пришлось поехать.
– Ты уже давно приставал ко мне, чтобы я взял тебя в Кейптаун, – сказал я Галанту. – Теперь этот случай представился.
Но к моему удивлению, он отказался ехать.
– Лучше я останусь дома. Я уже был в Кейптауне и видел все, что хотел повидать.
– Не понимаю тебя, Галант.
– Если ты прикажешь мне ехать, я поеду, – как всегда мрачно заявил он. – Но если я вправе решать, то лучше останусь дома.
Его отказ огорчил меня и испортил мне настроение. Ведь я надеялся, что если он поедет со мной, то за долгую дорогу нам, быть может, удастся вернуть что-то утерянное с той давней ночи в горах. Теперь это было исключено. Но почему уже в те дни я думал об этом как о «последней» возможности?
В конце концов я постарался убедить себя в том, что, может, оно и к лучшему, что он останется дома. Пожалуй, нам даже нужно расстаться на некоторое время после всего случившегося в ту зиму, чтобы разобраться в себе самих. Да и ферма будет в надежных руках, что там ни говори. Это, по-моему, было самым главным в наших отношениях – я по-прежнему безоговорочно доверял ему. По общему мнению, он сильно переменился после своего возвращения. Не скажу, что он стал более открытым, просто утратил свою былую тупую непреклонность, казалось, что благодаря путешествию в Кейптаун он возмужал и остепенился. А может быть, мы просто научились жить рядом. Мы оба стали старше и, должно быть, немного мудрее, мы приспособились и притерлись друг к другу. И вот я пошел к старику Дальре и попросил его одолжить мне на месяц Кэмпфера. Дальре, конечно, не мог отказать мне, поскольку жил тут исключительно нашей милостью. С папиного пастбища в горах я прихватил старого Мозеса и еще взял малыша Роя, чтобы тот вел волов.
– Постараюсь вернуться поскорее, – уверил я Сесилию, которая, казалось, была довольна, что я наконец уезжаю. Если бы она накинулась на меня открыто, думал я, но ее смирение было воистину непостижимо. Она всегда была права, всегда безупречна в исполнении своего долга, несомненно полагая, что господь дарует ей свое одобрение и утешение за то, что она покорно следует его неисповедимой воле. Мне не хотелось бы роптать, но такая жена самими своими достоинствами весьма затрудняет жизнь собственного мужа.
Продукты были распроданы очень быстро и с гораздо большей прибылью, чем в прошлые годы, и вскоре я взялся закупать товары по списку, составленному Сесилией: веревки, ситец и шляпы, сахар и специи, а для себя самого – два ружья, патроны, железо, деготь и смолу. Мне посчастливилось найти и подходящего учителя – мужчину средних лет по имени Ферлее, вполне благопристойного, хотя и несколько занудного, женатого на девушке, которой едва минуло пятнадцать, и жившего в доме ее родственников, где недавно родился первенец. Из рассказов родственников и по рекомендательным письмам я выяснил, что он работал учителем по найму в восточных районах, три года провел в окрестностях Грааф-Рейнета, а потом перебрался в Стелленбос. Родственники его жены настаивали, чтобы молодые оставались в Кейпе, но он хотел снова отправиться в глубь страны, а потому мы уговорились, что он начнет преподавать в Хауд-ден-Беке с февраля, когда мы уже уберем урожай и когда их ребенка можно будет перевезти на новое место, да и Хелена к тому времени немного подрастет.
Я познакомился с ним на собрании в Кейптауне – одном из многих, как мне сказали, случавшихся за последние месяцы, – на котором обсуждался вопрос о рабах. Недовольство, охватившее всю колонию, казалось, достигло точки кипения. Я был рад, что мне довелось присутствовать там и воочию увидеть, как обстоят дела. Ведь слухи всегда все перевирают.
Большинство собравшихся были из Кейптауна, но немало было и фермеров-виноградарей из окрестностей города, из Стелленбоса и еще более дальних мест, даже из Свеллендама. – В конце зала примостились кучкой рабы, среди них я заметил и Мозеса, вечно сующего во все свой нос. Было заявлено – и слова эти были встречены бурными аплодисментами, – что с нас довольно туманных слухов и всевозможных отговорок, нам необходима полная ясность. За неделю до того к губернатору была послана депутация, и теперь к нам явился с ответом чиновник, что само по себе было весьма примечательно, так как лорд Чарлз слыл человеком, которого нельзя ни в чем убедить. Чиновник обращался к нам с демонстративным почтением. Вначале его речь чуть было не заглушили крики разбушевавшейся толпы, но, когда стало ясно, что он настроен вполне благожелательно, ему позволили продолжать без помех. Он привел с собой молодого переводчика-готтентота – пандура, очень гордого своей яркой формой и в то же время жутко напуганного всем этим сборищем разъяренных буров, что в сочетании производило довольно комичное впечатление.








