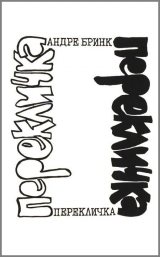
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 31 страниц)
– Я-то знаю, когда придет мой час, – бросил он мне через плечо.
Я обернулся к Галанту, потому что на этот раз он меня крепко огорчил.
– К чему дразнить его так? – сказал я. – Сам знаешь, чем это кончается.
– Он меня больше не тронет, – ответил тот. – Разве он хоть раз ударил меня с зимы?
– В один прекрасный день у него лопнет терпение.
– Нет, он знает, что близится наше освобождение. Разве зря он приставал к тебе со всеми этими разговорами о возвращении в твою страну? Просто он все знает. И стал теперь куда осторожнее.
– С чего ты так невзлюбил его? – спросил я. – Он добр к нам. Он дает нам еду, а зачем, как ты думаешь? Чтобы мы работали. А кто не работает, заслуживает порки. Баас и сам работает не меньше нашего.
– Эй, принесите-ка мне пук травы! – насмешливо крикнул Галант. – Пора заткнуть этого старика. По-моему, он говорит не ртом, а другим местом.
– И все-таки, ты еще об этом пожалеешь, – предупредил я его. – Сегодня ты наговоришь с три короба, а завтра сюда явится отряд солдат, чтобы забрать нас всех. И тогда нас выстроят рядами перед джентльменами в Кейпе и мы будем стоять со связанными за спиной руками.
– Пусть себе приходят, – ответил он, подняв серп. – Наступит час, и весь Боккефельд поднимется против них. Мы погоним их выстрелами до самого Кейпа. Вот погоди, в один прекрасный день я взберусь с ружьем на вершину Львиной горы, и они все меня увидят.
Я наклонился и принялся жать. Не лежит у меня душа к таким разговорам. Чуть погодя я разогнулся, чтобы дать передохнуть спине, – вдали я увидал идущую к дому маму Розу; что заставило ее отправиться так далеко в такую жару, удивился я и сказал Кэмпферу:
– А вы бы хоть постыдились. Белый человек, а позволяете Галанту говорить такие слова.
– А что в этом плохого? – спросил он. – Галант просто знает, что тут скоро не будет никаких рабов. А вот что случилось с тобой? Или ты больше не мужчина?
– Это вас не касается, – пробормотал я.
– Когда я стану набирать людей в свою армию, мне понадобятся только настоящие мужчины. А не старые бабы, наложившие от страха в штаны.
– Говорите что угодно, – сказал я. – Но меня в такое дело и силком не затянешь.
И я знал, что говорил, потому что в мерцающем солнечном свете того жаркого дня я видел деревья мтили моей далекой родины.
А может, подумал я, свобода – это тоже всего лишь мерцающий обман?
Если бы они меня послушались.
Эстер
 Никогда не выносила этого человека. Огромный, многословный, грубый – его тень легла на мое детство с того самого мига, как я увидела, что мой отец упал под ударами его бича. И все же я не испытала ни радости, ни малейшего злорадства, увидав его недвижимым и усохшим всего лишь два дня спустя после того, как его хватил удар на поле, – тогда вся семья собралась на рождество в Лагенфлее. Тревожно было смотреть на него, лежащего на постели с горящим и тоскливым взглядом. Все прежние годы на рождественских праздниках он господствовал и в доме, и на ферме, подавляя всех своим шумным присутствием: то зажаривал тушу быка на огромном вертеле во дворе, то хватал чью-то скрипку, чтобы возглавить шествие музыкантов, то произносил нараспев гулким патриаршим голосом одно из своих любимых библейских изречений:
Никогда не выносила этого человека. Огромный, многословный, грубый – его тень легла на мое детство с того самого мига, как я увидела, что мой отец упал под ударами его бича. И все же я не испытала ни радости, ни малейшего злорадства, увидав его недвижимым и усохшим всего лишь два дня спустя после того, как его хватил удар на поле, – тогда вся семья собралась на рождество в Лагенфлее. Тревожно было смотреть на него, лежащего на постели с горящим и тоскливым взглядом. Все прежние годы на рождественских праздниках он господствовал и в доме, и на ферме, подавляя всех своим шумным присутствием: то зажаривал тушу быка на огромном вертеле во дворе, то хватал чью-то скрипку, чтобы возглавить шествие музыкантов, то произносил нараспев гулким патриаршим голосом одно из своих любимых библейских изречений:
В каком-то смысле непомерная избыточность его жизни – хотя порой оскорбительная и раздражающая – служила всем нам защитой от самого страшного. Вместе с ним были разбиты и мы сами – неожиданно, безнадежно; мы все вдруг оказались беззащитными перед лицом нашей собственной неизбежной смерти. Ненадолго задержавшись на пороге комнаты, чтобы переглянуться с ним, я вдруг ощутила боль, не за него, а за себя самое, и на меня внезапным потоком – порывом ветра, пронесшимся не мимо, а как бы сквозь меня, – нахлынули воспоминания обо всех тех ночах, когда я без сна лежала возле мирно похрапывающего Баренда, лежала, впившись ногтями в ладони, неподвижно глядя в темноту и думая: «О господи, неужели это все? Неужели так будет продолжаться бесконечно? Нет, где-то – потаенно, но реально – должно скрываться нечто большее, чем просто вот это медленное старение, неминуемое убывание возможностей, отказ от надежды. Где-то должна таиться сила столь огромная, что когда-нибудь она взорвется во мне, озарив и наполнив смыслом то, что сейчас кажется уже отошедшим или сходящим на нет». Воспоминания обо всех тех ночах, когда Баренд сдирал с меня одежду и мстил за то, что не находил ничего, кроме наготы, а потом обиженно отворачивался и засыпал, оставляя меня наедине с иной обнаженностью в этой темноте.
И когда я вышла из комнаты с ее запахом разложения, отравлявшим семейный ритуал рождественского праздника, я вновь ощутила в себе этот молчаливый крик: Должно же быть в этой жизни нечто большее! Что-то должно случиться, и очень скоро, пока я еще жива и готова повиноваться зову. И всего лишь пару недель спустя, задним числом, я обнаружила, какое ужасное событие назревало под внешне ничем не примечательной поверхностью того вполне обычного дня.
Начался он весьма заурядно, был даже налет легкомысленности в том, как наши возницы старались обогнать друг друга: Абель на козлах нашей коляски, запряженной четверкой лошадей, Галант – на козлах фургона Николаса. Мне нравилась эта гонка, дикое грохотанье колес по колеям дороги, громыханье копыт, растрепавшиеся на ветру волосы. Но Баренд остановил и сердито отчитал Абеля. И пожалуй, был прав: подобные скачки опасны, ведь мы рисковали не только собственной жизнью, но и жизнью двух наших мальчиков, восторженно повизгивавших от страха. И вот мы поехали более степенно, на некотором расстоянии от Галанта, чтобы не наглотаться пыли, поднимаемой их коляской.
Я редко видела его с той субботы, зимой, полгода назад, когда он заглянул к нам, разыскивая бычка. И была почти уверена, что с тех пор он намеренно избегал меня: он всегда держался очень спокойно, особенно при посторонних, но теперь в его повадке проглядывала какая-то горькая отчужденность, подчеркнутая сдержанность. Я слышала, его снова за что-то выпороли, а потом он убежал, кажется в Кейптаун. Как-то раз я попыталась расспросить про него Николаса, но тот лишь сердито отмахнулся от меня. Я не настаивала: мы очень отдалились друг от друга со времен нашей безрассудной и невинной юности. И все же…
После полудня, когда все прилегли вздремнуть в отупляющей духоте, разморенные сытным рождественским обедом, я выскользнула из дому, убежав от детей, которые непременно расшумелись бы, требуя, чтобы я взяла их с собой; убедившись, что меня никто не видит (служанки мыли на кухне посуду, а двор был пуст и, казалось, сверкал в своей пустой белизне), я пошла по тропинке, ведущей вверх по склону к запруде, у которой я не бывала уже много лет. Кроме звона цикад, все было тихо, даже птицы-ткачи, оцепенев от жары, замолкли в своих висячих гнездах. Запруда лежала передо мной, грязно-коричневая и зеленоватая, – наперсница моего детства, немеркнущая память.
Он так тихо сидел на большом валуне, что я не замечала его до тех пор, пока, вспугнутый звуком моих шагов, он не вскочил и не бросился к ближайшим ивам.
От неожиданности у меня перехватило дыхание.
– Галант! – крикнула я.
Он остановился с явной неохотой, словно я застигла его на месте преступления.
– Почему ты убегаешь от меня?
– Я не убегаю.
– Я не хотела пугать тебя.
– Я и не испугался.
– Я просто… – Нерешительным жестом я показала в сторону запруды, словно это само по себе могло что-то объяснить.
Он ничего не ответил.
Я осторожно приблизилась к нему; он, казалось, готов был броситься прочь.
– Когда я в последние месяцы бывала в Хауд-ден-Беке, ты почему-то избегал меня.
– Ну и что?
– Но это так…
С презрительным видом он отвернулся, собираясь уйти.
– Но что я тебе сделала плохого? – воскликнула я.
Он обернулся и поглядел на меня в упор, глаза его горели.
– Ничего, – сказал он. – Ты – белая женщина. А белая женщина не может сделать ничего плохого.
– Ради бога, Галант!
– Тебе в самом деле было приятно, когда меня выпороли? – злобно и неожиданно огрызнулся он, будто загнанный пес.
– Разве я кого-нибудь заставляла бить тебя? – возразила я. – Когда? И зачем мне это?
– Ведь ты сама просила, чтобы я остался в тот день, когда я искал бычка. Ты сама дала мне еду. Ты сама дала мне бренди. Мне ничего этого не было нужно. Ты мне все насильно всучила.
– О чем ты говоришь? – изумленно спросила я.
– А когда Баренд вернулся, ты сказала ему, будто я к тебе приставал.
В тяжелой духоте я чувствовала, как по щеке у меня сбегает Струйка пота, но не могла поднять руки, чтобы смахнуть ее.
– Этого не было, – прошептала я. – Как ты мог подумать, что я…
– Я вообще не хочу думать о том, что ты сделала или не сделала. Меня это не касается. Что бы ты ни сделала, все правильно. Но сегодня рождество, и до Нового года всего лишь неделя.
Я удивленно покачала головой. Должно быть, он спятил, подумала я. Или же я сошла с ума. Безумие всегда таилось под хрупкой оболочкой нашей жизни.
– Почему ты не скажешь правду? – вдруг спросил он. Он подошел на шаг ближе. В его голосе слышалась почти что мольба. – Зачем тебе врать? Если ты сделала это, значит, тебе это было зачем-то нужно. Но только не ври мне. Этого ты никогда не делала.
– Я не вру, – хрипло сказала я. – Клянусь тебе. Я никогда не говорила Баренду ни слова. Как ты мог подумать про меня такое?
Он уставился на меня. Мы стояли не шелохнувшись. Еще одна струйка пота потекла у меня по скуле.
– Там был Клаас, – наконец сказал он каким-то странным голосом, а затем снова все стихло и только звенели цикады.
– Прости меня, – пробормотала я.
– Замолчи! – сердито крикнул он. Наклонившись, он поднял с земли камень и запустил им в воду. Потом еще один и еще. В детстве я часто видела, как он швыряет камни. Я понимала, что он больше ничего не скажет, а потому повернулась и пошла прочь со смешанным чувством облегчения и гнетущей тоски.
Я подождала два дня. А потом, когда Баренд вернулся с поля – наши жнецы в тот год запаздывали с уборкой, на других фермах пшеница была сжата еще до рождества, – я сказала ему:
– Клаас сегодня дерзил мне. А когда я отругала его, он надерзил снова.
Поневоле используешь то оружие, которое у тебя есть. Хотя страдание не приносит искупления, не дает тебе никакого чувства правоты. Оно как ржавчина, лишь портит и разъедает. Единственный смысл прошлого в том, что оно прошло.
Клаас
 Чего еще было ждать от этой женщины? Она ведь белая. В тот раз она притворялась, будто возмущена поркой. Когда они прикидываются добрыми, это еще хуже, чем их грубость, – с ними никогда не знаешь, чего они потребуют за свою доброту. Она просто дожидалась случая. И дня через два после рождества, без всякой причины, просто потому, что ей так захотелось, она приказала высечь меня.
Чего еще было ждать от этой женщины? Она ведь белая. В тот раз она притворялась, будто возмущена поркой. Когда они прикидываются добрыми, это еще хуже, чем их грубость, – с ними никогда не знаешь, чего они потребуют за свою доброту. Она просто дожидалась случая. И дня через два после рождества, без всякой причины, просто потому, что ей так захотелось, она приказала высечь меня.
Все эти годы я склонял голову и гнул перед ними спину. Как мог, старался угодить баасу. И вот какая меня ждала награда.
А потому, когда от Галанта приехал Абель и сказал, что близится час подняться против них, я был готов.
Галант
 Первый день Нового года. Урожай убран, но время молотьбы еще не настало. Мы ждем, когда начнет дуть западный ветер. Единственный день в году, когда мы вольны делать, что хотим: рабам дарят подарки, и, сколько себя помню, гулянье и пляски не затихают до ночи. Все веселятся, словно молодые жеребята. И так каждый год. Кроме нынешнего.
Первый день Нового года. Урожай убран, но время молотьбы еще не настало. Мы ждем, когда начнет дуть западный ветер. Единственный день в году, когда мы вольны делать, что хотим: рабам дарят подарки, и, сколько себя помню, гулянье и пляски не затихают до ночи. Все веселятся, словно молодые жеребята. И так каждый год. Кроме нынешнего.
Ночи напролет я разговариваю про это с Памелой, она все старается расхолодить меня.
– Ради бога, не принимай так близко к сердцу слухи про Новый год, – всякий раз говорит она. – Тебе же будет хуже, если все обернется не так.
– Многие годы я позволял им взнуздывать и погонять меня, – говорю я. – Но теперь мы услыхали слово свободы. Как же мне не принимать его близко к сердцу?
– С каких это пор ты стал верить слову белых? – спрашивает она. – А помнишь, что было, когда ты сказал им, что мы хотим пожениться? Сколько раз они давали слово и нарушали его?
– Это слово особое, – настаиваю я. – Оно пришло к нам из далекой страны за морем. Так говорят газеты. Я сам слышал.
– Ну и что? Те люди за морем тоже белые. Они все одинаковы и все заодно.
– Тогда и нам пора научиться быть заодно.
– Мелешь что на ум взбредет, – отвечает Памела. – А все равно никогда не скажешь, что думаешь на самом деле. И что такое «быть заодно»? А если Новый год придет и уйдет, как пришло и ушло рождество, что тогда? Все это только ветер, который проносится мимо.
– Нет, рождество не было просто ветром, Памела. Вспомни, что произошло на поле в Лагенфлее. Мы там жали пшеницу и вдруг услыхали, как закричал старый баас, а когда обернулись, он уже рухнул на землю, будто дохлая лошадь. Я поначалу испугался, решил, что он нас выследил. Ведь с нами там был Кэмпфер, и мы вели беседы о свободе. Но потом я понял – нам послано знамение, что хозяев теперь будут забирать от нас. А потому нам нужно быть готовыми к Новому году.
– Ты же ничего не можешь, Галант. И никто ничего не может сделать. Все решают они. Мы рабы.
– После Нового года никаких рабов больше не будет. Старый Мозес слышал это собственными ушами, когда ездил с Николасом в Кейптаун. И Джозеф Кэмпфер тоже знает про это. А кроме того, было знамение со старым баасом Питом. Спроси любого.
– Галант, Галант. – Она прижимает мою голову к своей груди, раскачиваясь из стороны в сторону. – О господи, неужели ты ничего не понимаешь?
– А ты кто такая, чтобы спрашивать, понимаю ли я? – кричу я. – Ты родила белого ребенка.
– Перестань! – рыдает она. Слезы стекают у нее по лицу и падают мне на голову.
Я хватаю ее. Мы боремся, как два зверя, зубами и ногтями. Я подминаю ее, готовый переломать ей все кости, а она, бешено крича, вонзает мне в спину ногти. Неужели мы хотим уничтожить друг друга? Я не понимаю, что мы делаем и почему. Знаю только, что жадно бросаемся друг к другу каждую ночь, сражаемся, бьемся, причиняем боль, пытаемся вырваться, освободиться, убежать. А что толку? Ночь вокруг нас остается все такой же темной, как и была.
Ребенок спит в углу хижины, но он все время остается между нами. Маленькая девочка с мутными голубыми глазами и белыми курчавыми волосами. Порой, когда Памелы нет рядом, я беру ребенка на руки, готовый швырнуть его на пол, растоптать и уничтожить, но знаю, что не сделаю этого. Мне уже никогда не избавиться от него – как и от Давида, который по-прежнему является мне во сне. Мне этого не понять. Никак не понять. Это так же ужасно, как те муравьи из газет, которые грызут меня по ночам, пока я сплю, выедая меня изнутри. Смерть Давида отрезала меня от Бет, я больше не желал иметь с ней дела. Но ребенок Памелы не может освободить меня от нее. А ведь должен был бы. Глубоко в лоно моей женщины Николас заронил свое семя и отравил ее чрево. Это его ребенок. Я знаю, что мне не освободиться от Памелы, пока жив ребенок, но я не в силах причинить ему зла. Ведь дитя беззащитно, оно ни о чем не ведает, оно – завтрашнее солнце, и от этого меня одолевают слабость и дрожь. Из лона Памелы взошло солнце Николаса, и все же именно оно не дает мне избавиться от нее. О господь всемогущий, мне этого не понять. И это грызет мне душу и разъедает ее.
Поскорей бы настал Новый год. Теперь уже скоро.
В канун Нового года все соседи съезжаются вместе с рабами и работниками в Хауд-ден-Бек. Пока хозяева танцуют в большой комнате и возле дома, мы веселимся возле хижин. Абель, как всегда, заводила. Но сегодня я не могу глядеть на их гулянье. Я потихоньку вывожу из темной конюшни вороного хозяйского коня и без седла скачу в ночь. Ночь очень тихая, но от бешеной скачки поднимается ветер, и копыта коня высекают из камней искры. Я скачу и скачу вдаль во весь опор, пока лошадь не выбивается из сил. Сегодня в последний раз мне пришлось удирать с фермы тайком. Завтра Новый год. Уже завтра я смогу приходить и уходить, когда и куда мне вздумается. Завтра у меня на ногах будут башмаки, как у свободного человека. Все это и означает свободу.
В такую ночь уснуть невозможно. Когда лошадь уже не может идти дальше, я привязываю ее к дереву и поднимаюсь в горы, чтобы там в одиночестве встретить начало нового дня. Тусклый свет звезд. Серый туман, медленно поднимающийся снизу. Петухи кричат все громче и громче. А потом появляется грязновато-красное пятно. День, похожий на все остальные. И все же это первый день Нового года.
Только после того, как солнце поднялось уже высоко в небо, я наконец иду к лошади и очень медленно еду обратно к дому. Двор еще пуст. Возле хижин вповалку лежат люди, уснувшие прямо там, где их свалила усталость. И только Лидия бродит по двору, как всегда собирая перья и что-то бормоча себе под нос.
– Что ты делаешь? Почему не спишь? – спрашиваю я.
– Я должна работать. Собирать перья, – говорит она. – Я скоро улечу.
– Незачем тебе сейчас работать. Сегодня Новый год. Вот уже скоро ты увидишь, как Николас выйдет из дома, чтобы объявить нам кое-что. А может, приедет человек из-за гор.
– Я должна улететь, – говорит она.
– Ну так и лети к чертям собачьим!
Я слышу, как в хижине плачет ребенок Памелы, но не иду туда. Я завожу коня в стойло, чищу его щеткой и насыпаю ему пшеницы. Ешь вволю, думаю я, продолжая расчесывать и поглаживать его. Сегодня Новый год.
Уже позднее утро, мы молча сидим возле своих горшков с завтраком, большинство очень мрачные с похмелья, когда Николас выходит к нам из дома, неся мешок с подарками. Всем дарит одежду. Мужчинам – штаны и рубашки, женщинам – платья. Только Лидии, как всегда, ничего – да и что ей до подарков? – она продолжает бродить в цыплячьей загородке.
Вручив всем одежду, табак и сахар, Николас сворачивает мешок.
– Будем надеяться, что год выдастся хороший. Сегодня можете веселиться. А как только подует ветер, начнем молотьбу.
Он поворачивается, собираясь уйти. Все остальные покорно сидят, разглядывая одежду и пробуя табак, но я отшвыриваю свой сверток.
– И это все? Больше мы ничего не получим? – спрашиваю я.
Николас оглядывается, словно не понимая, о чем я говорю.
– А чего ты ожидал еще?
На ногах у него новые желтые башмаки, которые ему стачал старик сапожник: те самые, которые предназначались мне.
– А башмаки? – спрашиваю я.
– С каких это пор рабы стали ходить в башмаках?
Все замирают и молча глядят на нас.
– Сегодня Новый год, – спокойно говорю я. – Теперь больше нет никаких рабов.
– Галант, сколько раз я говорил тебе, чтобы ты не слушал глупые россказни?
– Мы еще посмотрим, кто прав, – говорю я. – Не успеет окончиться день, как приедет человек из-за гор.
– Чем скорее ты выкинешь из головы всю эту чушь, тем будет лучше для тебя и для всех. – Он перекладывает мешок в другую руку. – Тут, в Хауд-ден-Беке, все будет по-прежнему. А тот, кто нарывается на неприятности, тот дождется их.
– Вот так-то, – говорит Онтонг, когда Николас уходит.
– Этот человек скоро прискачет сюда на коне. Просто нужно немного подождать.
Но день идет своим чередом, а никто так и не появляется. И только беда, приключившаяся с Лидией, нарушает покой, царящий на ферме. Глупая история, но чего еще ждать от этой придурковатой бабы? Извалявшись в грязи на болоте и облепив все тело перьями, которые собирала все эти годы, она забралась на дерево, должно быть за незрелым персиком, и, не удержавшись, упала на землю. Онтонг несет ее в хижину, все тело у нее в грязи, в крови и в перьях, а она плачет и смеется одновременно – жалкое зрелище.
Вот так и кончается наше новогоднее веселье.
Лидия
 Я умею летать. Глядите, я умею летать. Почему вы не верите? Больше ни один мужчина не завалит меня. Больше не будет побоев, раздирающих меня на куски. Ничего. Глядите, я умею летать.
Я умею летать. Глядите, я умею летать. Почему вы не верите? Больше ни один мужчина не завалит меня. Больше не будет побоев, раздирающих меня на куски. Ничего. Глядите, я умею летать.
Онтонг
 – Теперь ты видишь, как верить газетам и что принес нам Новый год? – сказал я Галанту. – Мне он принес только несчастье с Лидией. Вон она лежит: не поймешь, то ли женщина, то ли дохлый цыпленок.
– Теперь ты видишь, как верить газетам и что принес нам Новый год? – сказал я Галанту. – Мне он принес только несчастье с Лидией. Вон она лежит: не поймешь, то ли женщина, то ли дохлый цыпленок.
Если бы мне не пришлось с ней столько возиться – и хозяйка приходила помочь, и мама Роза, но все без толку, Лидия лежала пластом, – то, может, у меня было бы больше времени на Галанта. Правда, трудно сказать наверняка. Быть может, я просто не хотел связываться с ним в те дни, ведь я чувствовал, что он что-то затевает. С того самого дня, как старого бааса Пита хватил на поле удар, я знал: что-то случится.
После Нового года на ферме настали плохие времена. Обычная работа шла своим чередом, но мы ждали, когда подует ветер, чтобы начать молотьбу. Ветер дул все лето, а теперь, когда в нем была нужда, вдруг затих. Тишина тяжело нависла над нами. Наше терпение готово было лопнуть – вроде как гнешь доску все больше и больше, а сам ждешь, что она вот-вот сломается. Никто ничего открыто не обсуждал, во всяком случае при мне. Галант то и дело глядел куда-то вдаль, словно все еще ждал человека на лошади. Но я знал, что никто уже не прискачет Если бы что-то было, то это было бы уже давно.
Хоть бы поскорее поднялся ветер…
Откуда нам было знать, что когда наконец он поднимется, то сокрушит на своем пути все и вся.
Галант
 Молотьба на гумне. Сколько всего ненужного уносится ветром в такие дни. С самого детства я люблю это время больше всех других, все менее важные дни словно собираются тут воедино. От работы ломит спину, и к ночи ты выматываешься так, что нет сил поднять руку, а когда ты лежишь со своей женщиной, усталость давит на тебя, точно тяжелой ногой, и от мякины зудят глаза, нос, горло, спина между лопатками, все тело. Но это мужская работа, и она рождает в тебе чувство гордости, ты словно дерево, пошедшее в рост, из ног твоих вырастают корни, и корнями этими ты вскрываешь все, что сокрыто, – землю, камни и подземные воды, по твоим корням вода поднимается наверх, к стволу, к твоему телу, которое склоняется, раскачивается и гнется, как дерево на ветру, пока ты бросаешь пшеницу лопата за лопатой, тяжелые зерна падают вниз, мякину уносит прочь, на земле остается лишь чистое зерно, а в твоем теле – приятная, глубокая усталость. Эта работа приносит удовлетворение – она начинается еще затемно, стоит только первому свету вспыхнуть под угасающими звездами, и длится до того времени, пока последняя капля солнца не стечет за черные горы. Из сарая вывозят телегу, доверху груженную снопами, твердая земля на гумне покрыта толстым слоем колосьев. Я иду за лошадьми, нужно иметь сноровку, чтобы водить их по гумну, ведь молодые лошади дики и непослушны, а старые хитрят и стараются держаться ближе к середке, чтобы делать круги поменьше. Остальные работники раскладывают и перетряхивают снопы, а лошади идут круг за кругом, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, пока их по грудь не завалит соломой. Тогда приходит пора уводить их и убирать вилами солому, оставляя на земле зерно, лежащее золотыми насыпями. Час за часом, без минуты отдыха под палящим солнцем мужчины работают граблями и вилами, убирают солому и мякину, чтобы затем подставить лопаты, полные зерна, сильному встречному ветру. Мы долго ждали, пока подует этот ветер, который проходит по всей стране, будто великан, шагающий семимильными шагами. Теперь ветер этот наконец пришел, он поднялся среди ночи и продолжает дуть весь день до самого заката, время будто вошло в свою колею. Спокойные дни миновали. Ферма снова оживает, мы подставляем лопаты с зерном ветру, словно белье на просушку, тяжелые зерна как бы нехотя падают на землю, стекают с ровным шелестом вниз, точно капли дождя.
Молотьба на гумне. Сколько всего ненужного уносится ветром в такие дни. С самого детства я люблю это время больше всех других, все менее важные дни словно собираются тут воедино. От работы ломит спину, и к ночи ты выматываешься так, что нет сил поднять руку, а когда ты лежишь со своей женщиной, усталость давит на тебя, точно тяжелой ногой, и от мякины зудят глаза, нос, горло, спина между лопатками, все тело. Но это мужская работа, и она рождает в тебе чувство гордости, ты словно дерево, пошедшее в рост, из ног твоих вырастают корни, и корнями этими ты вскрываешь все, что сокрыто, – землю, камни и подземные воды, по твоим корням вода поднимается наверх, к стволу, к твоему телу, которое склоняется, раскачивается и гнется, как дерево на ветру, пока ты бросаешь пшеницу лопата за лопатой, тяжелые зерна падают вниз, мякину уносит прочь, на земле остается лишь чистое зерно, а в твоем теле – приятная, глубокая усталость. Эта работа приносит удовлетворение – она начинается еще затемно, стоит только первому свету вспыхнуть под угасающими звездами, и длится до того времени, пока последняя капля солнца не стечет за черные горы. Из сарая вывозят телегу, доверху груженную снопами, твердая земля на гумне покрыта толстым слоем колосьев. Я иду за лошадьми, нужно иметь сноровку, чтобы водить их по гумну, ведь молодые лошади дики и непослушны, а старые хитрят и стараются держаться ближе к середке, чтобы делать круги поменьше. Остальные работники раскладывают и перетряхивают снопы, а лошади идут круг за кругом, ритмично покачиваясь из стороны в сторону, пока их по грудь не завалит соломой. Тогда приходит пора уводить их и убирать вилами солому, оставляя на земле зерно, лежащее золотыми насыпями. Час за часом, без минуты отдыха под палящим солнцем мужчины работают граблями и вилами, убирают солому и мякину, чтобы затем подставить лопаты, полные зерна, сильному встречному ветру. Мы долго ждали, пока подует этот ветер, который проходит по всей стране, будто великан, шагающий семимильными шагами. Теперь ветер этот наконец пришел, он поднялся среди ночи и продолжает дуть весь день до самого заката, время будто вошло в свою колею. Спокойные дни миновали. Ферма снова оживает, мы подставляем лопаты с зерном ветру, словно белье на просушку, тяжелые зерна как бы нехотя падают на землю, стекают с ровным шелестом вниз, точно капли дождя.
И так каждый год. Но в этом году вдобавок к работе еще и потаенная тьма, тяжесть, неразразившаяся буря. Ведь рождество миновало, и Новый год тоже позади. Уже середина января, а до сих пор так ничего и не произошло. Слово свободы унесено ветром, а нам остался лишь его пустой звук.
Если бы я хоть мог вызвать Николаса на ссору. Но после моего возвращения с гор он стал со мной особенно осторожен. Он сделался терпеливым и сдержанным, даже когда я намеренно дразню его. И от этого еще хуже. Если бы он поднял на меня руку, я бы получил повод, который мне нужен. Но он лишает меня даже этой возможности.
Но если он будет и впредь избегать ссор со мной, мне придется начать самому. К тому-то и шло дело в тот день на гумне.
С раннего утра Кэмпфер подзуживал нас, как и на уборке урожая. Мы все работаем вместе: рабы, сезонные работники и люди старого Дальре, Платипас и Долли. Солнце обжигает спины, и понемногу разговоры стихают, только Кэмпфер трещит без умолку.
– Галант, – говорит он, облокотившись на метлу, – Новый год пришел и ушел, верно?
– Ну и что? – У меня внутри все сжимается, словно пальцы в кулак, но я не отвлекаюсь от лошадей, веду их круг за кругом.
– Разве не обещали освободить к этому времени рабов?
Мне нечего возразить ему. Я знаю, он прав. И все же мне не нравится этот человек. Зачем он приехал из такой дали, из-за моря? Зачем суется в нашу жизнь?
– Давайте сначала закончим молотьбу и увезем пшеницу, – говорю я. – Тогда у нас будет достаточно времени, чтобы потолковать.
– Вот это правильно, – соглашается старый Ахилл, потирая затекшую спину. – Больно уж много мы все болтаем. Должно быть, ты наконец понял, что говорить куда легче, чем делать, а?
– А ты заткнись! – обрываю я его.
– Разве ты не говорил, что, если они не освободят вас к Новому году, вы возьмете свободу сами? – продолжает Кэмпфер.
– Верно, – говорю я, – так оно и будет. – Я готов схватить вилы и завалить его выше головы пшеницей, чтобы он наконец замолчал.
– А как ты собираешься это сделать? – спрашивает он. – Может, прямо пойдешь к Николасу и скажешь: «Теперь я свободен»?
– Может быть, и так.
– А если он погонит тебя обратно, работать?
Я продолжаю вести лошадей, шея от мякины горит огнем.
– Я тебя спрашиваю, Галант, – вызывающе говорит Кэмпфер. – Разговоры разговорами, а дело делом. Раньше или позже, тебе все равно придется что-то предпринять.
– Вы сегодня завели опасные разговоры, – предостерегает Онтонг, приостановившись с поднятыми вилами.
– Верно, – соглашается старый Платипас, потом разгибается, берет понюшку табаку и снова хватает своими черными клешнями метлу. – Что мы знаем о свободе? В тот день, когда хозяева скажут, что мы свободны, мы получим ровно столько свободы, сколько они захотят нам дать. Не больше и не меньше.
– Вот потому-то и бесполезно ждать ее от хозяев, – говорит Кэмпфер. – Вы получите только то, что сумеете взять собственными руками.
Он уже прекратил работу.
– Вам легко говорить, – ворчит старый Платипас. – Вы здесь чужак, и, как только у нас начнутся беспорядки, вы можете смыться.
– Я с вами заодно, – отвечает тот спокойно. – Я приехал, чтобы обосноваться тут. Если вы решите идти до конца, я буду с вами.
Все метлы и грабли замерли. Слышно, как далеко в саду щебечут птицы.
– Что значит «идти до конца»? – спрашиваю я.
– Это вам решать, – говорит он, глядя на меня своими бесцветными глазами, – сколь далеко вы готовы пойти теперь, когда они нарушили свое обещание.
– А давайте-ка еще немного подождем, – шутливо предлагает Тейс. – Может, курьер еще в пути. Дорога от Кейпа долгая.
– Они говорили – на рождество, потом говорили – на Новый год. С тех пор прошел почти месяц. – Кэмпфер снова глядит на меня. – Ну что, Галант? Тебе нечего мне ответить?
Целый мир борется у меня в душе. Мать, которой я не помню. Отец, которого я никогда не знал. Прежние дни возле запруды. Укрощение серого жеребца. Змеиный камень у бедра Эстер. Охота на льва. Ряды муравьев, ползущих по странице и набрасывающихся на меня ночью. Бет, совравшая мне, что умеет читать. Мой ребенок, избитый до смерти, и мой жакет, разодранный в клочья. Мужчина с голосом льва, и цепи у него на руках, и кандалы на ногах. Свободные люди, живущие за Великой рекой. Женщина, до конца дней своих прикованная к скале. Ночь в пещере во время тумана. Всего этого слишком много, ни о чем нельзя подумать в отдельности, все это тут, во мне, одновременно – растет и разбухает, словно стремясь родиться на свет, а в ушах у меня жуткий вой ветра.
– Одному человеку ничего не сделать, – говорит Кэмпфер. – Но если взяться за дело сообща, оно может выйти. Я видел такое собственными глазами. Вас тут более чем достаточно, а баас всего один.
Мы опускаем метлы и вилы. Я выпускаю лошадей, и они тянутся к пшенице, но малыш Рой удерживает их. Кругом летают мухи. Я слышу их жужжанье.
– Чего вы от нас ждете? – спрашиваю я Кэмпфера.
– А что мне вам подсказывать? Вы сами должны решить, чего вы хотите.
– Уже много лет они дурачили нас, – говорю я после долгого молчания. – Но никогда не говорили так определенно. Они сказали, что приедут люди из Кейпа и освободят нас. Но люди эти так и не появились, а Новый год уже прошел.
– Ну, так и что же теперь? – осторожно спрашивает Тейс.
– Кэмпфер прав, – говорю я. – Что толку попусту болтать о свободе, если ты не готов, не осмеливаешься сам взять ее в должный час? А разговорами этого не добьешься.
– А как добьешься? – робко спрашивает Рой.
Я оглядываюсь по сторонам. Потом беру вилы и наношу ими удар в воздух.
– Поосторожнее, Галант, – предупреждает Ахилл. – А если тебя увидит хозяин?
– Пусть увидит! – кричу я. – Что, боитесь? Хотите оставаться рабами?
– Разговоры о свободе – это одно, – отвечает старый Платипас. – А убийство – совсем другое.
– Я не желаю проливать ничью кровь, – говорит Онтонг.
Я медленно иду к нему по гумну, топча ногами зерна. Слегка прижимаю зубья вил к его голой груди.
– Мы здесь все заодно, – спокойно говорю я. – Мы все говорим одинаково. – Что-то внутри давит меня, толкается и рвется наружу, и, начав говорить, я уже не могу остановиться. – Долгие годы мы все сносили молча. Дурную пищу. Грубости. Порку. Холод. Жару. Голод. Он брал наших женщин, если ему этого хотелось, и делал им белых детей. Он убил моего ребенка. А я терпел. Мы все терпели. Но есть одно, чего терпеть нельзя, а если ты смиришься даже с этим, то ты не вправе называть себя человеком. – У меня какое-то странное ощущение, словно я слышу свои собственные слова откуда-то издалека. – Речь идет о свободе, которую нам пообещали, но не дали. Многое можно выносить очень долго. Но в конце концов ты встаешь на дыбы, как конь, и отказываешься терпеть дальше. И когда этот миг наступает, ты говоришь: «Теперь я беру свою жизнь в собственные руки». Иначе ты пес, червяк или змея, но не человек.
– Ты попался на удочку этому хитрецу, – говорит старый Ахилл. – Он забил тебе голову глупостями. Разве ты не видишь, что он – белый?
– Никто мне не забивал голову, – отвечаю я. – То, что я говорю, родилось во мне самом. Он только помог вырваться наружу тому, что давно копилось внутри меня. Все это уже давно было во мне, но я думал, что еще не время. А теперь я знаю: пришла пора выпустить все это наружу. Ведь Новый год уже миновал.








