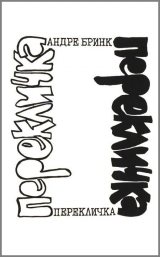
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 31 страниц)
Да, это было весело. Ведь мы все делали вместе. Не то чтобы один делал одно, а другой другое, а все вместе. А потом принесли бренди и устроили такую пирушку, что стены дрожали – крики, смех, грохот, пальба в мертвые тела; под конец маленькая женушка учителя Марта шлепнулась задом на траву, уставясь куда-то вдаль, словно среди бела дня увидела привидение; она даже не плакала, просто сидела так, будто ужасно устала, хотя было еще утро; потом мы рыскали по дому, искали патроны, раздирали матрасы и опрокидывали столы и прочий хлам. Давно не бывало в наших краях такого веселья. Когда мы совсем выбились из сил и уже ничего не могли придумать, мы принялись пинать ногами тела на кухне: вот тебе за ту порку. Вот тебе за дурную еду. И вот тебе за то, что орал на меня. И какая разница, что мы даже не знали тех двоих – кто такой, черт подери, этот Янсен? Кто такой этот Ферлее? – они просто валялись тут вместо всех других хозяев. Затопчите их, смешайте с грязью. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! И давайте еще выпьем.
Николас
 Все остальные не имели к этому почти никакого отношения: они посторонние. Все началось когда-то давно между мной и Галантом, а теперь настигло нас в этот вневременной миг.
Все остальные не имели к этому почти никакого отношения: они посторонние. Все началось когда-то давно между мной и Галантом, а теперь настигло нас в этот вневременной миг.
Я увидал его рано утром, когда мы с Хансом Янсеном направлялись вниз, к краалю. Он, как всегда, держался независимо, но я к этому привык.
– Доброе утро, Галант.
Он не ответил.
Мне не хотелось спрашивать про ток – я предпочел бы не затевать ссоры с самого утра, но, к моему величайшему неудовольствию, Янсен напомнил мне об этом, и, чтобы не ударить перед ним лицом в грязь, я спросил Галанта:
– Ты привел ток в порядок?
Он ухмыльнулся:
– Все готово для молотьбы.
– О чем ты? Мы же закончили молотьбу.
Он промолчал. Настроение у меня испортилось. Он намеренно унижал меня в присутствии постороннего: теперь мне снова придется наказать его. Неужели это и вправду неизбежно? Почему он не желает понять, что для него самого лучше жить со мной в мире?
– Мы идем на ток, – резко сказал я ему. – Пойдемте, Ханс. – Чуть отойдя, я обернулся к Галанту – Я найду тебя попозже.
Он пожал плечами.
На гумне все было таким же, как и накануне, каким было с того дня, когда мы закончили обмолот. Голое и потрескавшееся, развороченное тяжелыми копытами лошадей, которые делали круг за кругом, отделяя плевелы от пшеницы – чистого крупного зерна, провеянного на ветру, ссыпанного в мешки, погруженного на телеги и уложенного затем на чердаке готовым для помола: хлеб насущный для всех обитателей фермы.
– Ну, что я говорил, – сказал Ханс Янсен, зажав трубку в зубах и самодовольно поглядывая на меня. – То-то и оно, приятель. Все они одинаковы.
Я отвернулся от него, стараясь смириться с неприятной мыслью о том, что нам с Галантом вскоре снова придется встретиться лицом к лицу. Единственное, что оставалось решить, – где и когда.
Мы еще были внизу, не успев даже осмотреть крааль, как вдруг услыхали выстрел в доме. И оба одновременно бросились туда. Когда мы добежали до ворот, раздался второй выстрел, я почувствовал странный толчок в руку, но лишь после того, как мы благополучно укрылись в кухне, Янсен удивленно воскликнул:
– О господи, они ранили вас! Посмотрите на свою руку.
Вскоре после этого, когда я пытался урезонить их, стоя возле двери, я услышал крик Галанта:
– Стреляй в него, Абель!
И еще выстрел. К счастью, лишь слегка оцарапавший меня, так как я успел отскочить назад и захлопнуть дверь.
Я прислонился к стене, прикрыв глаза от неожиданного головокружения.
Я услышал, как из спальни меня окликает Сесилия. Лежа в крови на смятых, перепачканных простынях, она требовала, чтобы мы вместе с детьми прочитали молитву. «Ты соображаешь, что говоришь? – хотелось мне заорать да нее. – Это единственное, что тебя волнует? Чтобы умереть благопристойно? Чтобы все было сделано как полагается? А я, выходит, для тебя ничто? Тебе все равно, что, быть может, через пару минут меня убьют?» Но я сдержал себя.
Я отстраненно слушал собственный голос, произносивший слова молитвы: «…дабы смертию лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству»[35]35
Послание к евреям, 2:14–15.
[Закрыть].
В дверь так сильно колотили, что я не смог закончить молитву. Не потрудившись сказать «аминь», я поднялся с колен.
– Ты не можешь оставить меня одну, Николас.
– Мне нужно поговорить с Галантом.
– Ты должен быть вместе со мной и детьми!
Я на цыпочках подошел к двери и осторожно отодвинул засов. Он, наверно, так и стоял тут, поджидая меня, но, должно быть, не думал, что я появлюсь так скоро. Остальные тоже были здесь, но они стояли чуть дальше – неясные, расплывчатые пятна, словно мой взгляд никак не мог сконцентрироваться на них. Тут были лишь мы двое. Казалось, мы остались одни на всей земле, обнаженные, как когда-то давно два мальчика возле запруды, – я и моя тень.
Я жду, пока он заговорит. В эту минуту, в эти несколько секунд, я понимаю, что умру. Должно же перед этой зияющей пустотой найтись хоть что-то, что мы могли бы сказать наконец друг другу. Но во мне нет ни мыслей, ни чувств. Я не знаю, что ему сказать.
Вот это и есть самое страшное – молчание, предшествующее смерти, обнаженность, ощущение разобщенности с человеком, который был моим единственным другом. Неспособность прикоснуться к нему. Расстояние, разделяющее нас, из-за которого нам остается лишь молча глядеть друг на друга. Жестокое молчание.
Жизнь против жизни.
Что в такой вот тишине остается от всей твоей жизни? Как осмыслить ее начало, ее ход, ее конец? Голые дети возле запруды под свисающими с деревьев птичьими гнездами. Обвалившаяся нора в земляной дамбе. Вечера в дымной хижине. Древняя как мир старуха, рассказывающая сказки. Девочка. Укрощенный жеребец. Лев – огромный таинственный хищник, явившийся из другого мира и растревоживший темноту своим рыком; непостижимая свобода его гулкого дыхания, вдоха и выдоха. И когда Галант попал во льва, жизнь покинула его тело со вздохом, похожим на стон, – казалось, будто он жалеет нас, оставшихся в живых. В тишине, столь же беспредельной, как сегодняшняя, стоял я в тот день возле убитого льва. Но я солгал тогда отцу про льва. И с той поры все стало ложью. А сегодня я сам паду жертвой того льва.
Молчание длится, тишина полна образов. Свадьба. Жена. Дети у меня на плечах. Безмолвное негодование Эстер. Поездка в Кейптаун. Упущенные возможности той ночью в горах. Воскресные дни в Лагенфлее. И работа, которой нет конца: вспашка земель, постройка стен, рытье канав, сев, уборка урожая, молотьба.
Земля. Вода. Ветер. Огонь.
Чем же я могу поделиться с тобой в этот последний миг? У нас все было общим, у меня нет ничего своего. Даже слова.
Я тут – ты там. Хозяин – раб.
Был какой-то миг, увы, непоправимый, когда я из твоего товарища превратился в хозяина, когда я окончательно потерял собственную свободу. То был страшный миг, когда между нами выросла каменная стена, огромная неодолимая гора, такая высокая, что у нас оставалась лишь иллюзия того, будто мы видим друг друга. И услышать друг друга мы тоже больше не могли.
В твоей ли власти сделать выбор, например стать хозяином или нет, или же тебе просто предначертано быть жертвой окружающего мира? Впрочем, это теперь не имеет значения, это уже с нами свершилось.
И теперь, когда мы зашли так далеко – и потому, что мы зашли так далеко, – мы способны лишь на самые простые поступки.
Ты убьешь меня. Потом, если все пойдет по закону, будешь убит и сам. А жаль. И не из-за самого убийства – в подобном молчании уже не ощущаешь страха, – а из-за того, что все это слишком просто: мы оба тем самым лишь уклоняемся от ответственности, от исполнения своего долга. А нам надо было научиться жить вместе.
В этом правды нет, а лишь окончательное поражение – для нас обоих. Это ложь. Как та шкура льва, на которую я сейчас падаю.
Итак, мы снова возле камня для убоя скота. И снова я ощущаю страстное и бесплодное желание не быть здесь. Но я здесь.
Рой
 Они считали, что у меня молоко на губах не обсохло, но я им показал. Считали, что просто дадут мне подержать лошадей и всякое такое, но я был с ними все время. Когда они в кухне пристрелили учителя, этот человек потом вдруг захрипел – он лежал возле стены, за креслом. «Ну-ка, – сказал Галант, – пальните в него еще разок». Тейс был рядом, но, услыхав это, мигом спрятался за спины других. Поговорить-то он мастак, а вот как дошло до дела, струсил. А я взял пистолет, который мне кто-то сунул, прицелился в пуговицу и Нажал на курок. Тело дернулось – и конец. Очень просто.
Они считали, что у меня молоко на губах не обсохло, но я им показал. Считали, что просто дадут мне подержать лошадей и всякое такое, но я был с ними все время. Когда они в кухне пристрелили учителя, этот человек потом вдруг захрипел – он лежал возле стены, за креслом. «Ну-ка, – сказал Галант, – пальните в него еще разок». Тейс был рядом, но, услыхав это, мигом спрятался за спины других. Поговорить-то он мастак, а вот как дошло до дела, струсил. А я взял пистолет, который мне кто-то сунул, прицелился в пуговицу и Нажал на курок. Тело дернулось – и конец. Очень просто.
Вот как я все это понимаю: если бы они не надумали бунтовать, мне пришлось бы торчать весь день в вельде с овцами, а солнце в те дни припекало так, что земля пятки обжигала. Выходит, мне с их бунтом очень повезло.
Жаль только, что все кончилось так быстро.
Марта
 Ну что, учитель, до чего довел тебя твой ум? Теперь ты умер, и мне придется самой заботиться о себе. А я привыкла к лучшей жизни. Это ты настоял на том, чтобы пересечь горы и начать все сначала. Говорил, что, когда я войду во вкус настоящей жизни, мне она понравится.
Ну что, учитель, до чего довел тебя твой ум? Теперь ты умер, и мне придется самой заботиться о себе. А я привыкла к лучшей жизни. Это ты настоял на том, чтобы пересечь горы и начать все сначала. Говорил, что, когда я войду во вкус настоящей жизни, мне она понравится.
Это из-за тебя я так рано стала матерью. Я еще играла в куклы, когда ты женился на мне. Ты превратил меня в свою куклу. А теперь у меня ребенок.
Неужели ты действительно думал, что я сумею жить в здешних краях? В Кейпе все было таким милым и цивилизованным. Нужно было испытать подобный ужас, чтобы я поняла, сколь жестока эта страна. Дикие земли, не для белых людей.
Если это и есть та самая жизнь, о которой ты говорил, то мне такой жизни не нужно.
Хелена
 Там, на чердаке, самый лучший на свете запах. Запах сушеных фруктов и изюма, табака и чая. Но в конце прошлой недели мама сказала, что я уже большая и поэтому мне больше нельзя лазать на чердак: девочка, которая скоро начнет учиться в школе, должна следить за своим поведением. И я была даже рада, когда мы снова забрались туда. Это было похоже на игру в прятки.
Там, на чердаке, самый лучший на свете запах. Запах сушеных фруктов и изюма, табака и чая. Но в конце прошлой недели мама сказала, что я уже большая и поэтому мне больше нельзя лазать на чердак: девочка, которая скоро начнет учиться в школе, должна следить за своим поведением. И я была даже рада, когда мы снова забрались туда. Это было похоже на игру в прятки.
Я, конечно, знала, что на самом деле это не игра. Но пока я лежала на полу и глядела через щели между досками, все внизу казалось таким непонятным – пальба, грохот, крики, – что в это нельзя было по-настоящему поверить. Когда я смотрела вниз на этот чужой мир, мне казалось, будто я где-то далеко-далеко отсюда, но я продолжала смотреть не отрываясь. На этот мир взрослых, которого я, наверно, никогда не пойму и который был для меня чужим. А поэтому и все происходящее не слишком волновало меня.
Маленькая Катрина то и дело принималась плакать, а мама издавала какие-то смешные звуки. Я знала, что если посмотрю на ее одежду, то снова увижу кровь. Поэтому не смотрела. Я просто лежала на животе и глядела в щель, зная, что, даже когда я стану взрослой и очень старой, я все равно этого не забуду. Потом мне из-за этого начали сниться страшные сны. Правда, пока я лежала там, на чердаке, все это не особенно отличалось от сна.
Иногда я и вообще не понимаю. Может, я тогда просто спала? А может, и теперь сплю? Но если это только сон, то проснусь ли я когда-нибудь?
Я даже не знаю, хочу ли я проснуться.
Памела
 Я бы охотнее осталась в ту ночь в хижине, чтобы быть рядом с Галантом, если вдруг что-то произойдет. Но он был мрачен и злился на меня с того дня, как вернулся из поездки за учителем, сердился, что я не украла ружья. А как я могла украсть их? Я попробовала, но мне помешала хозяйка. И тогда я решила, что мне нужно ночевать в доме – это единственное, чем я могу доказать ему, что я с ним заодно. А если баас снова вздумает обойтись со мной как обычно, пускай. Зато я буду в доме, буду начеку и, если понадобится, открою им дверь. Мне хотелось остаться с Галантом, но ради него я ушла в дом. И это-то было самым ужасным: не убийства, тогда и потом, а то, что они разлучили меня с Галантом – ведь прежде мы были вместе.
Я бы охотнее осталась в ту ночь в хижине, чтобы быть рядом с Галантом, если вдруг что-то произойдет. Но он был мрачен и злился на меня с того дня, как вернулся из поездки за учителем, сердился, что я не украла ружья. А как я могла украсть их? Я попробовала, но мне помешала хозяйка. И тогда я решила, что мне нужно ночевать в доме – это единственное, чем я могу доказать ему, что я с ним заодно. А если баас снова вздумает обойтись со мной как обычно, пускай. Зато я буду в доме, буду начеку и, если понадобится, открою им дверь. Мне хотелось остаться с Галантом, но ради него я ушла в дом. И это-то было самым ужасным: не убийства, тогда и потом, а то, что они разлучили меня с Галантом – ведь прежде мы были вместе.
– Да, ступай, – сказал Галант, когда я взяла ребенка. – Теперь твое место там.
– Неужели ты не понимаешь? – взмолилась я.
– У меня много дел, – ответил он и отвернулся.
На полпути к дому, оглянувшись, я увидела, что он стоит в дверях хижины, глядя на меня и на ребенка. Я хотела окликнуть его, но что бы я ему сказала? Вот так это и осталось у меня в памяти: я тут, он – там, а между нами тишина двора.
Перемыв посуду и прибравшись на кухне, я уложила ребенка возле плиты и затем улеглась сама. Но заснуть не могла. Я лежала, прислушиваясь к тихому сопению ребенка и к звукам в доме. В темноте дом начинает жить собственной жизнью: потрескивают балки, словно по ним медленно прохаживается грузный мужчина, скрипят кровати, в дымоходе вздыхает ветер, стучат ставни. Я вслушивалась и в звуки снаружи, но не слышала ничего необычного. Возле двери пес грыз кость. Вдалеке порой слышался хохот шакала или какого-то таинственного духа. Попискивали летучие мыши. Прокричала совка. Вот и все. Но я-то знала, что ночь полна голосов мужчин и цоканья лошадиных копыт. Кровь, беззвучно бурлящая в темноте. Ветер, затаивший дыхание перед тем, как разразится гроза и белая молния расколет черное небо.
И вдруг я услышала шаги Николаса. Я напряглась, но не шелохнулась.
– Памела! Ты спишь?
Я старалась дышать глубоко и ровно, надеясь, что он отстанет.
Его рука легла на мое голое плечо. Я по-прежнему не шевелилась.
Ты снова принимаешься за старое, думала я. Неужели тебе не довольно того, что тут спит твой ребенок? А мужчина, которого я хочу, там, снаружи. Но что он знает обо мне? Что может знать один человек про другого?
– Оставишь ты меня, наконец, в покое? – спросила я. – Или ты не понимаешь, что делаешь?
– Мне нужно поговорить с тобой, Памела.
– Можешь поговорить днем. А сейчас ночь, и я сплю.
– Мне больше не с кем поговорить.
– Разговаривай с такими, как ты. А меня оставь в покое. Я рабыня.
– Раньше ты меня слушала.
– Потому что я не имела права отказаться.
Он помолчал, а потом спросил:
– Памела, что нашло на Галанта?
Я так удивилась, что невольно села рядом с ним. В темноте ничего не было видно, даже угли в печке уже погасли.
– Галант очень изменился, – сказал он.
– Почему ты говоришь об этом мне? – злобно сказала я. – Это ваше дело.
– Он со мной не хочет разговаривать. А ты его жена.
– Этого не подумаешь, зная, что ты спишь со мной.
– Сегодня вечером я плохо говорил с ним.
Я ничего не ответила. Но напряженно ждала, что он скажет еще.
– Я приказал ему к утру привести в порядок гумно. Я вышел из себя из-за бааса Янсена.
– Это ваши дела, меня они не касаются.
Почему он так забеспокоился? Он – хозяин, он может делать все, что хочет, ему вовсе незачем укорять себя. И тут он вдруг встал и направился к двери.
– Мне что-то не по себе из-за этого, – сказал он. – Может, сходить и поговорить с ним?
Я на четвереньках бросилась за ним, скинув одеяло.
– Он уже спит, – прошептала я, стараясь удержать его. – Поговоришь утром.
Он помедлил, держа руку на задвижке.
Я обняла его за ноги.
– Что это с тобой, Памела?
– Останься со мной.
Я еще крепче обняла его. Он наклонился ко мне.
Бери меня, думала я. Делай со мной что хочешь. Это в последний раз. Завтра, когда они будут убивать тебя, я буду с ними. Если ты взмолишься о помощи, я рассмеюсь тебе в лицо. Я истопчу тебя. Я плюну на тебя и на твое потомство.
Я делала это ради Галанта. Но на следующий день, когда они в ярких лучах солнца вышли из разгромленного, полного крови и трупов дома во двор, где я поджидала Галанта с ребенком на руках, он не заметил меня. Горящими, точно солнце, глазами он глядел мимо меня так, словно и вовсе не видел.
– Галант, мне нужно поговорить с тобой.
– Нам больше не о чем разговаривать.
– Я помогла тебе.
– Ты держалась в стороне. Больше ты мне не нужна. Погляди на эту тварь у тебя на руках.
– Выходит, это моя вина?
Он задохнулся от ярости. Схватил ружье и замахнулся на меня. Я пыталась увернуться, и удар прикладом пришелся по головке ребенка.
Долгое время спустя, когда все они уже ускакали, а отряд буров еще не прибыл – я видела все это издалека, – я пришла на ферму, чтобы взять кусок хлеба на разгромленной кухне, а затем снова убежала в горы, далеко в Скурвеберхе, где они никогда бы не отыскали меня.
Ближе к ночи ребенок умер. Я сама похоронила его. Земля была слишком твердой, чтобы рыть могилу, но я укрыла тельце под грудой камней, чтобы уберечь от стервятников. Ребенок, который смотрел на меня глазами бааса, когда сосал мою грудь. Но он был и моим тоже, разве я могла отвергнуть собственное дитя?
Я не плакала, даже пока громоздила тяжелые камни, а потом уже было поздно плакать. Пустота была слишком огромной.
Ужасно то, что я даже чувствовала какое-то облегчение, словно смерть ребенка очистила меня. Если бы сейчас вернулся Галант, я бы пошла к нему навстречу с тяжелыми от молока грудями и сказала: «Погляди, мои руки пусты».
Но он так и не вернулся. Хлеб вскоре кончился. Я бесцельно бродила по горам, голодная, с ноющими от боли грудями. Наконец мне пришлось спуститься вниз.
Хозяева все-таки победили. Они навсегда разлучили меня с Галантом. Теперь он уже никогда не вернется. Напрасно я думала, что смерть ребенка что-то изменит. Даже после смерти ребенок привязывал меня к чему-то, что было мне неподвластно, но в чем я была замешана и потому испытывала чувство вины. Не знаю почему. Я вообще больше ничего не понимаю. Но так уж все случилось. То, что принадлежало только нам двоим, вырвалось у нас из рук и ушло к другим.
Они даже не захотели повесить меня вместе с ним. Даже в этом мне было отказано. Но все равно мы были с ним мужем и женой.
Ахилл
 Тяжело раненная, истекая кровью, хозяйка просила нас с Онтонгом помочь ей и обещала, что скажет господам из Кейптауна, чтобы они заботились о нас до конца наших дней. И после того как наши ускакали, мы с мамой Розой и Онтонгом ухаживали за хозяйкой. А когда прибыл фургон, поехали вместе с ней в Бюффелсфонтейн, на ферму ее отца. За это она подарила нам рубашки и штаны бааса. Но люди из отряда нашли у нас эту одежду и сказали, что мы тоже участвовали в убийстве. Они заковали нас в цепи вместе с остальными. А хозяйка не остановила их. Может, она была слишком больна, а может, ей вообще ничего не сказали про это? Правда, я-то знаю, что белые все легко забывают.
Тяжело раненная, истекая кровью, хозяйка просила нас с Онтонгом помочь ей и обещала, что скажет господам из Кейптауна, чтобы они заботились о нас до конца наших дней. И после того как наши ускакали, мы с мамой Розой и Онтонгом ухаживали за хозяйкой. А когда прибыл фургон, поехали вместе с ней в Бюффелсфонтейн, на ферму ее отца. За это она подарила нам рубашки и штаны бааса. Но люди из отряда нашли у нас эту одежду и сказали, что мы тоже участвовали в убийстве. Они заковали нас в цепи вместе с остальными. А хозяйка не остановила их. Может, она была слишком больна, а может, ей вообще ничего не сказали про это? Правда, я-то знаю, что белые все легко забывают.
А может, оно и к лучшему. Потому как всего труднее жить, пока есть надежда. А теперь надежды больше нет.
Мозес
 Что проку говорить, мол, следовало поступать так или эдак. Надо пользоваться случаем, который тебе выпадает, но и уметь вовремя остановиться. Мир вовсе не таков, как хотелось бы, но не мне же пытаться изменить его. Лучше хоть немного радоваться жизни, чем совсем лишиться ее. Разве лучше висеть на виселице вроде тех, остальных, или работать в цепях до конца дней своих? Я тоже был бы среди них, если бы не сумел сохранить трезвую голову. Главное – вовремя заметить молнию и спрятаться. А не то ослепнешь.
Что проку говорить, мол, следовало поступать так или эдак. Надо пользоваться случаем, который тебе выпадает, но и уметь вовремя остановиться. Мир вовсе не таков, как хотелось бы, но не мне же пытаться изменить его. Лучше хоть немного радоваться жизни, чем совсем лишиться ее. Разве лучше висеть на виселице вроде тех, остальных, или работать в цепях до конца дней своих? Я тоже был бы среди них, если бы не сумел сохранить трезвую голову. Главное – вовремя заметить молнию и спрятаться. А не то ослепнешь.
Когда я в последний раз был с баасом в Кейпе, я собственными ушами слышал, что нам обещали свободу к Новому году или сразу после него. Я всем рассказал про это и был доволен. Но когда ничего не произошло, я смирился. У голландцев свои правила.
Потом, когда Абель приехал на пастбище и рассказал, что весь Боккефельд поднимает восстание, я был вместе с остальными. Казалось, что так и должно быть, и я принялся начищать ружье, которое мне дал баас Пит, чтобы охранять стадо. И для верности поплевал на пулю. Я был готов действовать. И воткнул в шляпу перо цесарки.
Но когда Голиаф с хозяйкой и детьми появился ночью на пастбище, мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что дела обернулись худо. Услышав о том, что баасу Баренду тоже удалось сбежать, я сказал Вилдсхюту:
– Пустое дело, приятель. Пускай Абель говорит что хочет, но я-то знаю, что весь свет повернулся к нам задом.
А хозяйке сказал:
– Рассчитывайте на меня.
Чтобы она знала, на кого можно положиться.
Но наутро все опять переменилось. Когда мы спустились в Эландсфонтейн и увидали разграбленный дом, я поневоле почувствовал радость. А тут вернулись Галант и все остальные – на Галанте были новые желтые башмаки и кровавая тряпка на шляпе, – и они рассказали про то, что произошло в Хауд-ден-Беке. Я поглядел на них и крикнул Галанту:
– Мы здесь, капитан! Приказывай!
Всегда надо держаться победителей. Не то хлопот не оберешься.
Мы все вместе вошли в дом. Отыскали бочонок бренди, которого они не заметили ночью. Вилдсхют, Слингер и я выпивали вместе с ними. И я словно бы видел, как мы скачем к Кейптауну, как нас становится все больше и больше, и вот уже вместе с нами шагают сотни тысяч рабов. И кто в целом свете сумеет остановить нас?
Но едва мы добрались до пастбища, как я услышал крик Слингера:
– Они едут!
Увидав отряд буров на лошадях, я сразу понял, куда теперь все повернулось. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня схватили вместе с шайкой бандитов и пристрелили за злодеяния, в которых я неповинен.
Поэтому я был среди первых – я признаюсь в этом без малейшего стыда, – кто побежал сдаваться. Увидев это, Галант и Абель принялись стрелять: одна пуля даже продырявила мне шляпу. Но тут отряд выстроился цепочкой, и бандитам пришлось удирать, спасая свою жизнь. Мне приятно сказать, что я помогал фермерам ловить преступников. Я всегда чтил закон и порядок. Можете спросить старого бааса Пита. Разве иначе он доверил бы мне охранять свои пастбища?
Теперь жизнь опять течет спокойно. Может, и не совсем так, как мне хотелось бы. Но я не жалуюсь. Все могло быть куда хуже.
Пит
 Ничего не удержать моим рукам. Бессильно лежат они возле меня на постели. Прежде я цепко держал в них ферму и людей, землю и горы, рабов, поля, скотину. Теперь все отнято у меня, словно сорвана простыня, прикрывающая мой срам. Голозадым родишься и голозадым же помираешь. Были когда-то на земле исполины, но их время миновало.
Ничего не удержать моим рукам. Бессильно лежат они возле меня на постели. Прежде я цепко держал в них ферму и людей, землю и горы, рабов, поля, скотину. Теперь все отнято у меня, словно сорвана простыня, прикрывающая мой срам. Голозадым родишься и голозадым же помираешь. Были когда-то на земле исполины, но их время миновало.
Черт бы побрал этого Дальре! Придя в тот день домой и увидав, как он у нас расселся, я так взбесился, что тут же повернул обратно в поля. Жнецы уже взялись за пшеницу. Мозес и остальные мои работники и все люди с фермы Николаса – его пшеница была убрана. Они, должно быть, не ожидали, что я вернусь так скоро. Я подошел к ним незаметно и замер, услыхав, о чем они говорят. Убийства и разбой. Чудовищное бешенство обуяло меня. Я заорал на них и схватил серп, чтобы порубить их на месте. И вдруг в глазах у меня все померкло. И с того времени я лежу тут, как младенец. Я бы, наверно, остановил их. Но что проку в добрых намерениях? Господь не принимает их в расчет. Когда ковчег господен привезли на гумно Хидона и волы споткнулись, Оза протянул руку, чтобы придержать его. Но бог убил его на месте. Вот и вся благодарность божья. Суета сует – все суета.
Галант
 Хозяева мертвы, но мы еще не свободны. Разве бык становится свободным только от того, что с него сняли ярмо? Страдая от одиночества, ты спишь с женщиной – разве ты чувствуешь от этого себя менее одиноким? Если бы знать заранее, скольких ошибок можно было бы избежать. Но как можно знать что-нибудь заранее? Все понимаешь только после того, как испытаешь сам. Интересно, не так ли обстоит дело и со смертью?
Хозяева мертвы, но мы еще не свободны. Разве бык становится свободным только от того, что с него сняли ярмо? Страдая от одиночества, ты спишь с женщиной – разве ты чувствуешь от этого себя менее одиноким? Если бы знать заранее, скольких ошибок можно было бы избежать. Но как можно знать что-нибудь заранее? Все понимаешь только после того, как испытаешь сам. Интересно, не так ли обстоит дело и со смертью?
И все же тот час на чердаке – он был.
Я прячусь здесь, в горах, и мое время истекает. Я забрался очень высоко, к тому самому следу человека, что навеки впечатан в камень. Все остальные ушли. На закате меня покинул и Тейс. Он был последним. Ему, кажется, надоело бесцельно бродить вместе со мной по горам. Он, верно, ждал от меня чего-то другого – великих дел, которые могли бы все оправдать, чего-нибудь такого, что можно унести с собой в могилу и с чем не так страшно умирать. Он ведь еще очень молод.
Когда он ушел, внизу, в долине, послышались выстрелы. Может, его убили. Может, он сам кого-нибудь убил. Новые трупы.
Они знают, что я тут. Только темнота удерживает их. На заре они придут за мной. Я дождусь их с башмаками Николаса, связанными вместе и перекинутыми через плечо. Босиком легче, мне так привычней. Башмаки жмут.
Не знаю, будет ли стрельба, когда они придут. Убьют они меня на месте или попытаются взять живым. Схватят они меня или нет, теперь это уже не важно. Это ведь не имеет никакого отношения к свободе. Вот чего не мог понять Тейс.
Внизу, в долине, лежит Хауд-ден-Бек, хотя сейчас во тьме его не видно. Начало и конец всего. Я забрался высоко, почти до самых звезд. Небо ясное. Только в отдалении, в той стороне, где Кару, время от времени вспыхивают сполохи летней грозы. Бури проходят стороной. А здесь небо ясное.
Как хорошо я знаю мои горы. Но нынче ночью они словно отстранились от меня, хотя и стоят вокруг. Я еще здесь, но уже больше не с ними. Я теперь иду своей дорогой. Завтра, когда я уйду отсюда, и потом, когда я умру, каждая скала, каждый утес и куст – я уверен – останутся тут, но уже без меня. Они всегда были здесь. Они укрывали меня всю жизнь, согревая, словно в сложенных ладонях. Надо всеми моими радостями и горестями, приходами и уходами, трудом и отдыхом, страданиями, сомнениями и краткими мгновениями счастья всегда возвышались эти горы, добрые и надежные. Я не мог без них.
А они обойдутся без меня, теперь уже навеки. И все же меня одолевают какие-то странные сомнения: я знаю эти горы так, как никто другой, и, если я умру, что-то в них умрет вместе со мной – знание, которое я почерпнул, глядя на них, прячась в них, ощущая их вокруг себя. И я нужен им из-за этого знания. Тот отпечаток в камне схож с моим собственным.
Еще один дальний сполох. Вспыхнул, погас – так быстро, что не понять, был ли он на самом деле или просто привиделся мне. Нет, был.
А не привиделся ли мне тот час на чердаке?
На свой лад сполохи так же вечносущи, как горы. Глубоко в землю кладет свое яйцо Птица-Молния, и, когда приспеет срок, скорлупа трескается и огонь возвращается в мир – огонь, горящий, сжигающий и пожирающий все лишнее, чтобы жизнь могла родиться заново в красной траве, кустарнике, в маленьких желтых цветах, во всем, чему суждено расти. Подобно жизни в утробе женщины, яйцо Птицы-Молнии лежит в темноте, ожидая времени, чтобы появиться на свет.
Может быть, после моей смерти тут появится ребенок – мой сын.
Одиночество. С самого начала и всю жизнь. Когда мы были детьми, мне казалось, что Николас со мной, но это было не так. Потом я думал то же самое про Бет, но она отвернулась от меня. Памела была мне ближе всех, но она родила светловолосого ребенка. Я думал, что рабы и готтентоты – Абель и другие – со мной заодно, но и это длилось недолго. Я их, конечно, не упрекаю – одних запугали, другим помешали, – но так уж все получилось. Каждый вел свою собственную войну. На самом деле мы не были заодно. Мы никогда по-настоящему не понимали друг друга.
Эстер.
Неужели все было напрасно? Неужели мысль о свободе оказалась для нас непомерной? Только нынешняя ночь оставалась у меня на то, чтобы найти ответ. Завтра утром я спущусь с гор, а что будет со мной потом, я не знаю.
Живешь так, словно блуждаешь со свечой в темноте. За спиной, там, где только что было светло, смыкается тьма. Впереди, там, где скоро станет светло, тьма лежит непотревоженно. Только тут, где ты находишься сейчас, света достаточно, чтобы оглядеться по сторонам: один миг – и ты идешь дальше. Но в такую ночь, как нынешняя, все иначе – тьма позади и тьма впереди не могут осилить света, источаемого настоящим мгновением. Можно закрыть глаза, и все равно будет видно. Жизнь, бушующая в сердце у пламени. В падении камня заключена тишина – предшествующая и последующая.
Вот на что это было похоже там, на чердаке. Только тогда не было мыслей, одна лишь слепота поступка. А теперь мне нужно озарить его мыслью. Вот почему я оставил себе эту ночь, ведь куда проще было бы спуститься вниз вместе с Тейсом.
Я сделал все, что мог. В Новый год, когда Николас роздал нам одежду, и ничего больше, свет во мне умер. Что нам еще оставалось, как не развести новый огонь, чтобы согреться? Все мы, даже те, кого потом запугали и настроили против нас, держались тогда вместе. Это было важно. Этим огнем нам надо было выжечь сорняки, смыкающиеся вокруг нас. Но вскоре всех раскидало в разные стороны. И тогда остались только мы двое – Николас и я.
Бедняга Николас, ты, верно, думал, что все это было затеяно против тебя. Ты думал, что именно тебя мне хотелось убить – из-за того, что ты соврал своему отцу про льва, когда мы были детьми, или из-за того, что не пускал меня к запруде, когда купался там с Эстер, или из-за того, что ты порол и бранил меня, из-за того, что я попал по твоей вине в тюрьму в Тульбахе, или из-за чего-нибудь еще. Но дело вовсе не в тебе. В той чудовищной тишине ты стоял в проеме двери вместо многих других, ты занял их место. И не место своего отца, или Баренда, или Франса дю Той. В тот миг у тебя не было ни лица, ни имени. Ты стоял там вместо всех белых, вместо всех хозяев, всех тех, кто властвовал над нами, брал наших женщин и называл свои фермы Заткни-Свою-Глотку – Хауд-ден-Бек.
И бедняга Галант! Ты думал, что истребляешь хозяев, чтобы завоевать себе свободу, а все, что тебе удалось, – это застрелить одного человека. Ведь на изъеденной молью львиной шкуре лежали мертвыми не все белые хозяева, захлебнувшиеся собственной кровью, а лишь один человек, и это был Николас, которого ты когда-то считал своим другом и который должен был бы остаться им.
Сполох на горизонте.
На чердаке мы были вместе. Один-единственный час.
Неужели это было напрасно?
Мы не стали свободны. Но разве это значит, что свободы вообще не существует?
Да, конечно, мы проиграли. Но то, за что мы бились, живо без начала и без конца, подобно горам, подобно огню. А за это бороться стоило. Может быть, существуют вещи, во имя которых лучше проиграть, чем победить. А главное – попытаться.
Этого я бы никогда не сумел понять, если бы не попытался – вместе с горсткой людей – разбить цепь, называемую Хауд-ден-Бек.
Этого я не сумел бы понять, если бы не вспыхнул огонь того часа, проведенного на чердаке. Темный сполох.
Когда Тейс крикнул: «Вон он!», мы отскочили от двери и бросились за Барендом. Абель выстрелил, я тоже. Собаки лаяли как бешеные. Некоторое время мы еще гнались за ним вдоль изгороди, но ему удалось скрыться. В такой темноте бесполезно искать человека; если он дошел до гор, значит, ушел. Я понимал это.
Все кинулись к задней двери, которую он не затворил за собой. А я задержался во дворе и потом снова направился к сломанной передней двери. Возле дома стояла Абелева Сари с детьми – одного держала за руку, другого, завернутого в одеяло, на руках.
– Куда ты? – спросил я.
– Они все крушат в доме, – ответила она. – Детишки боятся. Они ведь маленькие. Поэтому хозяйка приказала мне…








