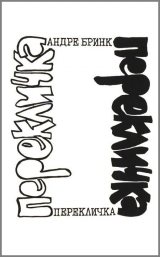
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 31 страниц)
– А потом там случилось ужасное происшествие, которого мне не забыть до самой смерти, – сказал я и сразу же понял, что говорить этого не следовало, ведь это и был тот самый темный поток – я мгновенно распознал его, но было уже поздно. Я на секунду запнулся.
– А что там случилось? – спросил он.
– Мы поднимались от Гринмаркет Сквер вверх к Львиной горе. Мимо нас прошел раб, спускавшийся с горы, молодой малаец в красном тюрбане, который нес охапку хвороста и топор. Не помню точно, как все это началось, должно быть, его кто-то толкнул, кажется какой-то солдат, и хворост упал на землю. Ремень, стягивающий его, ослаб, и охапка развалилась. Кто-то засмеялся. Кто-то сказал что-то язвительное. Когда мы оглянулись, то увидели, как малаец в бешенстве замахнулся топором на солдата. Солдат попытался защититься от топора, но удар пришелся ему по плечу, почти отрубив руку. Люди в ужасе закричали. Раб продолжал размахивать топором во все стороны. Я видел белки его глаз, пока он слепо наносил удары, ревя, точно разъяренный бык. И вдруг кинулся на толпу, раскидав ее, как ведро гороха, опрокидывая на своем пути прилавки и лотки, ведра и бочонки и продолжая размахивать топором. «Амок! Амок!» – закричали вокруг. Молодая девушка пыталась убежать, но споткнулась. Дочь полковника, как мне потом сказали. На ней было светлое желтое платье. Удар обухом топора пришелся ей сбоку по голове. Брызнула кровь. А потом он зарубил мальчика-раба. Тот, должно быть, думал, что все это какая-то забавная игра. Он смотрел и смеялся.
Мне хотелось замолчать, но я не мог остановиться.
– А дальше? – спросил Галант.
– Потом появились солдаты. Они окружили его, но он не желал сдаваться. И все ревел, будто бык. После того как он зарубил ребенка, на площади, до отказа забитой людьми, воцарилась мертвая тишина. Сотни людей – и ни единого движения, ни единого звука. И кругом раскиданы товары – фрукты, овощи, яйца, кожи. И только бабочка порхала над букетом цветов. Было так тихо, что казалось, будто слышишь трепетанье ее крыльев. Все словно дыхание затаили. И только солдаты в алых мундирах очень медленно и осторожно приближались, взяв его в кольцо. И тут безумец снова ринулся в атаку. Пригнув голову и высоко подняв топор, он с ревом накинулся на солдата, попытавшегося схватить его. Топор обрушился солдату на голову. Какой это необычный звук! Череп раскололся пополам точно тыква. Странно все это выглядело: из-за тишины казалось, что все происходит очень медленно, каждое движение начиналось, завершалось, а потом начиналось другое. Все порознь. И бессмысленно. Но когда он ударил топором солдата, все пришло в движение. Солдаты открыли огонь. На площади было полно людей, и несколько человек задело пулями. Раб упал наземь, судорожно дергая руками, и покатился в пыли, корчась и извиваясь, как змея.
– Что они с ним сделали?
– Уволокли прочь. Мы ушли оттуда. Мне стало плохо. Не мог же я стоять и таращиться на это, как стервятник на падаль.
– А потом? – настаивал он. – Что было потом?
– Не знаю. Мы на следующее утро уехали. Думаю, его повесили. А может, сначала избили и отрезали уши. Я не знаю, как это теперь делается.
– А где они его повесили?
– Виселица установлена за городом, прямо под Львиной горой. Три высоких столба с тремя поперечными брусьями.
– И много людей ходит смотреть на это?
– Должно быть, много. По-моему, казни на виселице – одно из самых популярных зрелищ в Кейпе.
– А потом?
– Что «потом»?
– Потом, после того, как его повесили?
– Откуда я знаю? Думаю, что тело убийцы потом четвертуют, а голову насаживают на столб в тех краях, где он жил, чтобы другим было неповадно.
– И там она и остается все время?
– Потом, наверно, слетаются стервятники.
Он долго молчал. И вдруг сказал:
– Но зато он прикончил солдата.
– О чем это ты? – =-испуганно спросил я.
– Ты же сам сказал, что он убил солдата.
– Да, сказал.
– А другие, их он тоже убил?
– Не знаю. Ребенок, скорее всего, умер. – Я вздрогнул от накатившей на меня, как в тот день в городе, тошноты. – Можешь ты себе такое вообразить? Этот малаец, верно, был не в своем уме.
– Они же раскидали его хворост, – возразил он.
– О господи, да что такое вязанка хвороста?
Он не ответил, а мне расхотелось говорить. Я понимал, что совершил ошибку. Скрытый поток вырвался из-под такой, казалось бы, твердой почвы, и мы оба погрузились в него, молча борясь с его водами, чтобы не утонуть в их мраке.
И прочие воспоминания вдруг нахлынули на меня, все те, что я старательно отгонял от себя после злополучного визита в город. Ведь моя последняя поездка была отнюдь не такой приятной, как предыдущие, и вовсе не такой, какой я живописал ее себе и Галанту. Темный подземный поток ощущался постоянно. Прибывший в Кейптаун флот принес с собой не только яркое ощущение праздника, но и всевозможные слухи, тем более тревожные, что никто доподлинно не знал, какие из них соответствуют истине, а какие нет. Весь город гадал и судачил. Но по крайней мере одно было ясно – и намеки в газетах подтверждали это, – что филантропы в Англии, обеспокоенные потоками зловещих сообщений от миссионеров из Кейпа – кучки введенных в заблуждение идиотов из Лондонского миссионерского общества, – усилили нажим на правительство, требуя освободить наших рабов. И в те дни, я слышал, поговаривали о том, что закон, согласно которому готтентоты обязаны жить и работать в одном месте, будет вскоре отменен и они получат право (только представьте себе это!) уходить от хозяина, когда пожелают. Несколько человек отправились к губернатору, чтобы выяснить, так ли это. И какой ответ они получили? «Вопрос рассматривается». Ни малейшей попытки опровергнуть слухи, одно лишь стремление скрывать все как можно дольше – они знали, что мы все равно в их власти. Кое-кто говорил, правда, что и сам губернатор не вправе поступать так, как считает нужным, и должен ждать приказа из-за моря. Никто не знал наверняка, что произойдет и когда. В один прекрасный день может приплыть корабль из той далекой страны, в которой никто из нас не бывал и где, похоже, придумываются все на свете законы, – приплыть, чтобы подтвердить самые худшие наши предположения. А что станет тогда со всеми нами? Одно дело – тяготиться жизнью на ферме и мечтать о какой-то иной, и другое – оказаться вышвырнутым со своей земли по воле чужеземцев, в никуда и ни с чем. А именно это и случится, если они вдруг заявятся к нам, чтобы отобрать наших рабов. Как же нам справиться тогда с этой дикой страной? Она огромная, а нас так мало.
Но даже и столь печальная перспектива сама по себе еще не самое страшное. От чего я действительно приходил в ярость, так это от бессильного осознания той истины, что вся наша жизнь зависит от каприза или прихоти далекого врага, которого мы никогда не видели и которого нет возможности переубедить. Что бы мы ни решали и ни задумывали, не играло теперь никакой роли: в любой миг в нашу жизнь могут вмешаться незримые силы, глумливо посмеяться над нами и разрушить все наши замыслы.
Прежде я нередко спорил с Барендом и осуждал его за слепую ненависть к англичанам: я не мог привести подобное бунтарство в согласие с заповедью господней, требующей подчинения властям, ниспосланным свыше. Но во время последней поездки в Кейптаун я убедился, что Баренд, по сути дела, прав. Их вина не в том, что они англичане, а в том, что они иностранцы, чужаки в нашей стране, и, управляя ею издалека, отняли у нас власть над нашим благополучием и нашим будущим. Прежде, сколько я себя помню, мы всегда сами вели свои дела и принимали решения, все продумывая и взвешивая. Самым страшным было то, что нас лишили возможности распоряжаться своим будущим. Отними у человека будущее – и ты отнимешь у него достоинство. Одно немыслимо без другого. Кое-кто из горожан насмехался над нами: «Вы просто слишком обленились и не желаете работать», «Как вы можете жаловаться на опасность потерять свободу, если сама ваша свобода основана на рабстве?» или: «Единственное, чего вы хотите, – это властвовать над другими. И дело тут не в свободе, а только в стремлении властвовать». Они ничего не понимали в сути того достоинства, без которого твое существование оборачивается издевкой над самим собой. Им-то жилось спокойно и легко, да и что они могли знать о нашей жизни тут, далеко за горами, о горстке людей, которой предначертано укрощать эту дикую страну, дабы все остальные могли жить в ней, ничего не страшась. Разве мы сами решали, быть нам тут или не быть? Как бы мы могли выжить тут, если бы сам господь не пожелал этого? Даже я, бунтовавший против цепей, которыми был прикован к ферме, обязан смириться перед его волей. А разве это мыслимо, если ты не веришь в конечную цель, стоящую за каждодневным трудом в поте лица твоего? И разве могла существовать цель иная, чем укрощать и обживать эту дикую страну? Прошлое было для меня сплошным хаосом, настоящего я не понимал, и единственное, за что я цеплялся, было будущее, а оно залегало в самой почве этой угнетавшей меня страны. В этом была двусмысленность моего существования: подчинение земле означает подчинение господу. Только так все это и можно вынести. Но чтобы принять эту предначертанную мне судьбу, эту слабую веру в будущее, на моей ферме должно царить благоденствие, а для этого мне приходится прибегать к помощи тех, кого ниспослал мне в помощь господь. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу[19]19
Послание к ефесянам, 6:5.
[Закрыть]. Зачем же господь в своей беспредельной мудрости ввел во грех Хама, если не для того, чтобы его хозяева могли благоденствовать в стране, дарованной им свыше? И сказал: Проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих[20]20
Бытие, 9:25.
[Закрыть]. Откуда всем тем людям из Кейптауна было знать, что наша потребность в рабах не имела ничего общего с желанием угнетать других и властвовать над ними, а была вызвана лишь осознанием своей ответственности перед будущим?
Даже среди тех, с кем я беседовал в Тульбахе, находились слабаки, размякшие и готовые капитулировать перед правительственным курсом. Старый Карел Терон попыхивал трубкой в окружении девяти сыновей и провозглашал с величайшей убежденностью:
– Есть только один способ перехитрить этих ублюдков. Поступайте как я, продайте рабов, пока за них еще можно выручить хорошие деньги. Тогда правительство и пальцем вас не тронет. Только так и можно стать свободным.
– Но не у всех нас есть по девять сыновей, – напомнил я ему.
Он пристально поглядел на меня.
– В таком случае отправляйся к жене и принимайся за дело. Ты молодой мужик, черт тебя подери. Или с тобой что-то не так?
Словно его подучила Сесилия.
– А пока они подрастут, – сказал один из его сыновей, – попроси соседей помочь тебе. Для чего же еще существуют соседи?
– Хорошо вам говорить, – ответил я, – вы тут в Ваверене живете близко друг от друга. А как быть нам в Боккефельде и других местах?
– А о чем вы думали, когда строили там свои фермы?
– В те времена трудностей с рабами не было.
– Ну, наймите готтентотов.
– Скажете тоже, – вмешался фермер из Пикетберха. – Даже при нынешнем положении дел они умудряются удрать, когда им вздумается. А что начнется, когда по закону им не надо будет работать на одном месте? Разве вы ничего не слышали? В один прекрасный день у нас не останется ни единого надежного работника, а все, что мы сможем вырастить, растащат бродяги.
– Пока еще есть время, – ответил старый Карел. – Ведите хозяйство по-новому или перебирайтесь в другие места. Никто не заставляет вас оставаться в Боккефельде.
– И это, по-вашему, называется свободой? – спросил я. – Менять всю жизнь только ради того, чтобы подладиться к властям?
– Закон есть закон.
– Но такого закона еще нет.
– Так скоро будет, все идет к этому. Неужели не видите? Лучше сейчас все изменить, чем потом кусать себе локти.
– Ну а сами рабы? – задал я вопрос, который не раз задавал и Баренду. – Что станет с ними, если мы просто выгоним их с ферм? Деваться им некуда. Они умрут с голоду. Мы нужны им куда больше, чем они нам.
– Когда у вас не будет рабов, вам незачем станет и беспокоиться о них, – сказал старик, подзывая сыновей.
В Кейпе, перед возвращением домой, мой последний довод в спорах был неизменно таков:
– Пусть англичане попробуют дать рабам свободу. Сами увидят, что из этого получится. Если хорошо обращаться с рабами, они не уйдут от тебя, даже если по закону их освободят.
– Почему ты так в этом уверен? – резко возразил кузен Сесилии, управляющий на винодельческой ферме неподалеку от Ерсте Ривер.
– Я своих рабов хорошо знаю, – ответил я. – И уверен, что они мне преданы.
И вот, вернувшись домой, я вижу, что Галант – раб, которому я доверял больше других, – зарезал моих овец. Как тут не выйти из себя? Ведь речь шла не просто об овцах или обманутом доверии, речь шла о гораздо более важном – о моей и без того подорванной вере в будущее.
И вот теперь мы брошены вдвоем в тесную пещеру в горах – прямое следствие всего, что происходило до сих пор; меня обуревали воспоминания о бесконечных спорах, яростных перепалках, внезапных вспышках раздражения, неожиданной ярости, возникавшей между людьми, которые прежде были друзьями – в Кейптауне, в Тульбахе, везде, куда бы ты ни попал, – словно сам дьявол вселился в нас, чтобы довести до погибели даже прежде, чем нас погубят власти. Эти воспоминания камнем лежали у меня на душе, пока в тишине, воцарившейся вслед за моим рассказом об одержимом амоком малайце, я сидел рядом с Галантом.
Молчание становилось все более гнетущим, я чувствовал, что Галант снова весь напрягся. Или он просто не мог прислониться к стене из-за своей израненной спины? Я хотел было спросить его, так ли это, но решил, что мой вопрос неуместен, ведь я все равно ничем не мог помочь ему, по крайней мере сейчас. К тому же он заслужил наказание, разве не так? Лучше преподнести ему болезненный урок – болезненный не только для него, но и для меня, – чем позволить событиям окончательно выйти из-под контроля. Впереди у нас долгий путь, очень долгий, и нам предстоит пройти его вместе. И я страстно желал передать ему свою убежденность, сказать: Ради бога, Галант, ведь мы же с тобой понимаем друг друга. Мы нужны друг другу. Мы товарищи. Прошлое не имеет значения. Главное – это будущее. Мне не обойтись без тебя, черт тебя подери.
Но сказал я совсем другое.
– Галант, забудем обо всем, я хочу, чтобы ты по-прежнему оставался мантором.
– Решать – это твое дело.
– Я даю тебе еще одну возможность начать все сначала.
Он ничего не ответил. Должно быть, история с малайцем все еще занимала его мысли – как, впрочем, и мои. И все же следовало рассказать ее, ради него и ради меня самого. Ни он, ни я не могли больше прикрываться нашей былой невинностью. Ведь мы уже вкусили от запретного плода – где-то, когда-то на долгом пути, пройденном нами с того давнего дня, когда своды нашей норы обрушились на нас, до этой мрачной ночи в горной пещере.
Я не мог больше выносить его молчания и выбрался наружу. Ветер чуть не сбил меня с ног, от холодного сырого воздуха перехватило дыхание. Туман клубился по-прежнему. Над головой внезапно приоткрылась полоска темного неба с удивительно яркими точечками звезд и с месяцем, похожим на обрезок ногтя. Но затем все снова заволокло пеленой. С трудом удерживая равновесие, я встал, широко расставив ноги, и начал мочиться, обрызгивая штаны. Казалось, будто что-то тяжело наваливается на меня и сжимает со всех сторон. Теперь я понял, что гнетущее чувство, которое я ощущал, сидя в пещере, было вызвано не близостью Галанта и не теснотой, а мрачным осознанием того, что сам Боккефельд сжимается вокруг меня, что границы моего мира сужаются, уменьшая пространство отпущенной мне свободы. Сколь долго мы сможем справляться с собой и сдерживаться, сколь долго сможем примирять наши представления о справедливости с требованиями текущего дня? Выжить, но какой ценой? Малаец, повешенный и четвертованный на площади возле Львиной горы в Кейптауне. Галант в пещере под скалами, избитый, чтобы напомнить нам обоим о том, что я хозяин, а он – раб, о том, что в этой стране без этих уз, предписанных самим господом, никому не выжить. Все так запуталось, что уже трудно что-либо понять. Напрягшись под ветром, я слепо подставил лицо мокрому туману, испытывая пугающий восторг – словно мне нужно было претерпеть наказание, но не для того, чтобы очиститься, а для того, чтобы выжить. Опять это слово. И теперь мне уже никуда от него не деться.
Я так застыл от холода, что не сразу заметил, как ко мне подошел Галант и схватил меня за плечи.
– Что ты тут делаешь? – заорал он. – Опять ищешь смерти?
– Нет, – пробормотал я онемевшими губами. – Конечно, нет.
А может, он был прав? Со странной покорностью я позволил увести себя за руку обратно в наше укрытие, где уже погасли последние угли и где нас согревало лишь тепло наших дрожащих тел, прижавшихся друг к другу, как в детстве.
Трудно было представить, что мы сможем заснуть, но от изнеможения мы все же погрузились в оцепенение, от которого очнулись – сначала я, потом он, – лишь когда жесткий бесцветный свет проник в нашу пещеру. Мы с трудом заставили себя встать и выбраться наружу. Ветер утих. Туман то редел, то снова сгущался. Галанту приходилось хуже, чем мне, – его тело было изранено. Я избегал смотреть на него. Ни один из нас не произнес ни слова: переживания прошедшей ночи казались сейчас слишком далекими и слишком интимными, чтобы их можно было выразить словами. Притопывая ногами и согревая дыханием ладони, мы с трудом размяли затекшие тела, отвязали лошадей и двинулись в сторону дома – к мелкому моросящему дождю и резкому северо-западному ветру над зимним Боккефельдом. В Эландсфонтейне я остановился, чтобы выпить чаю, а тем временем Галант с Абелем кормили лошадей. Баренд ушел в поле, но Эстер была дома – еще более отчужденная и молчаливая, чем прежде; она носила ребенка – своего второго сына.
Абель
 «Поглядите-ка на этого оборванца!» Это баас Баренд первым так его обозвал. А потом и мы все стали так его называть. Но только за глаза и когда были уверены, что он далеко и не услышит, ведь нрав у Галанта крутой. Только Голиаф однажды рискнул сказать ему в лицо, конечно в шутку: «Эй, оборванец, послушай-ка!» – но то было в последний раз, и нам пришлось тащить Голиафа к воде, чтобы привести в чувство.
«Поглядите-ка на этого оборванца!» Это баас Баренд первым так его обозвал. А потом и мы все стали так его называть. Но только за глаза и когда были уверены, что он далеко и не услышит, ведь нрав у Галанта крутой. Только Голиаф однажды рискнул сказать ему в лицо, конечно в шутку: «Эй, оборванец, послушай-ка!» – но то было в последний раз, и нам пришлось тащить Голиафа к воде, чтобы привести в чувство.
Все дело было в жакете, в котором он так щеголял поначалу. Думали, что он выкинет его, когда жакет превратился в жалкие лохмотья, но не тут-то было – он упрямо продолжал носить его. И вовсе не стыдливо, а гордо, словно бы желал, чтобы весь мир глядел на него. «Это жакет моего ребенка, – объяснил он мне, ведь мы с ним близкие друзья, и он обычно говорил мне даже то, что не рассказывал никому другому. – Я получил его за Давида. И никогда не расстанусь с ним». Очень упрям бывал этот Галант, когда что-то западало ему в душу.
В то холодное утро с моросящим дождем и первым зимним туманом, когда они вернулись из Тульбаха, мы с Клаасом пилили дрова на заднем дворе. Клаас вечно заставлял меня пилить дрова, если хотел поизмываться надо мной. Знал, что я не выношу этого занятия. Но что поделаешь, ведь его сделали мантором, и теперь он только и искал случая, чтобы нажаловаться на меня баасу. С того самого времени, когда баас Баренд купил меня на аукционе в Вагендрифте вместе с кроватью, двумя баранами и ящиком фаянсовой посуды, мантором был я. И я оставался им до той поры, пока у Галанта не начались неприятности с баасом Николасом после возвращения того из Кейпа. В его отсутствие мы устраивали празднества, самые шумные, какие только бывали в здешних краях, уж можете мне поверить, ведь я вырос тут, на ферме Вагендрифт. Ферма эта лежит на изгибе узкой долины, идущей кверху от Эландсфонтейна, там, где горы сворачивают вправо, к Хауд-ден-Беку. Старый баас Пит всегда хотел выторговать ее себе, потому что она врезается в его угодья, но Франс дю Той держался за нее даже после того, как умер старик и хозяйка, рассорившись с сыном, продала все остальные земли. Так что я знаю всех в здешних местах. Я подружился с Галантом еще в детстве, когда мы вместе гоняли быков на зимние пастбища в Кару. Да и потом мы часто видались с ним, то тут, то там. Но за все эти годы нам никогда не выпадало времени вроде того, когда баас Николас уехал в Кейп, да еще вдобавок баас Баренд на целых две недели отправился на охоту. То было в ту пору, когда в Эландсфонтейне все суетятся, коптят колбасы, вялят и солят мясо на долгие зимние месяцы. Я всегда слыл на ферме охотником, но в тот раз мы рассорились с баасом из-за ружья – он заявил, будто я сломал ружье, и не взял меня с собой. И это, ясное дело, взбесило меня. Ну а те ночные праздники, тут, думаю, мы немного хватили лишку, что потом и расхлебывали. Не спорю, работали мы в отсутствие бааса не так, как надо, но дело было не в этом, а в том, что я дерзко ответил хозяйке. А все из-за ночной гулянки. Я и в самом деле хотел как лучше. Я собирался остаться дома, чтобы, когда баас Баренд вернется на следующее утро, я мог прямо поглядеть ему в глаза. Но ночью ко мне нагрянули гости. Галант и все остальные верхами, ища что-нибудь выпить. «У меня-то, друзья, ничего нет, – сказал я, – но я помогу вам раздобыть выпивку». И мы отправились на близлежащие фермы. А когда я утром вернулся домой, Клаас уже работал, и хозяйка спросила, где я пропадал. Голова у меня раскалывалась, глаза слипались, и ответ у меня, должно быть, вышел дерзкий, а Клаас, конечно же, донес об этом баасу, когда тот вернулся. «А когда станете говорить с Абелем, – сказал Клаас, – спросите у него, как он проводил все ночи, пока вас не было». Словно этот ублюдок сам не пьянствовал вместе с нами. Я как мог пытался оправдаться, но что толку, несделанная работа говорила сама за себя. Порка меня не особенно обидела, что заслужил, то и получил, нечто вполне привычное, вроде солнца или дождя в Боккефельде. Но о чем я в самом деле горевал, так это о том, что баас положил конец моему манторству, единственному, чем я по-настоящему гордился. А чтобы допечь нас как следует, еще назначил мантором Клааса, этого вонючего ублюдка.
А две недели спустя, когда заноза еще сидела у меня в сердце, баас Николас с Галантом подъехали, вынырнув из тумана, к Эландсфонтейну.
– Ну и вид у тебя, приятель! С чего это? – спросил я, хотя Онтонг уже рассказал о той знаменитой порке, когда приезжал к нам с копченым окороком для ной[21]21
Госпожа; почтительное обращение к белой женщине (африкаанс).
[Закрыть] Эстер.
– Ходил в Тульбах, – хмуро ответил Галант. – Пошел жаловаться, а получил только еще одну порку.
– Да, плохи твои дела, – сказал я. – Ты ведь всегда ходил у бааса в любимчиках.
– Погляди, что он сделал с моим жакетом.
– Стоит ли так горевать из-за жакета?
– Стоит, потому что это жакет моего сына. Я получил его за Давида. Никто не смеет рвать его.
– Пошли выпьем чаю, – сказал я, пытаясь успокоить его.
– Сам лакай свой чертов чай, – мрачно буркнул он.
– Сари нальет тебе чай.
– Мне все равно, кто будет его наливать.
– Ладно, пошли, дружище.
В жизни не так много вещей столь горьких, чтобы их нельзя было излечить сладкой женщиной и сладким чаем. Вот, к примеру, бушевый чай – в нем весь солнечный свет и вся дождевая влага гор, он вбирает свой вкус из земли и из горного тумана, а потом отдает его нам. Его высушивают в печи, чтобы он стал сладким, потом колотят и топчут, а взамен он одаряет тебя самой сладчайшей сладостью. Так же бывает и с женщиной.
Можно сказать, что я очутился в Эландсфонтейне из-за Сари. Я познакомился с ней в первый же день, когда она появилась в здешних местах, хотя в ту пору я еще жил в Вагендрифте. Так пчелы улавливают запах распустившихся цветов. В наших краях, где женщин мало, стоит только появиться новенькой, как мужчины тут же узнают об этом. В тебе словно что-то набухает: в воздухе ощущается свежий аромат. Когда Сари бывала со мной, она изумляла меня своей щедростью. В те прежние дни старый баас дю Той освобождал меня от работы в воскресенье, и я старался уже в субботу добраться до Эландсфонтейна засветло. И если погода стояла теплая, мы ускользали от остальных и проводили ночь в зарослях бушевого чая в горах. В такие ночи я не давал ей уснуть до рассвета, да и весь следующий день тоже. Временами я брал скрипку и играл для Сари. Ради нее я готов был заставить сами горы пуститься в пляс. А потом снова наваливался на нее и играл на ней как на скрипке, пока она не начинала стонать и вскрикивать от наслаждения – лучшая музыка на свете. И так все воскресенье до самого вечера, пока у меня почти не оставалось сил, хотя я и не мог насытиться вдоволь. Так это было у меня с Сари. А когда ночь заполняла впадины между холмами, подобно набухающему и выходящему из берегов зимнему болоту, я уже был высушен до последней капли. В понедельник я едва передвигал ноги, пошатываясь, как больной. Во вторник силы понемногу возвращались ко мне. А в пятницу я до мяса обкусывал ногти от тоски по Сари.
А потому ничего удивительного, что, когда старая хозяйка рассорилась с сыном и начала продавать имущество, я решил прибиться к женщине, к которой пристрастился. На аукционе была большая толпа, и я многим, похоже, приглянулся, в том числе и самому Франсу дю Той, но у меня не было ни малейшей охоты оставаться у него. Не то чтобы он был особенно строг с рабами – в этих краях по строгости никому не сравняться с Барендом ван дер Мерве, – но с ним никогда не знаешь, чего ожидать – сегодня так, а завтра по-другому. Была пятница, и я поднажал на бааса Баренда. «Баас, – сказал я ему, – купите меня. Обещаю, что вы не пожалеете об этом».
У этого человека сердце доброе, несмотря на его дурную славу, что он и доказал, купив не только меня, но и мою скрипку, чтобы не лишить меня радости. Себе он купил кровать, двух баранов и ящик посуды, но скрипка была куплена для меня. И в ту же ночь снова слышались пение, стоны и вскрики в зарослях бушевого чая.
Так что я знаю, о чем говорю, когда предложил Галанту: «Пошли. Сари нальет тебе чаю». Ведь теперь она была моей, а я всегда был готов поделиться с друзьями своими радостями и чаем, да и Сари была такой же.
Как я и предполагал, это ему помогло. Чай прогнал его угрюмость, сладость чая принесла ему успокоение.
– А теперь рассказывай, что там произошло, – сказал я, когда Сари налила ему вторую кружку и мы ушли за дом, где можно было укрыться от моросящего дождя и поглядывать на ворота, чтобы баас Баренд не застал нас врасплох. – Как дела в Тульбахе?
Он устроился на поленнице дров возле печки, не решаясь прислониться к стене.
– А знаешь, – сказал он, уставясь в туман, словно видел что-то далеко за горами, – а знаешь, что есть место, куда рабы могут убегать и где их никто не найдет?
– Где это такое место?
– За Великой рекой. Там много беглых рабов.
– Навидался я того, что бывает с рабами, которые убегают.
Он будто не слышал меня, просто сидел, уставясь на что-то вдали, отчего мне стало не по себе, а когда наконец заговорил, то казалось, будто он разговаривает сам с собой. Он рассказал о мужчине, которого повстречал в тюрьме и который, должно быть, сбежал во время тумана. Рассказал про раба в Кейпе, одержимого амоком, голову которого насадили на кол, чтобы ее клевали стервятники.
– Плюнь ты на это, – сказал я. – Ты же вернулся домой.
– Я-то вернулся, – ответил он. – Но сердце мое не вернулось.
Мне случалось встречать людей, глядящих вот так и словно не видящих того, что происходит у них прямо перед глазами, и я не на шутку встревожился – ведь я люблю Галанта.
– Возьми себя в руки, дружище, – сказал я. – Всех нас порют. Не так уж это страшно.
– Дело не в порке. – Он снова уставился вдаль, глядя как бы сквозь меня, и спросил: – И это ты называешь жизнью, Абель?
Я рассмеялся, хотя на душе у меня было неспокойно:
– А чего еще нам ждать? Не скажу, что наша жизнь особенно легкая или веселая. Но и у нас есть свои радости. Можно выпить сладкого чаю. А можно медовухи и даже бренди, если быть порасторопней. А когда жизнь кажется слишком мрачной, можно выкурить немного дагги[22]22
Наркотическое вещество.
[Закрыть]. А кроме того, есть еще женщины.
– И ты думаешь, что этого довольно?
– Ничего я не думаю. Просто так уж устроена жизнь. Ты рождаешься на свет, какое-то время живешь, а потом умираешь. Это суждено всем: тебе, мне, всем людям. И что в этом плохого?
Он снова глядел в моросящий дождь, чуть прищурившись от ветра.
– Мы намертво прикованы к этой жизни.
– У тебя болит спина, вот потому ты так и говоришь, – сказал я. – Попроси у мамы Розы какие-нибудь снадобья, когда поедешь мимо, и через пару дней все как рукой снимет.
– Да при чем тут моя спина! – Он вскочил, словно у него засвербило в заду. – Все-таки чего-то я никак не в силах понять, Абель. Когда меня отвязали от столба в Тульбахе, я был готов задушить Николаса голыми руками. Но вот теперь я сижу тут, и знаешь, что хуже всего? Что мне его даже жалко. – Он злобно сплюнул, едва не угодив в меня. – Мне никак не понять этого. Я вообще ничего не могу понять.
– Я принесу тебе еще чаю.
– Иди ты со своим чаем… – Он шагнул вперед, но вдруг остановился. – Как ты думаешь, Абель, тому мужчине в цепях удалось убежать?
– Почем я знаю?
– Я спрашиваю тебя. Мне нужно знать. Мы сидели вместе всю ночь. В темноте он был похож на льва. А прошлой ночью, когда опустился туман, я все думал: «Вот если бы ему удалось убежать. Они ни за что не нашли бы его в таком тумане, и он сумел бы добраться до Великой реки». Ну что ты на это скажешь? Я спрашиваю тебя. Мне хотелось, чтобы он убежал. Не только ради него. Но и ради меня самого. А если ему это не удалось…
– Что проку есть себя поедом, Галант?
Но он не слышал меня.
– Пока я сидел с ним, я все время молил о том, чтобы это чертово здание рухнуло и он убежал. Ничего в своей жизни я еще не хотел так сильно.
Странно, что он тогда упомянул то здание, думал я потом. Ведь всего пару дней спустя до нас дошли вести о том, что в Тульбахе была ужасная буря. Вроде бы это случилось как раз той ночью, когда Галант уехал оттуда. Весь фронтон дома, где была тюрьма, пошел трещинами до самого основания, и дождь хлестал прямо в подвал. Были выбиты почти все стекла и смыты опоры задней веранды и некоторые пристройки.
Когда я рассказал об этом Галанту, он вроде бы немного успокоился. Но на том дело все же не кончилось. Ничто не исчезает без следа. Вроде того, как ручеек бежит, а потом пересыхает – но под землей он продолжает свой путь, невидимый для глаз, и вдруг снова выходит на поверхность, где его совсем не ждешь. В конце зимы, когда разгулялся северо-западный ветер, Франс дю Той, которого недавно сделали филдкорнетом, привез сообщение о том, что из-за серьезных повреждений здание суда в Тульбахе закрыли и ланддрост перебрался в Ворчестер. Подумать только, туда добираться от нас на целый день дольше. Должно быть, сказал я Галанту, они сделали это просто для того, чтобы нам труднее было ходить жаловаться. Но он ничего не нашел в этом смешного. Во всяком случае, это ударило и по карманам хозяев, ведь для того, чтобы оплатить ремонт в Тульбахе, был введен новый налог на рабов во всей местности, от Ворчестера и Тульбаха до Теплого Боккефельда и дальше, до Холодного Боккефельда, и еще дальше, до самых дальних горных областей: два риксдалера за каждого взрослого, и за мужчину, и за женщину, и несколько шиллингов за детей. Ну и ладно, подумал я, пусть себе эти поганые голландцы раскошеливаются. Но баас Баренд так взбеленился, что мы старались держаться от него подальше. К счастью, к этому времени хозяйка родила второго ребенка, еще одного мальчика, и баас на радостях позабыл обо всем. Расхаживал по ферме с таким видом, будто он единственный мужчина на свете, у которого родился сын. Нам всем выдали двойную порцию бренди и зарезали овцу, и в ту ночь моя скрипка снова пела и стонала, точно Женщина в объятиях мужчины.








