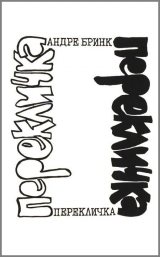
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
Согласно заявлению чиновника, которое молодой пандур переводил, запинаясь от страха, правительству было известно о наших тревогах и оно провело тщательное расследование нынешнего положения дел. Подробное сообщение уже отослано королю Англии, и через некоторое время будет получен ответ. Если Британское правительство решится на освобождение рабов – разумеется, при условии достаточной денежной компенсации, – нам будет объявлено об этом заблаговременно. Все выяснится к концу года. Если к этому времени мы не получим никаких известий, то это будет означать, что мы вольны жить, как жили. Если же что-то изменится, то к рождеству или к Новому году по всей колонии будут разосланы курьеры с подробными инструкциями.
Кое-кто из фермеров ворчал по поводу новой отсрочки. Кое-кто даже грозился напасть на переводчика-готтентота, словно это он был во всем виноват. Но в дверях стояли одетые в красные мундиры солдаты, готовые воспрепятствовать любым беспорядкам. Однако большинство присутствующих были согласны принять официальный ответ. Нельзя же требовать, чтобы решение было вынесено уже на следующий день. Я тоже был вполне готов подождать до Нового года: зато тогда мы будем знать наверняка, являемся ли мы хозяевами на своих собственных фермах и над нашими рабами.
Слышались здесь и такие разговоры, что, мол, нечего сомневаться в решении правительства и нужно самим положить конец этому состоянию двусмысленности, освободив рабов немедленно. Я много размышлял над этим по дороге домой. Ну предположим, я даже захочу освободить своих рабов – но что будет с рабами на соседних фермах? Такое положение, несомненно, приведет к печальным последствиям. Каждый человек должен считаться с соседями: никто не вправе поступать так, как ему вздумается. И кроме того, Новый год уже близок, ждать осталось недолго.
Так что не могу сказать, что мысли о сделанном за поездку не приносили мне удовлетворения. Конечно, доволен я не был, но и особенного недовольства тоже не испытывал.
В узкой высокогорной долине, блеклой в свете летнего солнца, фургон, казалось, катился сам собой. Волы, должно быть, унюхали запах пастбищ Хауд-ден-Бека, передние начали весело бодаться, так что Рою пришлось хлестнуть их бичом и отойти в сторону.
Я, разумеется, сделал остановку в Эландсфонтейне. Еще издали я стал высматривать, не мелькнет ли платье Эстер. Но Баренд был дома один. Эстер ушла в вельд, ответил он на мой вопрос. Похоже, ничто не могло приручить ее к дому. Мы сидели в прохладной комнате, попивая свежий кофе, привезенный мною, а Кэмпфер вместе с работниками расположился в тени на дворе. В окно я видел, как он удобно уселся на корточки, охотно отвечая на их возбужденные расспросы про Кейптаун, пока я рассказывал Баренду о своей поездке, о ценах, по которым были проданы продукты, о покупке новых ружей и найме учителя.
– Почему ты так рвешься дать своим дочерям образование? Ты что, думаешь, что они будут жить в городе?
– Это все Сесилия, – ответил я. – И кроме того, они ведь девочки. Нельзя же их воспитывать столь же вольно, как мальчиков.
Он насмешливо глянул на меня из-под темных бровей.
– Ну еще бы, – сказал он. – Девочек тебе, конечно, воспитывать проще, чем мальчиков.
– Я не променял бы своих дочерей ни на каких мальчиков.
– Не сомневаюсь. И все же жаль, если в один прекрасный день Хауд-ден-Бек окажется без наследника и попадет в чужие руки.
Я умышленно пренебрег его ехидным замечанием и переменил тему разговора:
– Тут ничего не случилось, пока меня не было?
– Все в порядке. Я через день наведывался в Хауд-ден-Бек. Галант, похоже, наконец образумился. Во всяком случае, наглости у него поубавилось.
– После Нового года мы все заживем еще лучше, – сказал я.
– Что ты имеешь в виду?
Я начал рассказывать ему о собрании в Кейптауне. Посреди разговора в комнату вошел Абель, прервав нас каким-то дурацким вопросом о мотыге. «Я скоро приду», – раздраженно ответил ему Баренд. Но Абель все равно вертелся неподалеку, пока я продолжал рассказывать. Потом мы вышли во двор, товары Баренда были уже выгружены. И вскоре мы снова двинулись в путь, но уже без старого Мозеса, которого я отправил обратно на пастбище отца, подарив ему табак, бочонок бренди и новые штаны.
И тут я вдруг вновь почувствовал недовольство. И не столько из-за того, что скоро окажусь дома, сколько из-за неприятных воспоминаний о первой поездке с отцом в Кейптаун, когда все были так взбудоражены вестью о восстании рабов в Куберхе. После того как мы вернулись оттуда, папа собрал всех рабов и выпорол их для острастки. В его время это было единственным способом устрашения, необходимым и вполне достаточным. А теперь? Я, как мог, старался отогнать от себя мрачные мысли. Ведь теперь нам снова есть на что надеяться. И пока мы все ближе подъезжали к дому – мимо фермы Франса дю Той и затем на восток к Хауд-ден-Беку, – на душе у меня понемногу полегчало. Наконец показалась и ферма, зажатая с двух сторон горными хребтами: большая усадьба с каменной оградой, побеленным домом и дворовыми пристройками, краалями и рощицей деревьев. Я поневоле ощутил чувство гордости: все это было делом моих рук. Ветхая лачуга, в которой когда-то жила Эстер, превратилась в крепкий высокий дом с крытой просмоленным тростником крышей. Внизу, там, где была устроена запруда, виднелась широкая полоса темно-голубой воды. Выложенные камнем оросительные канавы. Сады, персиковые деревья перед домом, поля бобов, темно-зеленая полоса тыквенного поля, широкие просторы уже желтеющих пшеничных полей. Во всем этом чувствовались надежность и незыблемость. Все было сделано хорошо, крепко, надолго. Мы больше не были здесь временными жителями, все это будет длиться и продолжаться. Может, теперь и вправду пришло время избавиться наконец от неуверенности? Ты многое потерял, но и многому научился, ты возмужал. Вскоре после того, как я высадил Кэмпфера возле домика Дальре и вместе с Роем покатил дальше, я увидел вдалеке девочек, которые выбежали встречать меня. Яркие развевающиеся платья, встрепанные на ветру волосы, громкие голоса: «Папа! Папа! Папа!» Моя ферма, мой дом, мои дочери.
Да, мы восторжествуем.
Господь истребит врагов наших, встав во главе нашего воинства.
И сегодня вечером, после того как Памела вымоет нам ноги и уберет со стола посуду, все соберутся для молитвы – мы за столом, рабы на полу возле двери – и я целиком отдамся размеренному рокоту собственного голоса, звучащего с едва сдерживаемым ликованием:
А теперь собрались против тебя многие народы и говорят: да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион!
Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно.
Встань и молоти, дщерь Сиона; ибо Я сделаю рог твой железным и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжания их и богатства их Владыке всей земли[29]29
Михей, 4:11–13.
[Закрыть].
Мама Роза
 Год выдался сухой и ветреный. Ветер то налетал порывами и кружил, норовя сорвать юбку, то дул постоянно и ровно день за днем, словно его подгоняла чья-то могучая рука. Он сметал все на своем пути, клонил к земле пшеницу, и поневоле хотелось, чтобы поскорее пришло время молотьбы, потому что то был подходящий ветер, готовый унести прочь солому и мякину, оставив на гумне тяжелые крупные зерна.
Год выдался сухой и ветреный. Ветер то налетал порывами и кружил, норовя сорвать юбку, то дул постоянно и ровно день за днем, словно его подгоняла чья-то могучая рука. Он сметал все на своем пути, клонил к земле пшеницу, и поневоле хотелось, чтобы поскорее пришло время молотьбы, потому что то был подходящий ветер, готовый унести прочь солому и мякину, оставив на гумне тяжелые крупные зерна.
На первый взгляд на всех боккефельдских фермах в то лето было тихо и спокойно. После бегства Галанта и его возвращения в пору таяния снега грозовое небо прояснилось. Дни стояли ясные, безоблачные, ласточки вернулись домой, солнце вставало, шло своим путем по небу и снова садилось, чтобы подняться наутро вновь, пшеница наливалась и желтела темным золотом, опаленная кое-где слишком жарким солнцем и все же предвещавшая лучший за многие годы урожай.
И только ветер нарушал наш покой и тревожил всех. Совсем особый ветер поднимался тут, у нас. Его не увидишь глазами и не почувствуешь кожей, но я-то умела распознать его. В первый раз я ощутила его в тот день, когда Галант пришел поговорить со мной об этом. Я жила в стороне от остальных, но все они проходили мимо моей хижины, и от меня ничто не ускользало. Вечерами частенько захаживали Галант и другие рабы из Хауд-ден-Бека или от старика Дальре, рабы Баренда тоже порой заглядывали ко мне – славный шалопай Абель, всегда готовый поплясать, выпить и посмеяться, тихий молодой Голиаф и эта ползучая гадина Клаас, а еще люди с дальних ферм: Слингер, вечно щеголявший страусовым пером на обвисшей шляпе, старый Мозес с выцветшими глазами и беспрерывно хнычущий Адонис с фермы Яна дю Плесси. Каждый шел ко мне со своими бедами, и я слушала их всех, ведь я старуха, и мне они спокойно поверяли то, что не решились бы рассказать никому другому. А почему бы мне не помочь им? Я была всем им матерью.
В тот вечер Галант принес мне супа, который по его просьбе Памела стащила на кухне, и долго просидел у меня, рассказывая свои дикие истории про Кейптаун.
– Кейп, должно быть, стал совсем другим с той поры, как я повидала его в молодости, – сказала я наконец. – Что-то я ничего не могу припомнить по твоим рассказам.
Это больно задело его.
– Ты думаешь, что я сочиняю небылицы, мама Роза?
– Разве я это говорила? Да и откуда мне знать? Я же не могу заглянуть тебе в голову, верно? Я только помню, что, когда ты был маленьким, я гладила тебя по ночам, чтобы отогнать от тебя дурные сны. Но когда мужчина становится взрослым, не так-то просто избавить его от дурных снов.
– Значит, ты мне все-таки не веришь.
– Что тебе до того, верю я или не верю? Лишь бы ты сам в себя верил.
Он долго молчал.
– Ты в себя веришь? – снова спросила я.
Не глядя на меня и устремив глаза куда-то вдаль, туда, где бродит в ночи тхас-шакал, он вдруг сказал:
– Я уже больше не тот, каким был прежде, мама Роза.
– Из-за белого ребенка у Памелы?
– Ребенок тут ни при чем! – взорвался он.
– Ну ладно, так в чем же дело? Они укротили тебя?
– Нет, – спокойно ответил он. – Нет. Этого никто не сумеет сделать. – Помолчал немного, а потом продолжал – Когда я уходил отсюда, я хотел найти место, где мог бы жить. В Кейпе, на другом берегу Великой реки, где угодно. Всю жизнь я искал такое место, всю жизнь хотел убежать отсюда. Но есть одна вещь, которую я наконец понял: человеку не уйти от родных мест. Они цепляются к его подошвам. Мое место тут. В Боккефельде. В Хауд-ден-Беке. Раньше я жил тут просто потому, что у меня не было другого выхода. А теперь я хочу жить тут. Я сам так решил и сам выбрал для себя это место. И теперь оно мое.
– Выходит, ты наконец доволен?
– Нет, ты меня неверно поняла. – Он обернулся и поглядел мне в глаза. – Разве можно быть довольным, пока ты раб? Но по крайней мере я уже нашел свое место, оно – мое. А теперь пора избавиться от хозяев.
– Почему ты сегодня говоришь так путано?
– Я знаю, что говорю, мама Роза. Я просто жду, когда придет мой час.
Его ответ встревожил меня.
– Какой еще час? – спросила я.
Он не ответил, а вместо этого снова спросил, глядя на меня в упор:
– Мама Роза, ты слышала о том, что мы скоро станем свободными?
– Год за годом все только и толкуют про это, Галант, – предупредила я. – Не принимай этих слухов слишком близко к сердцу. Добром это не кончится.
– Рождество или Новый год, – спокойно продолжал он, будто не слыша меня. – Вот что они говорят. Эти вести пришли к нам прямо из-за моря. И газеты говорят о том же.
– Что ты знаешь о газетах?
– Говорю тебе, это правда! – Вне себя от возбуждения, он схватил меня за плечи и принялся трясти так, что у меня залязгали зубы. – Ты слышишь?
– Конечно, слышу. И вовсе не обязательно так орать на меня.
Смутившись, он отпустил меня.
– Так вот, это говорят газеты, – повторил он.
– Где ты такое прослышал?
– Это слышали все. – Он упрямо продолжал стоять на своем, таким уж он уродился. – Это будет на рождество или в Новый год. Теперь я знаю, где мое место, а когда наступит этот день, тут узнают и про меня тоже.
– Рождество и Новый год придут и уйдут, – сказала я. – Как в любой другой год.
– Вот посмотришь. Я дождусь своего часа. И он наступит в Новый год. Не раньше и не позже.
Поначалу я решила, что это просто одна из его причуд. Но я все же навострила уши и вскоре услышала то же самое от Абеля.
– Это Галант рассказал тебе? – спросила я.
– Почему Галант? Мы давно с ним не виделись. У меня вести прямо из Кейпа.
А потом и старый Мозес повторил то же самое, и еще люди из Ворчестера, которые перегоняли скот на новые пастбища. У меня начала кружиться голова. За жизнь услышишь столько всякого, что перестаешь верить словам. А теперь еще эти новые вести. А вдруг это правда?
Я решила поговорить с Бет. После того как у Памелы родился ребенок с белыми волосами и голубыми глазами, дела в хозяйском доме пошли по-иному. Памелу прогнали, а Бет опять взяли на кухню, хотя я знала, что хозяйка недолюбливает ее. От мужчин и впрямь одни неприятности. Бет снова работала в доме – лишь иногда Памелу звали, чтобы она помогла хозяйке починить одежду или вымыть голову, – и потому я попросила Бет держать ухо востро и разузнать все, что сможет. Пора было разобраться, что происходит вокруг.
Не скажу, чтобы ей удалось узнать многое. Если верить Бет, хозяйка не больно интересовалась газетами, вроде даже и вовсе не брала их в руки. А если и говорила что-то, то ничего было не понять: «В стране за морем они хотят, чтобы рабов освободили, но фермеры не позволят этого». А когда Бет стала приставать к хозяйке, та просто приказала ей заткнуться. А потом вдруг ни с того ни с сего налетела на Бет с бранью: «Хоть бы нам наконец избавиться от этих проклятых рабов. Неужели они не могут взять у короля деньги и выкупить у нас рабов?» Но что все это могло означать? Бет понимала не больше моего.
– А ты не пробовала поговорить с Галантом? – спросила я ее.
– Стоит мне заговорить с ним, как он велит помалкивать. С ним трудно иметь дело, особенно после смерти Давида. Мама Роза, я не знаю, как мне жить дальше. Я никому не нужна.
Ну что ж, придется, видно, мне самой пойти и все разузнать, наконец решила я. Ведь уже настала пора уборки урожая, пшеница падала под серпами жнецов, и вскоре придет рождество, а там и Новый год. Нужно все разузнать, пока не станет слишком поздно. Ведь я уже чувствовала первые толчки грядущих событий, подобные первым порывам ветра.
Я отправилась на фермерский двор. День выдался тяжелый, с самого утра цикады пронзительно звенели в редкой листве деревьев, от их звона раскалывалась голова. Ветер утих, в воздухе ни дуновения. Весь мир побелел от зноя. Темно-желтые пшеничные поля, на них фигурки жнецов: взмах серпом – и шаг вперед, еще взмах – и еще шаг вперед. Там были Галант, Онтонг, Ахилл, молодые Тейс и Рой, сезонные работники Валентин и Флак, люди старика Дальре – управляющий Кэмпфер и здоровенный малый Долли – и еще кое-кто с фермы старого Пита. Пшеница у него созрела в тот год позже, а потому жатва началась в Хауд-ден-Беке, лишь потом жнецы пойдут дальше, постепенно огибая горы. Облака белым тюком белья разбухали над горным хребтом, и никто не мог сказать, когда они наполнятся черным громом, угрожая пшеничным полям.
Николас работал во дворе, устилая тростником крышу амбара. Памела и Лидия помогали ему. Я догадалась, что Бет, должно быть, на кухне.
Хозяйка вышла из прохладной комнаты, услыхав, как я разговариваю с Бет. Из-за ее юбок выглядывала младшая дочка, две старшие девочки играли на каменной лестнице, ведущей на чердак.
– А, это ты, Роза. Ну, что тебе нужно?
– Я пришла узнать, все ли в порядке, хозяйка.
Я бросила взгляд на Бет, та поняла и вышла во двор.
– А с чего ты решила, будто что-то не в порядке?
– Столько всего наслушаешься от людей, хозяйка.
– Вот как?
– Может, дадите немного нюхательного табака, хозяйка?
Моя просьба, казалось, раздосадовала ее, но она все же достала табак с полки в углу и отсыпала мне его в коробку. Беда с этой хозяйкой, чуть что – и взбесится.
– Ну, так про что ты хотела узнать?
Я выглянула в дверь и вдруг увидела в слепящей белизне вдали столб песчаной пыли, который, кружась, двигался по фургонной дороге в сторону двора. Ничего особенного для этого времени года, тем более в такое засушливое лето, и все же я поневоле содрогнулась от ужаса. То был Гаунаб, Черный дьявол, принявший облик смерча. Имя такому смерчу сарес, говорила когда-то мне мать, и он предвещает беду. Я видела, как он приближается к нам, кружа в воздухе пыль, веточки, сухие листья. Мне уже случалось видеть, как такой смерч подбрасывает дохлых лягушек и прочие дьявольские отродья. Я оцепенела, увидев, что он движется прямо к дому.
– Скорее дайте воду, хозяйка! – закричала я.
А поскольку она не двигалась с места и ничего не собиралась делать, я просто оттолкнула ее с дороги, схватила кадку с водой, стоявшую возле плиты, и с трудом, спотыкаясь и расплескивая воду, потащила кадку к воротам. Там я выплеснула воду, чтобы преградить путь саресу. Смерч от неожиданности приостановился, отпрянул в сторону и замер. Меня все еще пошатывало от пережитого страха, пока я брела обратно к дому, неся пустую кадку. Девочки, замерев, молча глядели на меня с лестницы. Когда я вошла в кухню, они мигом проскользнули за мной следом.
– Что это на тебя нашло, Роза? – обрушилась на меня хозяйка.
– Сами не ведаете, что говорите, хозяйка, – сердито ответила я.
– Что за глупости ты творишь? Бет только что наполнила кадку водой.
– Смерч предвещает беду, хозяйка. Если бы я его не остановила, на ферму пришла бы смерть. Разве вы сами этого не знаете?
– Опять ты плетешь свои безбожные небылицы, – раздраженно сказала она. – Сколько тебе говорить, чтобы ты не смела пугать детей своими языческими глупостями! Я не желаю слышать этого, понимаешь, не желаю!
– Это не небылицы, хозяйка, – возразила я. – Это правда. Я знаю это с детства.
– Господь покарает тебя за твои грехи, Роза.
Я вздохнула.
– Хозяйка…
– Все, хватит, у меня еще полно штопки, – сказала она, отворачиваясь.
Я подняла было руку, чтобы удержать хозяйку, но потом передумала. Что толку расспрашивать ее, раз она в таком дурном настроении? С тяжелым сердцем я вышла из дому и прошла к амбару, где Николас все еще возился с тростником. Может быть, хоть к нему мне удастся подступиться.
– Добрый день, мама Роза.
– Добрый день, Николас.
Он стоял на лестнице, лицо его раскраснелось от жары, на рубашке проступили темные подтеки пота. Лидия укладывала в охапки тростник, кудахча что-то себе под нос, точно курица на насесте. Памела не поднимала головы, словно стыдилась поглядеть мне в лицо. В отдалении в тени лежал ребенок, завернутый так, что лица было не рассмотреть.
Николас спустился вниз за охапкой тростника.
– С чего это ты проделала такой путь по жаре? – спросил он.
– Хочу кое-что узнать у тебя.
– Что же?
– Люди много чего говорят про Новый год.
Я внимательно глядела на него, но не заметила в нем и следа волнения.
– Вот как? – сказал он. – И что же они говорят?
– Много чего говорят. И рассказывают, будто газеты говорят про то же.
– Баас! – крикнула с крыши Памела. – Не слушайте ее.
– Все говорят про одно, – продолжала я, ведь не могла же я уйти ни с чем. – А теперь я хочу все услышать от тебя самого. Они говорят, что к Новому году рабов освободят.
– Кто «они»?
– Все. И все говорят, будто так сказано в газетах.
– Мама Роза, можешь передать людям, которые говорят это, что я пристрелю первого же человека, который явится ко мне освобождать рабов. А если будет нужно, пристрелю и самих рабов.
– Не дело ты сейчас говоришь, Николас.
– Тогда нечего приставать ко мне с такой чепухой. А тот, кто забил тебе голову всеми этими глупостями, нарывается на неприятности. Советую тебе предупредить его. У меня и без того забот хватает.
Но в его голосе я услыхала отзвук страха. Может быть, мне следовало для начала успокоить и подбодрить его и лишь потом постараться выудить из него все, что я хотела узнать. Но я и сама еще не пришла в себя от страха, который нагнал на меня сарес, а потому не могла вести дело терпеливо.
– Ты все-таки скажи мне, говорят про это газеты или не говорят? – снова спросила я.
– Какая разница? Нельзя же верить каждой чертовой газете. Даже люди в Кейпе сами толком не знают, чего хотят.
– Разве газета может врать?
– Мама Роза! – Я видела, что он вот-вот сорвется. – Я обещаю тебе: если газеты скажут что-то, чему я поверю, я сам тебе все расскажу. Ты же знаешь, с какой жадностью рабы глотают самую дичайшую чушь. Что будет, если мы позволим всякому ложному слуху тревожить наш покой? Постарайся же понять меня.
– Я могу понять только то, что мне объясняют, Николас. Я спрашиваю тебя лишь об одном: из газет пришли эти вести или нет?
– Я тебе все сказал, – отрезал он. – Остальное не твоего ума дело.
– Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь, Николас. Ведь я вскормила тебя своей грудью.
– Ты больше ничего от меня не добьешься.
– Хочешь утаить правду? – спросила я. – Тогда я вот что скажу тебе: если это и впрямь правда, она все равно выйдет наружу, раньше или позже.
Он стиснул зубы.
– Мне некогда болтать, Роза. К вечеру нужно закончить крышу.
Я почувствовала, как во мне поднимается вихрь ярости.
– Не надейся, что крыша убережет тебя от ветра, Николас! – крикнула я. – Когда грянет буря, она сметет все, что попадется ей на пути.
Он что-то прокричал мне вслед, но я уже не слышала. В ушах у меня стоял звон, но то были не цикады. Роза. Вот как он посмел назвать меня! Словно он позабыл маму Розу. Разве могла я подумать, когда кормила его грудью, что доживу до такого!
Я брела в мерцающем послеполуденном свете, не разбирая, куда иду. И все думала лишь одно: как жаль. Теперь людям есть чего опасаться. Они превратили эту землю в гумно, но на этом гумне обмолотят их самих. Тзуи-Гоаб нашлет свой ветер, чтобы отделить плевелы от пшеницы. Он не допустит, чтобы его народ унижали столь тяжко. Он там, наверху, в красном небе, он видит все, что случается на земле, и, когда придет час, он нашлет на землю свой великий ветер.
Ахилл
 А все потому, что не слушали меня. Говорил же я им – разве нет? – что они сами нарываются на неприятности. Всякий раз когда заговаривал этот Кэмпфер, я помалкивал, не желая спорить с белым человеком. Прежде, когда я был молод, со мной такое случалось. Но теперь я ученый. Единственное, на что я теперь надеялся, – это прожить в покое оставшиеся мне годы, работая, когда надо, попивая медовуху, когда она есть, и мечтая по ночам, когда был один, о деревьях на моей родине, высоких деревьях с белыми стволами и темной кроной. Ведь только это мне и осталось, только это никому у меня не отобрать.
А все потому, что не слушали меня. Говорил же я им – разве нет? – что они сами нарываются на неприятности. Всякий раз когда заговаривал этот Кэмпфер, я помалкивал, не желая спорить с белым человеком. Прежде, когда я был молод, со мной такое случалось. Но теперь я ученый. Единственное, на что я теперь надеялся, – это прожить в покое оставшиеся мне годы, работая, когда надо, попивая медовуху, когда она есть, и мечтая по ночам, когда был один, о деревьях на моей родине, высоких деревьях с белыми стволами и темной кроной. Ведь только это мне и осталось, только это никому у меня не отобрать.
Никогда не мог понять этого Кэмпфера, никогда не мог поверить ему. Кожа у него белая, тонкая, она не покрывается загаром, как у других белых, а только краснеет и шелушится; на голове нечесаная грива, а на лице редкая бороденка. Тощий как жердь, словно никак не мог наесться досыта, сущее пугало, кожа да кости, но выносливый, как змея. И ведь он вовсе не голодал. Всякий раз, работая у нас на ферме, он нажирался до отвала жирной похлебки, которую нам давали утром и вечером, а днем уплетал бобы и мясо да толстые ломти хлеба, которые нам раздавал Галант. А если кто оставлял кусок хлеба или что-то еще недоеденным, он не гнушался сожрать и объедки. Набрасывался на них, как стервятник. И все равно оставался худым как палка. А когда мы посмеивались над ним из-за этого, он хохотал, обнажая гнилые зубы, и спрашивал: «Разве хороший петушок бывает жирным?» Он всегда разговаривал и шутил с нами на равных, будто был среди нас своим, и все равно не становился от этого для меня менее белым. Это меня тревожило. Каждый человек должен держаться своих, а не то жди неприятностей.
Правда, рассказывать он был мастак. Стоило ему войти во вкус, даже я поневоле заслушивался. Когда он принимался рассказывать про далекие страны за морем, мы все слушали его как зачарованные. Если верить ему, он был там великим вождем. Самым могущественным. И он вел своих воинов из страны в страну, чтобы освобождать людей, которые были рабами. Человек, Разрывающий Цепи, – так называли его. И куда бы он ни пришел, там больше уже не оставалось ни единого раба, никто больше не голодал и не жил в нищете. У каждого была своя собственная жена, а у тех, кто хотел этого, – у всех славных тощих петушков – даже две или три, смеясь, рассказывал он. А теперь он приехал сюда из-за моря, чтобы помочь и нам. Наш час близится, говорил он. Просто нужно запастись терпением. Подождать подходящего расположения звезд. Ведь он родился в рубашке и умеет угадывать будущее. А нас всех ждут великие дела.
– Не об этом ли они толкуют, когда говорят про Новый год? – спросил его Галант.
– Может, и об этом, – ответил тощий человек, серьезно поглядев на него. – Времени, как и пшенице, нужен срок, чтобы созреть.
– А что говорят газеты? – спросил Галант, у которого всегда на уме только одно.
– Дело не в газетах, – сказал Кэмпфер. – А в звездах. Я вижу, как они движутся в нужном направлении. Близится великое освобождение. Свобода, равенство, братство.
А сам при этом был похож на бааса, когда тот читает нам Библию по средам и воскресеньям.
– Не верю я этому человеку, – сказал я, как обычно, Онтонгу, когда мы остались одни в хижине. – Если он и впрямь был таким великим вождем, то почему же он так оголодал, что не брезгует воровать у нас за спиной объедки?
– Может, он столько воевал, что у него не было времени наесться досыта? – сказал не по годам серьезный малыш Рой.
– Если он был таким важным человеком, так почему он теперь вместе с нами жнет пшеницу? – продолжал я.
– Потому что мы как раз те люди, которых он хочет освободить, – сказал Тейс. – Разве ты не слышал, как он говорил, что всегда встает на сторону бедняков?
– Нет, не доверяю я ему, – гнул я свое. – Всегда подозрительно, когда кто-то вдруг начинает печься о других. Какое ему до всех до нас дело? С чего это он прилип к нам и никак не отлипнет, точно муха в жару? А ты ему веришь, Галант?
– Отстань от меня! – пробормотал тот. – Поживем – увидим. Рождество и Новый год уже не за горами.
Незадолго до рождества Кэмпфер снова работал с нами, убирая пшеницу. Тяжелый день, очень жаркий, треск цикад колючками вонзался в уши. Никому не хотелось разговаривать даже за завтраком. Один только Кэмпфер трещал без умолку.
– Выходит, вы готовы проглотить что угодно? – спросил он. – Почему вы позволяете измываться над собой, соглашаетесь работать в такое пекло?
А все потому, что баас утром показал нам полосу пшеницы и велел жать ее – тяжкая работа по такой жаре. Но что сказано, должно быть сделано, даже если и придется работать до самой ночи.
– Раз пшеница созрела, ее нужно жать, – сказал Онтонг. – Есть-то ведь всем хочется.
– А ест баас, – ответил Кэмпфер. – Вам-то достаются одни объедки. А что ты скажешь, Ахилл? Ты, должно быть, человек мудрый, вон какой седой.
– Ничего я не знаю ни про какие объедки, – грубо отрезал я. – Я вполне доволен тем, что баас дает мне.
Но он уже оседлал своего конька. Когда Бет спустилась к нам со второй порцией выпивки – во время уборки урожая баас не скупился, давал бренди раза четыре в день, – мы уселись в тени передохнуть. Тут нас и нашел баас, который пришел поглядеть, как идет работа.
– Как дела?
– Не худо, баас. Только вот жарко очень, баас.
– Все равно еще рано прохлаждаться в тени.
– Конечно, баас. Мы и не прохлаждаемся.
– Я думал, что вы сделали гораздо больше.
– Мы все успеем, баас, – сказал я. – Хорошая пшеница уродилась в нынешнем году.
– Да. – Он огляделся. – Ну что ж, пожалуй, и я с вами поработаю. – Он ухмыльнулся в мою сторону. – Мне жарко не меньше вашего, а разве ты когда-нибудь слышал, чтобы я жаловался, Ахилл?
– Никогда, баас.
– Помнишь, что говорит Библия о труде в поте лица своего?
– Да, баас.
– А знаешь, Ахилл, быть может, в один прекрасный день ты сможешь вернуться к себе на родину. Ты бы согласился?
Мы все уставились на него.
– Что это значит, баас?
– И ты тоже, Онтонг.
– Не понимаю я, о чем вы сегодня толкуете.
– Да я просто так. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил, верно? – Он рассмеялся. – Вот скажите мне, а вдруг вас освободят, так что же – вы все по домам?
В глазах у меня защипало: среди бела дня я вдруг увидел деревья мтили из моих снов, мерцающие в белом небе. Длинную дорогу, ведущую к морю. Солнце, поднимающееся из-за пальм.
– Разве мне найти дорогу домой, баас? – сказал я. В горле у меня пересохло, точно от тоски по женщине. – Да и мать моя и все остальные уже, должно быть, померли. Разве кто помнит меня там?
Но я уже видел, как возвращаюсь домой, как спускаюсь по доске с корабля, как люди толпятся на берегу, чтобы поглядеть на меня, и кто-то вдруг восклицает: «Да это же Ахилл! Вон там Ахилл, которого увезли отсюда ребенком». Только человек этот скажет не «Ахилл», он назовет меня Гвамбе, именем, которое мне дали при рождении.
– Вот это правильно, Ахилл, – сказал баас. – Что толку возвращаться? Куда лучше остаться тут.
– Если вы так думаете, баас, – согласился я, склонив голову и пряча от него лицо.
И тут вдруг встрял Галант.
– Не позволяй ему дразнить себя, Ахилл. Не позволяй ломать себя. Потерпи еще десять дней – уберем пшеницу, перейдем в Лагенфлей, а там и рождество. А после рождества и Новый год.
Стало совсем тихо, как будто умолкли даже цикады.
– И что все это значит, Галант? – спросил баас.
– Ты не хуже меня знаешь, что будет на Новый год, – как всегда, с вызовом ответил тот.
– Тебе снова задурили голову всякими слухами? А ты и уши развесил? – сказал баас, и в голосе у него звучало: берегись.
– С ушами у меня все в порядке, – ответил Галант. – Да и с глазами тоже. Я просто жду, когда наступит Новый год.
– По-моему, у тебя просто слишком много свободного времени, вот ты и болтаешь попусту, – сердито сказал баас. – Давайте-ка за работу, время не ждет. А за твою наглость тебе придется сжать еще одну полосу после того, как остальные закончат работу.
Галант выпрямился и поглядел на него. Но ничего не сказал. И слава богу. А то не миновать бы ему еще одной порки.
Пока баас работал с нами, Кэмпфер не проронил ни слова. Держался в стороне, точно все это его не касалось. Но как только баас отправился по бобовому полю обратно домой, он вдруг снова распетушился. Сколько мы еще будем мириться со своим баасом? Неужели у нас никогда не лопнет терпение? Разве мы уже не сыты по горло всем его дерьмом? Он все говорил и говорил, пока я не спросил его прямо:
– Почему вы помалкивали, пока баас был тут? Почему ничего ему не возразили?
Но он только поглядел на меня бесцветными горящими глазами, взял серп и снова принялся жать.








