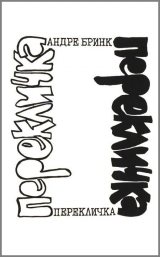
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 31 страниц)
– Но ведь это не самое худшее, что может сделать человек!
– То было лишь началом.
– Так что же ты все-таки сделал?
Снова долгое молчание. А когда он наконец заговаривает, его голос звучит мрачно, точно он упрекает меня за мою назойливость.
– Это из-за хозяйки, – говорит он. – Все время изводила меня. Чуть управишься с одной работой, тут же даст тебе другую. А если я пробовал перечить, бежала жаловаться хозяину. И он порол меня. А на следующий день снова принималась придираться то так, то эдак. Сама маленькая, тощая, но сущая стерва. И не уймется, пока не доведет тебя до того, что ты взорвешься и надерзишь, а тогда бьет тебя по лицу и мчится жаловаться хозяину. А при порках стоит рядом и подначивает его. Так ему, так ему. А каждый раз, когда я улучал момент и убегал, чтобы найти тех свободных людей у Великой реки, они шли за мной по следу, ловили, и все начиналось сначала. Пока терпение у меня не лопнуло. В тот день мы до самого вечера жали пшеницу под палящим солнцем, все тело зудело, исколотое мякиной. Я мылся внизу у источника, как вдруг появляется хозяйка и приказывает приготовить корм для скота. То была не моя работа, но человек, который обычно этим занимался, вроде бы сделал что-то не так. «Я устал», – говорю. «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» – закричала она и ударила меня по лицу. И тут на меня словно помрачение нашло. Я схватил ее за руку, а она принялась визжать, будто поросенок. Я-то просто хотел, чтобы она заткнулась. Но пока она боролась со мной, вырываясь и визжа, платье на ней вдруг треснуло сверху донизу. Тут она просто остолбенела. Перестала вопить и с разинутым ртом уставилась на меня, придерживая разодранное платье. «Отпусти меня. Пожалуйста, отпусти. Я никому не скажу, обещаю. Только не трогай меня». Она уже не была моей хозяйкой. Мне было мерзко глядеть на эту тварь, униженно и грязно умоляющую меня не трогать ее. Я в ярости оттолкнул ее. Она упала. И даже не пыталась больше подняться и убежать. Просто рыдала, пускала сопли и просила отпустить. Не знаю, что накатило на меня. Я стал бешено срывать с нее одежду, пока на ней не осталось совсем ничего – она лежала на земле, похожая на общипанного цыпленка, пища, причитая и дергая тощими ногами. «Делай со мной что хочешь, – скулила она. – Все, что угодно. Только не убивай. Я дам тебе все, чего попросишь».
– Ты что, разложил ее?
Резкое громыханье цепей.
– Нет, конечно. Я не раскладываю цыплят.
– Но ты же сказал…
– Я ударил ее ногой, вот и все. Поглядел на нее, лежавшую точно дохлый цыпленок, ударил ногой и ушел.
– И все?
Я снова слышу из темноты его сердитый хохот – грохочущий львиный рык.
– Все? Неужто ты не понимаешь, что это и есть самое худшее, что можно сделать в этом мире? Честь белой женщины – разве что-то сравнится с этим?
– А что теперь с тобой будет?
– Здесь они со мной разобрались. Теперь, сказали они, меня отправят в Кейп. Утром прибудут лошади, и меня увезут.
– И что потом?
– Если повезет, умру в дороге. Или же, если хоть чуть повезет, умру на виселице.
– А если совсем не повезет?
– Тогда меня ждет остров.
– Какой остров?
– Роббенэйланд. Живешь с кандалами на ногах. И разбиваешь камни, пока не помрешь.
– Но это все-таки лучше, чем виселица. Тебе сохранят жизнь.
– Какая же это жизнь? Это цепи. И все время пялишься на горы за морем. Неужели ты не понимаешь? Вроде того, как было с той рабыней, до самой смерти прикованной к скале. Ты привязан к этому острову, навсегда закован в цепи, а своим внутренним взором по-прежнему видишь тех людей с Великой реки. Свободных людей с их собственными землями и скотом. Разве такое не хуже смерти?
– Но ты сам говорил, что хозяева сожгли хижины и вытоптали поля. Так к чему им было убегать?
– Неважно. Зато они свободны.
Всю ночь его голос звучит из темноты. Порой он ненадолго замолкает, и тогда я впадаю в дремоту, но, когда просыпаюсь, слышу, что он снова говорит.
– Тебе надо немного поспать, – советую я.
– Может, сегодня я в последний раз говорю с живым человеком, – отвечает он. – Ты слушаешь меня? На том острове говорить запрещают. А пока я еще могу разговаривать.
– Я не знаю, что тебе сказать.
– Ничего и не надо. Просто слушай. Только не засыпай. Говорить буду я.
Потом он начинает бредить. Уже невозможно уследить за его мыслями. То что-то о детстве, то о какой-то женщине, а потом о другой, то о хозяине и хозяйке, то о людях за Великой рекой – все вперемешку. Затем какие-то долгие запутанные указания. Скажи это Сине. Не забудь про Томаса. А если Катрина спросит тебя…
– А кто эта Катрина?
Он вроде бы и не слышит меня.
– Откуда ты родом? С какой фермы? Куда послать весть о тебе?
– Не разговаривай, – обрывает он. – Просто слушай.
Речь его становится все более и более путаной, стоны звучат все глубже и тяжелее. Лязг цепей переходит в нескончаемое дребезжанье, и я понимаю, что его знобит от холода. Но как только я пытаюсь вставить хоть слово, он обрывает меня и говорит сам, снова и снова. Время от времени я приподнимаюсь на носки и выглядываю наружу через зарешеченное окно. Виден крошечный ломтик неба. Звезда. Как в те ночи, когда старый баас навещал Маму Розу, а мне приходилось спать под открытым небом. Только сейчас я в тесной камере, и воздух тут зловонный. А человек этот говорит и говорит. И не замечает, когда я проваливаюсь в сон и дурные видения одолевают меня. Лев нападает на меня, а мне не шевельнуться, потому что я прикован цепями к скале. Женщина предлагает мне воду. «Я беспокоюсь о тебе», – говорит она. Но я-то знаю, что все это зря – стервятники уже кружат надо мной. И люди, такие, как я, только они – свободные. Вдруг снова рычит лев, и я просыпаюсь под низкий рокот голоса мужчины в Цепях. Голос все звучит, прерываясь лишь странными судорожными рыданиями, до самого рассвета, когда за окном начинают щебетать ласточки, вылетающие из гнезда и возвращающиеся обратно: тогда наконец и мой незнакомец, вздыхая и что-то бормоча, погружается в забытье.
Яркий солнечный свет уже льет в окно, когда они приходят за мной – приехал Николас. Вместе с ним мы входим в уже знакомую мне большую комнату с высоким потолком, но ланддроста сейчас в ней нет, один лишь его помощник.
– Какого наказания вы хотели бы для него? – спрашивает этот человек у Николаса.
– Думаю, что хорошая порка ему не повредит.
Во внутреннем дворе высокий столб, к нему меня привязывают за руки. Столб и земля вокруг него будто в ржавчине. Над головой кружат ласточки, их не пугает даже звук ударов плети.
– Пойдешь обратно со своим хозяином? Будешь делать то, что он прикажет? – спрашивает меня после порки этот человек. – А не то велю заковать тебя в кандалы.
– Я стерплю все, чего заслужил, и от вас, и от моего хозяина.
– Ну хорошо. Можешь идти. Но если это повторится, так легко ты не отделаешься.
– Спасибо, баас.
Когда мы выходим, он отзывает Николаса обратно; стоя за дверью, я слышу их разговор.
– Мистер Ван дер Мерве, – говорит этот человек. – Я исполнил вашу просьбу. Но в будущем советую вам быть поосторожнее, когда наказываете рабов. Ремень, плетка или трость – это разрешено, но порка бичом может вызвать неприятности. Если об этом станет известно начальству, вы рискуете лишиться раба. Судебные власти в Кейптауне теперь очень строго следят за соблюдением закона о наказаниях.
Николас привел с собой для меня лошадь, и мы уезжаем из Тульбаха. Все тело избито. От боли временами даже кружится голова. Но я почти не замечаю этого: думаю о мужчине с львиным голосом, гадаю, повезет ли ему, где он теперь, может, уже на пути в Кейптаун. Я думаю и о Великой реке, которая, должно быть, очень далеко отсюда.
Человек в кандалах не выходит у меня из головы, даже ночью, когда мы укрываемся в горах во время тумана. Николас пытается заговорить со мной, что-то бормочет и бормочет без конца, совсем как тот мужчина в цепях, или погружается в сон, но я не засыпаю. И не из-за боли, а потому что думаю о своем незнакомце. Вот я возвращаюсь в Хауд-ден-Бек, избитый куда больше, чем когда отправился жаловаться в Тульбах. И все же это меня почти не печалит: почему-то мне кажется, что встреча с тем человеком в тюрьме стоит любой боли. Но не спрашивайте – почему.
Голиаф
 Ну и зачем было идти за тридевять земель, в Ворчестер, жаловаться? Это Абель говорил, мол, надо пойти. «Вот спроси-ка Галанта, – говорил он, – мы с ним не раз толковали об этом. Если закон велит, баас должен слушаться. А если закон велит не работать в воскресенье, а баас наоборот, то нужно рассказать про это господину из суда. А позволять баасу поступать как вздумается – это все равно что самому подставлять свой зад, чтобы он пнул тебя».
Ну и зачем было идти за тридевять земель, в Ворчестер, жаловаться? Это Абель говорил, мол, надо пойти. «Вот спроси-ка Галанта, – говорил он, – мы с ним не раз толковали об этом. Если закон велит, баас должен слушаться. А если закон велит не работать в воскресенье, а баас наоборот, то нужно рассказать про это господину из суда. А позволять баасу поступать как вздумается – это все равно что самому подставлять свой зад, чтобы он пнул тебя».
Вот потому-то я все-таки пошел жаловаться. Свое дело я вроде бы выиграл, но я-то понимал, что все равно проиграю. Уже в тот день в Ворчестере, когда ланддрост приказал мне отправляться домой, я понял, что проиграю. Что толку, что он обещал прислать комиссара проверить, все ли в порядке. Пока я приду, пока он приедет… А дни, и недели, и месяцы там будем только мы – баас да я: на кой ляд мне тогда этот комиссар?
А когда комиссар приехал, тучный, одышливый человек, никому не смотревший в глаза, я понял, что от жалобы мне только вред. «Хорошо ли с вами обращается хозяин?» – спросил он. А что ответишь, когда баас Баренд стоит да слушает? Он уже растолковал мне, как нужно говорить. Комиссар спешил, я видел, что ему нет до меня никакого дела.
– Давай выкладывай, – сказал он. – Сам понимаешь, времени у меня в обрез.
– Баас обращается с нами хорошо, – ответил я.
Зачем он только корчил из себя сильного и строгого? Я видел, как ему хочется верить в побасенку, которую баас приказал наплести ему: будто меня сбросила лошадь. Ведь возьми он вдруг и не поверь, ему самому пришлось бы туго. Я понимал, что это ему ни к чему. Его послали сюда, чтобы проверить, но если бы ему в самом деле пришлось выбирать – он-то такой же хозяин, вроде наших, а хозяева всегда стоят друг за дружку. Мы по одну сторону. Они по другую. И так будет всегда.
– Больше никогда не пойду жаловаться, – сказал я Абелю, когда комиссар уехал. – Моя жизнь в руках бааса, и я не стану противиться его воле.
– И позволишь делать с собой все, что ему вздумается?
– У него есть право делать все, что ему вздумается. А мое право – терпеть, что бы он ни вздумал сделать, и никакого другого права у меня нет.
– Я подкараулю его с лопатой, когда он будет возвращаться домой, – сказал Абель, задыхаясь от ярости. – А там поглядим.
Я хотел остановить его, но у меня еще не было сил после порки, которую мне задали неделю назад. Да и Абель, я знал, никому не позволит соваться в его дела. И по правде говоря, во мне еще тлела последняя отчаянная надежда, я тогда еще верил, что, какое бы дикое дело ни замыслил Абель, оно у него выгорит. Но вот хозяин вернулся с охоты и приказал принять лошадь, и я увидел, как Абель покорно подчинился ему. И я подумал тогда: если уж Абель боится, то мне и вовсе надеяться не на что.
С того дня я без жалоб делал все, что мне приказывали. То был единственный способ выжить. Если ты не живой, то, значит, мертвый. О жизни, какая она ни есть, я хоть что-то знаю, а вот о смерти мне не ведомо ничего.
Николас
 Что за зловещая причуда судьбы – устроить все так, чтобы мое выживание зависело от него?
Что за зловещая причуда судьбы – устроить все так, чтобы мое выживание зависело от него?
Мы задержались в Тульбахе – мне хотелось побеседовать с торговцами и курьерами из Кейпа и фермерами, которые понаехали в город из отдаленных районов, – и уже близился вечер, когда мы погнали лошадей вверх по склону Витценберха, все дальше удаляясь от беленых домов с черными, крытыми тростником крышами и выбираясь на фургонную дорогу. Как я ненавидел эти каменистые дороги, по которым ездил то туда, то сюда, но всегда возвращался домой – не по собственной воле, а подчиняясь отцу, которому не было никакого дела ни до моих желаний, ни до моих возражений. Не успели мы проехать и полпути по горам – дойдя как раз до того места, где надо спешиться и вести лошадей на поводу по крутой дороге, – как начал опускаться туман, один из тех тихих, вкрадчивых горных туманов, которые сгущаются так быстро, что заволакивают все вокруг прежде, чем ты успеешь заметить это. Видимость уменьшилась до трех ярдов, потом до двух, потом до фута. Временами в неожиданном просвете ненадолго открывался головокружительный вид на склон внизу, на пропасть, на переплетение веток вереска и эрики, но затем все снова застилала слепящая белизна.
– Пожалуй, нам лучше вернуться в город, пока не поздно, – предложил я. – Переночуем там, а утром отправимся домой.
– Боишься? – огрызнулся он.
– Нет, конечно. Но скоро станет совсем темно.
– Ну и что?
Я посмотрел на него, но в его упрямом, ожесточенном взгляде был только вызов. Мы продолжали подниматься в горы. Вскоре лошади забеспокоились и начали громко фыркать. Я остановился.
– Галант, мы лезем к черту на рога. Туман не редеет.
Он пожал плечами.
– Давай повернем назад, – сказал я и потянул свою лошадь за поводья.
– Ну, если ты приказываешь, – ответил он. – Ты хозяин.
В его голосе слышалось явное пренебрежение, вызвавшее во мне новую вспышку ярости. После всего, что произошло, в нем не было и намека на покорность: избитый и израненный, он держался гордо, даже свои лохмотья он носил с вызовом, а из-под них, словно наглый упрек мне, виднелись синяки и кровавые шрамы. Он ничего больше не сказал, но я уже не мог повернуть назад, не признав тем самым своего поражения. Ярость утихла. Ее сменила усталость. Я все еще надеялся – на что? На что угодно, я был согласен на все, лишь бы не эта взаимная вражда. Неужели невозможно просто поддерживать отношения, не испытывая постоянной потребности помериться силами? Но если он не желает уступать, то и я не стану. Спотыкаясь, мы слепо брели сквозь влажный туман, таща за собой лошадей, копыта которых сбрасывали камни, катившиеся вниз по склону; резкий грохот их падения мгновенно приглушался мягкой, коварной белизной, которая окружала нас, прикрывая своей завесой массивные хребты гор, меняя их очертания, сводя на нет твою способность интуитивно угадывать дорогу.
– Куда ты идешь? – вдруг спросил он.
– Домой по фургонной дороге, куда же еще? – сказал я. – Сам не видишь?
– Ах вот как… – На лице у него мелькнула неясная улыбка, взгляд был угрюмый и насмешливый.
Не обращая на него внимания, я продолжал идти, упрямо уверяя себя, что поднимаюсь по проторенной дороге. Но его молчание вселяло неуверенность, убежденность в собственной правоте слабела. Я то и дело останавливался, хотя и понимал, что бессмысленно отыскивать какие-либо приметы в этом стирающем все различия тумане. Пригнувшись к земле, чтобы лучше видеть дорогу и чтобы всем весом удерживать сопротивляющуюся лошадь, я шел – и вел его за собой, – утешаясь мыслью о том, что мы по крайней мере бредем вверх, а не вниз. Из тумана временами возникали неожиданные силуэты предметов, плывшие нам навстречу, словно рыбы в мутной воде: искривленное дерево, источенная ветром скала, мокрый зеленый куст. Но не успеешь разглядеть их, как очертания уже расплываются у тебя на глазах – в кляксу, пятно – и снова исчезают. И лишь ощущение животного единства с двумя лошадьми и с Галантом подбадривало меня.
– Интересно, сумел ли он убежать? – вдруг сказал он. – В таком тумане им будет нелегко отыскать его.
– Кого?
Он удивленно поглядел на меня, словно мой вопрос застал его врасплох. Должно быть, он говорил сам с собой.
– Человека в цепях, – ответил он.
– Я не знаю, о ком ты говоришь.
– Да, ты этого не знаешь.
Он замолчал, ничего больше не объяснив, а я снова побрел вперед, побуждаемый стремлением двигаться, словно в этом заключалась наша единственная надежда.
– Здесь нам не подняться, – сказал он у меня за спиной.
– Я знаю дорогу. Следуй за мной.
Дорога, едва различимая в тумане, вела вправо. Ярдов через тридцать или сорок, если память мне не изменяет, она резко повернет влево перед новым крутым подъемом. Не дожидаясь Галанта, я нырнул в туман, который начал быстро темнеть: солнце, должно быть, уже садилось. Но если я не ошибаюсь, до последнего хребта уже недалеко. А оттуда, даже если туман и не осядет, найти дорогу будет совсем нетрудно. И скоро мы доберемся до Эландсфонтейна, где остановимся и попьем чаю с Барендом и Эстер – да, конечно же, и Эстер, – а затем поднимемся вверх по тесной долине, пролегающей между горами Дейвелсберх и Скурве, обогнем грозные вершины Ваалбоксклофберха и спустимся вниз к пологим равнинам Хауд-ден-Бека.
Он схватил меня за плечи столь внезапно, что я испуганно вскрикнул.
– Что ты, черт возьми, делаешь? – заорал я, хватаясь за бич.
– Посмотри, – сказал он.
Я посмотрел туда, куда он указывал, но не разглядел ничего, кроме неясных очертаний темных скал, смутно вырисовывавшихся в нескольких ярдах от нас. И вдруг на мгновенье туман закружило и собрало в клочья порывом ветра, он поредел, и я увидел, что земля обрывается у меня прямо под ногами: в шаге или двух от нас зияла пропасть глубиной в сто, а может, и тысячу футов. В следующий миг туман снова сгустился.
Галант держал меня за руку, чтобы унять мою дрожь. Я долго стоял, не в силах двинуться назад по тропинке вдоль скалистого уступа, который по ошибке принял за фургонную дорогу. Стараясь не глядеть на Галанта, я стоял, бессмысленно уставясь в туман и уже не надеясь увидеть что-то знакомое. И еще долго не мог успокоиться и сказать хоть слово.
– Ну, и куда мы теперь двинемся? – наконец спросил я.
– Можно укрыться под скалами неподалеку отсюда.
– Откуда ты знаешь?
– То место совсем недалеко от фургонной дороги. Влево от нее. Я не раз прятался там от дождя.
– О господи, да что же… – Я глубоко вдохнул воздух. – Значит, ты все это время знал, куда мы идем? И позволил мне…
– Я пытался остановить тебя. Но ты не стал слушать.
– Глупая обезьяна! – зарычал я на него. Вовсе не это мне хотелось сказать, но я все еще был не в себе после пережитого страха.
Казалось, нам не найти никакого укрытия среди этих высоких, громоздящихся друг на друга скал, упавших с гор в незапамятные времена. Но Галант знал дорогу. Он быстро и уверенно двигался вперед, скользя между камней, словно ящерица, и вскоре привел меня к небольшой пещере: песчаное дно в ней было сухим. Мы привязали лошадей снаружи, не обращая внимания на их тихое недовольное ржание, и вошли внутрь. Он попросил меня разжечь огонь – там лежал высохший папоротник и хворост, сырой от тумана, но еще годный для костра, – а сам, не говоря ни слова, вышел и вскоре вернулся с охапкой веток вереска, протеи и бучу, от которых исходил пряный, резкий, бьющий в нос запах. Он разложил их на две кучки и приготовил лежанки на ночь. Нам двоим едва хватало места у огня, но, откинувшись назад и прислонившись спиной к неровным скалам, можно было устроиться на ночь. От костра шло больше дыма, чем тепла, глаза слезились, и время от времени мы выползали наружу, якобы для того, чтобы проверить лошадей, но на самом деле – чтобы глотнуть немного свежего воздуха. Туман упорствовал, звезд не было видно.
То были мгновения и часы обезоруживающей близости – в той тесной пещере, где мы сидели, прижавшись плечами друг к другу и поджав ноги, чтобы удержать тепло. Теперь, после месяцев и лет, прожитых порознь, в преднамеренном удалении друг от друга, мы уже не могли делать вид, будто мы совершенно чужие. Долгое время мы сидели напряженно, словно не желая примириться с тем, что наши тела соприкасаются, но, когда на протяжении той долгой ночи один из нас поддавался сну или усталости и оседал всем телом на другого, напряжение слабело. Медленно погружаясь в дремоту, я еще чувствовал, как он борется с собой в жаркой, дымной тьме, но потом и его тело обмякло.
– Ты спас мне жизнь, – сказал я под защитой темноты.
– Я просто остановил тебя. Что тут особенного?
– А помнишь, как мы рыли нору в стене возле запруды и нас завалило песком?
– Давно все это было.
– Славно мы тогда проводили время.
Он ничего не ответил. Его отчуждение сводило меня с ума, но я все еще пытался нащупать слабое место в его обороне, пытался добиться от него хоть какого-то ответа, хоть какого-то признака раскаяния или сожаления, признания, что прошлое не ушло безвозвратно, что возвращение и, быть может, искупление еще возможны. Конечно, это было глупо, и в другое время я бы и сам признал, что это глупо, но сейчас, в этой тесной пещере, где мы, казалось, были так близки друг другу, я чувствовал потребность выйти за пределы очевидного. Он отрекался от нашего единства, и если бы не моя усталость, то я, вероятно, прекратил бы попытки к сближению, а то и вышел бы из себя. Но я ощущал в себе какую-то странную настойчивость, порожденную усталостью. В том непривычном, болезненном состоянии зависимости от него я вдруг понял, в чем именно был корень моих вспышек ярости: в стремлении добиться ответа, расшевелить его, вывести из состояния безучастности, в котором он оставался для меня недоступным – гладкая, неподатливая поверхность камня, которую можно бесконечно изучать, так и не находя в ней ни единой трещины. Даже сами раны я наносил ему, как бы пытаясь проникнуть внутрь, пробиться через непроницаемую оболочку: кожа и вправду была порвана, но оставались, должно быть, перегородки в разуме, отделявшие его от меня. Конечно, это было бессмысленно и ненужно, но меня угнетало сознание моей вины. Все было бесполезно. И его терпеливое молчание лишний раз подтверждало, сколь я был неправ. Наша невинность утеряна безвозвратно, так к чему же пытаться доказать обратное? Между нами лежала смерть ребенка, и мое все возрастающее, грызущее чувство вины, и еще, вероятно, тело черной женщины. Но нас разделяло не только это. То были лишь внешние проявления Некоего куда более коварного зла, о котором я мог лишь догадываться и к истокам которого брел наугад – на ощупь. В ту ночь мне казалось, что я сумею добраться до понимания этого зла. Но что толку пытаться, если Галант отказывался помочь? После нескольких напрасных попыток расшевелить Галанта я оставил его наедине с его мрачными мыслями и погрузился в собственные размышления.
Он, конечно, страдал от боли и винил во всем меня. Но сама боль была лишь следствием того главного зла, которое я мог почувствовать, но не объяснить. Мы уже не те прежние беззаботные мальчишки, теперь мы – хозяин и раб, – и разве можно винить в этом друг друга? Ведь этого ни избежать, ни изменить, это необходимое условие нашего совместного выживания.
Должно быть, я на мгновение заснул. Помню путаные обрывки сна, потом восстановилась вся картина целиком: мы снова были мальчишками, играли возле запруды, рыли нору в песчаной дамбе, мягкой и влажной после дождя, заползали все глубже, переговариваясь и хихикая, и вдруг все рухнуло. Только во сне не песок обвалился, а прорвало плотину, и могучий темный поток хлынул и поглотил нас.
– Эй! – послышался сквозь толщу воды чей-то голос. Это был Галант, трясший меня за плечо.
– В чем дело? – пробормотал я.
– Ты кричал. Я решил, что тебе что-то приснилось.
– Да, приснилось. Мне снилось, как прорвало плотину. А мы с тобой были в норе.
– Почему ты никак не можешь забыть этого?
– Сам не пойму, – ответил я и неожиданно для себя добавил: – Знаешь, когда я женился, отец отдал мне тебя потому, что я попросил его об этом.
– Зачем?
– Мне казалось, что у нас хорошо пойдут дела, если мы будем вместе. – Нет, не то хотел я сказать ему. Я попытался точнее выразить свою мысль: – Я чувствовал… ну ладно, я понимал, что мне без тебя не справиться. Я бы не знал, с чего и как начать. Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Ты мне уже говорил это. Но при чем тут я? Ты учился вести хозяйство, еще когда мы были совеем маленькими.
– Да, конечно. Но тогда рядом всегда был папа. Он все решал. А потом я женился и вдруг оказался совсем один. И все ожидали, что я сразу же стану настоящим мужчиной и настоящим фермером. У меня была жена, была своя ферма. А я… а мне хотелось лишь одного – убежать отсюда прочь. Но я понимал, что тогда я уже никогда не посмею взглянуть папе в глаза. Он и так всегда глядел на меня свысока. Для него существовал один только Баренд. Я хотел наконец добиться успеха. Я просто должен был добиться, другого выхода у меня не было. Но я не знал, с чего начать. И единственное, что мне пришло в голову, это попросить папу отдать тебя мне, чтобы ты мне помог.
– У тебя все идет как надо, – сказал он и, чуть помолчав, добавил с ноткой горечи: – Ты хороший хозяин.
– Но я говорил совсем не о том.
Он не ответил. А я никак не мог остановиться. В своем беззащитном полусонном состоянии, в этой темной пещере в самом сердце гор, при свете угольков, тлевших так тускло, что Галант лишь тенью вырисовывался на фоне неясного красноватого мерцания, я ощущал неодолимую потребность выговориться.
– Знаешь, я никогда не хотел быть фермером, – продолжал я. – Баренд – тот просто дождаться не мог, когда наконец станет сам себе хозяином и получит в свои руки ферму. А для меня это хуже тюрьмы.
– А кем бы ты хотел стать?
– Самое ужасное, что я не знаю. У меня никогда не было возможности выяснить это. Но должно же быть хоть что-то в этом огромном мире, что мне хотелось бы делать. И тогда я был бы свободен. А сейчас я прикован к своей ферме.
– Почему же ты не уехал отсюда?
– Я не решался подвести папу. Я боялся его. А потом… потом я женился. Теперь у меня семья, на мне лежит ответственность за нее. Не могу же я просто взять и уехать. Временами я пытаюсь внушить себе, что все хорошо, что я вполне свободен. Но даже сама земля держит меня в плену, я обязан жить, подчиняясь смене времен года. Все мои действия зависят от дождя или засухи, от полей и от пастбищ. Порой я просыпаюсь ночью с тем же ощущением, как в тот день, когда нас завалило песком, – мне нечем дышать. Я готов разрыдаться или начать выкрикивать ругательства, чтобы разбудить всех. Но я не решаюсь даже на это, я просто встаю и выхожу из дома, спускаюсь к краалю и гляжу на коров и овец, на эту глупую скотину, тупо жующую свою жвачку, и тогда мне кажется, что я так же туп, как они, что я тоже заперт в свой крааль, что и меня по утрам выгоняют на пастбище, а по вечерам загоняют обратно. И тогда мне хочется, чтобы в крааль ворвался какой-нибудь чертов леопард или лев, прикончил меня и утащил отсюда прочь.
– Ты глупец, – с легким презрением возразил он. – У тебя есть все, чего ты хочешь. Так к чему желать, чтобы тебя прикончил лев?
– О господи, постарайся же понять, – бессмысленно взмолился я. – Ты должен понять меня.
И тогда он вдруг спросил:
– А зачем?
Я надолго замолк. Его вопрос жег меня сильнее любого раскаленного угля. В самом деле, зачем? Откуда эта потребность унижать себя, падать ниц перед собственным рабом, умолять его? Но никто другой в целом мире не сможет понять меня, в этом, должно быть, и было все дело. Мне больше не к кому было обратиться с такой мольбой. То была мучительная болезнь, от которой у мамы Розы не нашлось бы никаких снадобий. Эстер? Но она лишь усилила бы мои муки, еще больше разбередила бы мою потребность в близости. Не было никого, кроме Галанта. А Галант отказывал мне даже в слове утешения.
Я снова заснул. На этот раз мне снилась Эстер. Ее темные серьезные глаза, широко посаженные на узком лице, изящная линия скул и упрямый подбородок, маленький прямой нос и широкий рот, беззащитная шея; я видел знойную грацию ее тела, страстную напряженность ее членов, восхитительную непринужденность, которой она так отличалась от нас. Проснувшись со сдавленным криком, я вспомнил Эстер и почувствовал ноющую боль тоски по ней.
– Ты снова заснул, – сказал Галант с легким осуждением.
– Мне снилась Эстер.
– Эстер?
Но мне не хотелось ничего рассказывать. Я желал сохранить этот сон лишь для себя одного. Я крепко обхватил руками колени, словно пытаясь удержать ту утонченную ноющую боль, которая, пульсируя, слабела.
– Однажды, когда мы были маленькими, – сказал он, – мы с ней попали в грозу, а потом мама Роза завернула нас в кароссу и отогревала возле очага.
Я удивленно уставился на него, возмущенный его словами. И в то же время почувствовал, как во мне рождается новое теплое чувство к нему – ведь сейчас мы как бы снова сблизились, вспоминая Эстер, хотя, разумеется, его воспоминания были не столь интимными, как мои. Даже если только об этом мы и можем вспоминать вместе, то и этого довольно, чтобы наше пребывание в этой темноте, в этих богом забытых горах, так далеко от дома, обрело некий смысл. Наше сопереживание несло в себе болезненное, головокружительное ощущение свободы, какого я прежде никогда не испытывал. Сейчас, в эти краткие темные мгновения, мы обрели способность чувствовать что-то сообща просто потому, что нам незачем было мериться силами друг с другом. И все же какая злая насмешка таилась в той краткой свободе. Ведь я сидел рядом с человеком, тело которого было изуродовано по моему же настоянию.
– А что тебе снилось? – снова спросил он.
– Уже не помню, – соврал я, хотя в душе еще переживал свое запретное воспоминание. – Сам знаешь, как это бывает. А тебе что-нибудь снится?
Он пожал плечами.
– А что тебе снится?
Он не ответил. После долгого молчания – снаружи поднялся ветер и неистово выл среди скал, лошади то и дело ржали и били копытами – он вдруг сказал:
– Расскажи мне о Великой реке.
– Я же ничего о ней не знаю. Я там никогда не был.
– Тогда про Кейп.
– А что тебе рассказать про Кейп?
– Все, что хочешь.
– Жаль, что ты не поехал туда вместе с нами.
– Я же просил тебя взять меня с собой. Но ты отказался.
– Нужно было, чтобы ты оставался дома и присматривал за фермой. Кроме тебя, я никому не могу доверить хозяйство.
– Когда мы были маленькие, ты обещал, что возьмешь меня с собой.
– В следующий раз ты обязательно поедешь, – сказал я и подумал: Если бы я взял тебя с собой, всего этого, может быть, и не случилось бы. Не был ли твой поступок просто местью мне?
– Обещаешь? – спросил он.
– Обещаю.
И снова сказал:
– Расскажи про Кейп.
Как много лет назад, после моей первой поездки туда с папой и Барендом, я рассказывал ему обо всем, что мог припомнить, обо всем, что, как мне казалось, будет ему интересно услышать. Суета на площадях, улицы, мощенные булыжником, военные парады, груженные продуктами фургоны, прибывающие из дальних районов, шумные спортивные состязания на Грин Пойнт, концерты под открытым небом, прихожане, толпящиеся по воскресеньям в Гроте Керк возле кафедры проповедника, украшенной вырезанными из темного мерцающего дерева львами; мы даже поддались моде и вскарабкались на Столовую гору, склоны которой были усыпаны подошвами и каблуками, отвалившимися с непрочной обуви наших предшественников, я рассказывал ему об изумительном виде оттуда сверху – голубизна и зелень двух сливающихся океанов, узоры белых бурунов, меняющиеся лениво, почти неприметно для глаза, – рассказывал о флотилии кораблей, приближающейся к берегу подобно стае морских птиц с распростертыми крыльями и трепещущим на ветру белым опереньем, о толпах людей в гавани, когда причаливают гребные шлюпки, о том, как моряков, солдат и пассажиров окружают горожане, а рабы, толкаясь, спешат предложить им на продажу товары с лотков; рассказывал об изменившихся нарядах – тусклые цвета прежних лет уступили место более ярким сиреневым, голубым, темно-красным, зеленым и розовым оттенкам, талии женщин стали тоньше, покрой платьев изменился, широкие юбки ниспадают более свободными и грациозными складками, мужчины носят фраки и цилиндры. Он то и дело нетерпеливо прерывал меня, стремясь услышать все сразу, забрасывал вопросами о пушке на Сигнальном холме, о приходящих и уходящих кораблях, об одежде рабов, о сборищах у городского фонтана и возле мельницы, о запрещенных петушиных боях в карьере возле Львиной горы, о музыке и парках, о магазинах и лавках, которые держат рабы, о базарах, о Горе, о море. Меня удивили его познания, но, когда я сказал ему об этом, он лишь уклончиво пробормотал, что знает это из моих прежних рассказов и из рассказов Онтонга и других рабов, а затем обрушил на меня новый шквал вопросов. Я рассказывал все, что знал, а чего не знал, то просто придумывал на ходу. Какое это имело значение? Ему были важны не правда или выдумка, а образ этого чужеземного далекого города, самые яркие Краски и самые невероятные приключения. В той странной ночи все казалось правдоподобным, и я продолжал рассказывать, все более и более проникаясь духом его же представлений, насыщая его фантазиями, которых он столь жаждал. Некоторые мои выдумки были так забавны, что мы оба невольно начинали смеяться, а он все время понукал меня, будто разыгравшийся ребенок: еще, еще, еще. Время шло быстро, мы забывали о неудобствах и холоде – хворост уже сгорел, и последние угли едва тлели в костре, – а главное, ощущали все возрастающую близость, возникшую между нами в этой пещере, которая укрыла нас, отгородив от повседневной жизни и вновь возвратив на короткое время в детство. Но, должно быть, и в нашем нынешнем состоянии таилась боль, и сам разговор был вынужденным, ведь под зыбкой почвой воспоминаний, фантазий и выдумок – под этой почвой, по которой мы шли, бежал медленный темный поток, которого я старался не замечать, но который был тут и который всякий раз, когда мы замолкали, выплескивался наружу, подобно самой ночи. Мы продолжали говорить, притворяться, веселиться и сплетать в причудливый узор фантазии, но подземный поток был рядом, поднимался кверху, все ближе к поверхности, к тому месту, где он раньше или позже – это я хорошо понимал – прорвется и смоет наигранную веселость нашего притворства.








