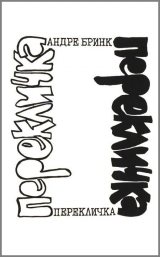
Текст книги "Перекличка"
Автор книги: Андре Бринк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Знай я наверняка, что Абель намеренно угрожал мне, я выпорол бы его столь же основательно, как и Голиафа. Но меня тревожила именно эта неуверенность, неопределенность, куда более зловещая, чем любой враг или хищник, которого можно в конце, концов распознать и пристрелить. В тот краткий миг озарения я вдруг понял, сколь ненадежен наш покой, каким опасностям подвержена наша жизнь, как просто выбить почву у нас из-под ног.
Что было бы, не окажись при мне в тот вечер ружья?
А если меня и в самом деле спасло лишь ружье – что ждет нас, рано или поздно, когда, захваченные врасплох, мы не успеем схватить его?
Мама Роза
 В начале не было ничего, кроме камня. Тзуи-Гоаб сотворил нас из камня. Но потом увидел, что мы не можем жить без воды, ведь вода правит миром, пускает в рост дерево и траву, поит человека и прочих тварей. Женское лоно – это вода, дети выплывают отсюда в мир. А когда земля становится сухой и грозит вновь обратиться в камень, мы молим о дожде, и молитву эту люди моего племени произносят с самого сотворения мира:
В начале не было ничего, кроме камня. Тзуи-Гоаб сотворил нас из камня. Но потом увидел, что мы не можем жить без воды, ведь вода правит миром, пускает в рост дерево и траву, поит человека и прочих тварей. Женское лоно – это вода, дети выплывают отсюда в мир. А когда земля становится сухой и грозит вновь обратиться в камень, мы молим о дожде, и молитву эту люди моего племени произносят с самого сотворения мира:
О ты Тзуи-Гоаб
Отец отцов наших
Отец наш!
Раскрой утробу громовой тучи
Даруй жизнь стадам
Даруй жизнь людям тоже, мы молим тебя.
Мне худо
От голода
От жажды
Позволь мне вкусить от сочных плодов земли
Разве ты не Отец нам
Отец отцов наших
Тзуи-Гоаб?
И мы возблагодарим тебя
И мы восхвалим тебя
Тебя Отец отцов наших
Тебя бог наш Тебя
Тзуи-Гоаб
Эта молитва не на каждый день. Не для простой засухи. Давно уже я приметила: одна и та же вода, дающая зеленую жизнь вельду и поящая человека и животное, может смыть пашни, потопить стада и сровнять горы с землей. Ведь наши Скурвеберхе, наши Грубые горы, всегда тут, всегда вроде бы те же самые, хотя они постоянно меняются. А изменяет их вода. Иногда очень медленно и терпеливо, течет год за годом по капле, а иногда бурными и нежданными потоками. А потому надо знать наверняка, чего же ты хочешь от Тзуи-Гоаба, когда произносишь молитву о Дожде. Он дает жизнь, но и сама жизнь может обернуться смертью. Только вода изменяет мир, но ты не в силах принудить ее сделать это по твоему повелению. Ты молишь о воде, и тебе ее посылают, но ты не в силах предсказать те перемены, что она учинит. Тебе приходится принять все, как есть, даже если она смывает тебя вместе с землей, в которую ты пустил корни.
Потому-то я и внушаю людям, что сила в терпенье. Самое главное – научиться терпеть и выжидать. Но мужчинам неведомо, что такое терпенье, они не умеют ждать потопа. «Будь терпеливым, – твердила я каждому, кто приходил ко мне, – не торопи и не принуждай. Ты ведь и сам не знаешь, что за воду получишь, когда допросишься».
Я чувствовала: оно надвигается. Нетерпение, беспокойство в самой земле. И каждый на свой лад лишился покоя.
Николас, повадившийся ходить ко мне за помощью с первых же дней женитьбы. Он боялся, как бы его не увидали у меня в хижине, и потому до поздней ночи бродил по вельду, притворяясь, будто просто гуляет. Если у меня был гость, он не заходил в хижину, лишь тень его мелькала мимо во тьме. Но если не было никого, он подсаживался к очагу, как в те давние дни, когда они с Галантом приходили послушать мои рассказы. Он не сразу признался, зачем ходит, просто заходил, здоровался и подолгу молча сидел у огня.
– Мама Роза, – наконец сказал он как-то раз, – помоги мне.
– Что случилось, Николас? Я уже давно вижу, что у тебя в сердце какая-то заноза.
– Я теперь женат, мама Роза. Но у меня не ладится с женой.
Я и сама не слепая и ничего нового тут не услышала, но притворилась, будто не понимаю.
– Она вроде добрая женщина. И будет доброй матерью. У нее крепкие бедра.
– Беда не в ней, мама Роза. Беда во мне. Я не могу делать это как следует.
– Что? – Ему надо было высказаться и облегчить душу.
Долго собираясь с духом, он наконец выпалил:
– То, что мужчина делает с женой, мама Роза. Это у нас никак не ладится. Она слишком требовательная.
– Почем ты знаешь, что она требовательная? Ты ведь понимаешь, что тебе с ней нужно делать, так?
– У меня нет желания делать это.
– Из-за Эстер?
– Зачем ты спрашиваешь? – сердито сказал он.
– Затем, что знаю, ты давно присох к Эстер. Но это яйцо надо не высиживать, а разбивать.
Его голос задрожал.
– Но что же мне делать, мама Роза?
– Стать настоящим мужем своей жене.
– Знаю. Я пробовал. Но ничего не выходит. Думаю, она презирает меня. Она обращается со мной как с ребенком, а не как с мужчиной.
– Вот и докажи ей, что ты мужчина. Объезди ее как настоящий мужчина.
– Как настоящий мужчина… – Даже в тусклом свете очага было видно, как он залился румянцем. – Тут что-то с этим не так, мама Роза. Нет ли у тебя какого снадобья, чтобы вылечить меня? Я не могу жить с Сесилией в таком унижении.
– Представь себе, что она – Эстер.
Он подскочил словно ужаленный.
– Я не могу так думать об Эстер!
– А разве ты не хотел жениться на ней?
– Конечно, хотел. Но не… но не для того, чтобы делать это с ней.
– Не понять мне тебя, Николас. Вы, белые, вечно все запутываете.
– Помоги мне, мама Роза! Что скажут отец и мать, если узнают, что я сплоховал?
– Ничего ты не сплоховал. Нагляделась я на вас с Галантом, когда вы были маленькими. У тебя все что Надо, не хуже чем у него. Думаешь, я не знаю, чем вы занимались у запруды?
– Но что же тогда со мною?
Я попыталась помочь ему снадобьями, травами, которые даешь старым мужчинам, и сказала, чтобы он пил их вместе со стаканом бренди на ночь. Где не выручат травы, поможет бренди. И какое-то время думала, что дела у них пошли на лад. Но вскоре он заявился опять.
– Только одно средство могу я придумать, – сказала я наконец. – Эдакая болезнь находит порой на белых мужчин. Должно быть, ваши женщины не слишком глубоки. Корням мужчины нужна вода, та, что в глубине женщины, а у белых женщин эта вода, похоже, есть не всегда.
– Так что же мне делать?
– Смочи свои корни в черной женщине. Это даст им силу и жизнь.
– Не хочу! Это ведь грех.
Я только пожала плечами.
– Не хочешь так не хочешь. Но тогда нечего ходить ко мне и жаловаться.
– Библия запрещает это.
– Выходит, ты думаешь, что твой отец мог делать то, что запрещает Библия?
– О чем это ты?!
Он уставился на меня так, словно его лягнула кобыла.
– А кто, ты думаешь, сделал твоего отца таким мужчиной, каков он есть?
Может, не по-доброму было говорить ему такое. Но ему надо было знать.
– Я не всегда была такой, как теперь, – сказала я. – Теперь я просто старая сушеная фига. Но когда я была молодая, у меня было тело хоть куда. И твой отец приходил ко мне.
Он убежал от меня в такой спешке, точно я была заразная, спотыкаясь и чуть не падая на бегу. И больше не приходил. Но я-то не слепая. И не глухая тоже. И когда он начал по ночам наведываться к Лидии, я поневоле усмехалась в душе. А когда родился первый ребенок, решила, что он и вовсе скоро выздоровеет. Но чего я уж никак не ожидала и что меня тревожило, это то, как его жена стала обращаться с Лидией. Что эта несчастная безумная женщина могла понимать в том, что хорошо, а что плохо? За что ее так? Но Сесилии перечить не стоило, она порой бывала по-настоящему жестокой.
Беспокоил меня по-прежнему и сам Николас. Вскоре стало ясно, что дело тут не только в корнях. С отцом-то все было куда проще. Влага из лона женщины быстро его вылечивала. Но влага, нужная Николасу, была иной – куда глубже, темнее и опаснее. Поток, который, я чувствовала, начал набухать под почвой нашей фермы еще задолго до того, как разразилась гроза. Невидимый поток и оттого особенно зловещий. И разве я могла преградить ему путь?
С Галантом тоже было не легче. Как-то ночью я нашла его в вельде, он швырял камни в темноту. В вельде, далеко от фермы, в том каменистом месте, куда на заре мира упали камни, свалившись с гор. Я долго стояла и следила за ним, а он меня не замечал. Поднимет камень и швырнет, поднимет и швырнет со всей силы, и так без конца, пока из горла не начали вырываться хрипы.
– Что ты делаешь, сынок? – спросила я, подходя к нему.
Он резко, будто испугавшись, обернулся и отер пот с лица.
– Ничего, камни бросаю, – угрюмо отозвался он. – А что, нельзя?
– Тебя кто-то обидел? – спросила я. – Кто?
Я знала, конечно, но решила, что лучше, если он скажет сам и облегчит душу.
Он поднял еще один камень и разбил его вдребезги о большой валун, в темноте взметнулись искры.
– Поосторожнее, – предупредила я. – Стоит такому камню отлететь назад в тебя, и ты будешь мертвехонек.
– Ну и что с того? – Он швырнул еще один камень.
– Пойдем со мной, Галант. Я напою тебя чаем. Это успокоит тебя.
– Нечего меня успокаивать.
Я уселась в стороне, подальше от его злобно летящих камней, поджидая, когда он выпустит из себя всю ярость. Он бросал и бросал до тех пор, пока уже и руки не мог больше поднять, а это немало, потому как Галант хотя и худущий, но крепкий, как кремень.
Швыряя камни, он кричал и ругался так, что мне казалось, будто в воздухе запахло серой, словно тут ударила молния. И вдруг я услышала, как он плачет. И даже когда остановился, задыхаясь от изнеможения, то все еще продолжал рыдать.
Наконец я снова заговорила с ним:
– Пойдем ко мне в хижину, Галант.
На этот раз он подчинился, совершенно измотанный, опустив плечи и понурив голову – весь задор вышел из него. Он что-то снял с дерева и перекинул через плечо, будто пустой мешок, потом догнал меня, и мы направились к моей хижине. В свете очага я увидела, что это был совершенно новый плисовый жакет.
– Откуда это у тебя? – спросила я. – Неужто старый Дальре сшил его для тебя?
Как раз тогда этот иссохший старикашка, портной и сапожник, поселился на ферме у Николаса. Помня Галанта с тех пор, как кормила его грудью, я знала, что то была его первая в жизни обнова: обычно он получал обноски Николаса, благо они были одного роста и телосложения.
– Николас дал, – буркнул он, бросая жакет на пол в угол. – Должно быть, чтобы откупиться от меня.
Он вытащил из кармана кусок жевательного табака – я снова подивилась, откуда у него табак, но спрашивать поостереглась – и сунул его за щеку, а я тем временем подвесила над очагом котелок с бушевым чаем.
– За ребенка? – спросила я, не поднимая глаз.
– Да. – Он сплюнул. – Дал мне сегодня днем. Не сказал ни слова, но я-то знаю, что за ребенка.
Я продолжала возиться с котелком, подкидывая в огонь дрова, дуя на угли и помешивая чай.
– Галант, – сказала я, понимая, что сейчас должна говорить со всей осторожностью, – какой смысл жить с такой бурей в душе? То, что случилось, ужасно, но все позади.
– Ничто не позади, – ответил он из темноты, тяжелой от дыма. – Вот что я тебе скажу, мама Роза. Ничто никуда не уходит. Все остается возле тебя, вроде камней на земле. Об один споткнешься. Другие поднимешь и отшвырнешь. Но все остается тут. Все и навсегда.
– Трудно жить с таким мыслями, Галант. – Я налила ему чай покрепче, какой люблю сама и какой ему сейчас был нужен.
– Я готов покориться всему, что бы ни случилось, мама Роза, – мрачно продолжал он. – Мы уже взрослые. Наше время уходит. Но есть ведь и дети. А где мой ребенок? Когда я отправлялся в Кару, чтобы пригнать коров, Давид был здесь и с ним все было в порядке. А когда вернулся, его уже похоронили. Бет говорит, что он заболел. Говорит, что умер от болезни, а не от битья. Скажи мне правду, мама Роза. Мне надо знать правду.
– Бет – жена тебе. Коли она говорит так, то надо ей верить.
– Но я спрашиваю тебя.
– Меня не было поблизости, когда это случилось.
– Никто не хочет сказать мне. Все боятся.
– А с Николасом ты говорил?
– Бет сказала, что он приходил и просил прощения. Она сказала, что он и в мыслях не держал убивать ребенка. Что ребенок умер от болезни.
– Николас – твой баас, Галант. И наша жизнь, и наша смерть у него в руках. Так уж устроен мир.
– Но Давид – мой ребенок.
– То, что случилось, ужасно, – повторила я, дуя на чай и поглядывая на Галанта поверх кружки. Сквозь чад я видела его горящие глаза. Я вспоминала ту ночь, когда они с Эстер прятались в моей хижине в грозу, укрывшись большой кароссой, так много лет тому назад. – Ужасно, – снова сказала я. – Но ты еще молод, и Бет женщина здоровая. Вы еще заведете полную хижину детей.
– Я покончил с Бет.
– Вы же так хорошо с ней ладили.
– Она не уберегла ребенка.
– Тебе не в чем упрекнуть ее.
– Она не остановила Николаса.
– А кто может остановить его? Он – баас, Галант, пора тебе наконец понять это. Что бы он ни делал, у него есть на это право, потому как он – хозяин. Прекрати задавать вопросы, а не то впутаешься в неприятности. Запомни, Николас – баас в Хауд-ден-Беке.
– Хауд-ден-Бек, – с горечью повторил он. – Заткни-Свою-Глотку.
И больше ничего не добавил. Мы молча пили чай, а когда кружки опустели, продолжали сидеть возле очага. Все было как в прежние времена. Ночь тяжело нависала над нами всей своей тушей. И вдруг в кромешной темноте мы оба одновременно услышали какой-то странный темный звук: тха-тха-тха. Нельзя было понять, откуда он шел, приближался или удалялся. Но мы явственно слышали его. Тха-тха-тха. Я быстро схватила кароссу, подползла к Галанту и накрыла нас ею с головой. Мы едва дышали. Галант дрожал, точно от холода, хотя ночь была теплой. То был тхас-шакал. Я тотчас же признала его. Никто и никогда не видал его, но вот он явился. Бродит по округе, стоит только кому-нибудь случайно наступить на свежую могилу. Дух мертвого, оборачивающийся шакалом, чтобы пугать живых. Тха-тха-тха. Даже сквозь толстую кароссу мы ясно слышали его голос и сидели, боясь шелохнуться, пока наконец вой не начал стихать, словно удаляясь прочь, еще дальше в ночь, быть может, в сторону фермы.
– Утром я посыплю могилу листьями бучу, – пообещала я, когда все стихло и мы выбрались из-под кароссы. – Это принесет ему успокоение. А теперь пора спать.
– Я не пойду домой в темноте.
– И не надо. Спи здесь.
Он свернулся клубочком в углу. Я сидела возле тлеющих углей, глядя на темный комок его тела, прикрытый новым жакетом. Я припомнила его детство, как он спал возле меня, прижавшись к моему телу, как гладила его, метавшегося во сне, пока он не затихал. И сейчас, в эту ночь, ему нужна была женщина. Но не я – женщина, которая стала бы ему женой и утишила его печали. Он отвернулся от Бет, а это худо. Мужчине вроде него нельзя без женщины.
Я вспоминала, как они с Николасом, младенцами, сосали мои груди. Мои ягнята, черный и белый. Сидя тут той ночью и карауля его тревожный сон, я думала: Сегодня я готова разорваться надвое, подобно древнему, источенному водой, разваливающемуся на куски камню. Ведь я люблю их обоих. И жалею их обоих.
Я все сидела и думала, думала. Так много расшевелил во мраке той ночи вой тхас-шакала. Умерший ребенок. Все мертвецы, населяющие наш мир. Скоро и мне помирать. И Галанту. Всем нам. Один за другим мы умираем, каждый в свой черед, как и живем. И в некий день, когда уже умрет последний из моего народа, когда мы останемся на земле только памятью, только преданиями, передаваемыми по ночам детям белого племени их родителями, все наши бесчисленные мертвецы восстанут из могил, чтобы одиноко бродить в темноте. Ночью, когда дома затихнут и все покажется покинутым и заброшенным, несчетные толпы мертвецов будут рыскать по здешней земле – духи всех тех, кто умер в этой прекрасной, неистовой стране, по которой люди моего племени некогда странствовали свободно. А потом останутся только мертвецы. Словно огромный черный поток, заполнят они собой все пустоты, беззвучно поднимаясь выше и выше, пока все вокруг не станет ровным и гладким, черным и мерцающим в лунном свете Тзуи-Гоаба. Тха-тха-тха.
Николас
 Река выходила из берегов. Я все еще судорожно цеплялся за что-то, за ветвь или ствол дерева, но хватка слабела. Когда это началось? Даже этого мне не понять. Конечно, была смерть того ребенка, но она лишь напомнила о существовании потока, который уже начинал выходить из берегов. И все же именно та смерть в каком-то смысле определила все.
Река выходила из берегов. Я все еще судорожно цеплялся за что-то, за ветвь или ствол дерева, но хватка слабела. Когда это началось? Даже этого мне не понять. Конечно, была смерть того ребенка, но она лишь напомнила о существовании потока, который уже начинал выходить из берегов. И все же именно та смерть в каком-то смысле определила все.
Если б я мог объяснить случившееся Галанту. Что я мог сказать ему, если и сам был не в силах разобраться в этом до конца? Разве довольно того, чтобы просто свалить вину на Сесилию, доведшую меня до крайности? Я женился на ней, я пытался достойно исполнять супружеский долг. Но ее неумолимая требовательность, ее настойчивое желание быть униженной и растоптанной и тем самым оправдать свою женственность – все это устрашало меня. Ее крепкое, молочно-белое, покрытое веснушками тело мучило меня как кошмар – такое пугающе здоровое, такое ужасающе алчное, оно всасывало меня, словно стремясь поглотить целиком, чтобы потом Сесилия могла с еще большим гневом осуждать низость этого акта и, встав на колени возле постели, едва наша «близость» была позади, молить господа об очищении греховной плоти.
Помогло или лишь усугубило зло то жуткое снадобье, которое когда-то давно посоветовала мне мама Роза? Не могу сказать, почему я продолжал прибегать к нему, из-за безнадежной покорности или из-за собственного бессилия перед дьявольским искушением образа, который она своими словами вызвала в моем воображении? Когда я была молодая, у меня было тело хоть куда. И твой отец приходил ко мне. Что это – моя месть ему или последняя попытка стать с ним вровень, хотя бы и заплатив за это погибелью души? Конечно, мой поступок – чудовищное богохульство. Но гореть ли мне за это в аду или Же кара господня сокрыта в самой мерзости физической близости? Утомительные часы с Лидией в смраде ее хижины: ее безучастность, побуждающая меня к нелепой изобретательности и животной грубости, хотя я и знал наперед, что она покорно подчинится всему, чего бы я ни пожелал. Избивал ли я ее в угоду Сесилии за какое-то воображаемое оскорбление, нанесенное моей супруге, или ласкал – для Лидии все это было лишь прихотями и причудами мужского, хозяйского норова. Она ничего не спрашивала и даже никогда не пыталась понять, что я с ней делаю и зачем. Мое влечение к ней значило для нее столь же мало, как и моя ярость, моя потребность в ней была ей столь же безразлична, как и мое отвращение – к ней и к самому себе. Я – хозяин, а она рабыня, и она будет делать то, что я велю, вот и все. Я мог ласкать или пинать ее или глумливо обсыпать ее влажное тело перьями разодранного матраса – она ко всему относилась одинаково равнодушно. А когда порой я был готов придушить ее, лишь бы вызвать у нее хоть какой-то ответ, то сдерживался только потому, что понимал: любое насилие она воспримет просто как проявление того, что она считала моим хозяйским «правом». И может быть, единственное оправдание всему этому заключалось в том омерзении, которое пробуждалось во мне, и в неминуемой яростной злобе, с которой я затем возвращался к моей жене, столь безупречно чистой и пристойной, ожидающей, в равной мере благочестиво и нетерпеливо, своего – и своей чистоты – попрания.
Быть может, было бы проще и менее отвратительно вместо этой слабоумной Лидии взять Бет? Должен признать, что после смерти ребенка Бет испытывала ко мне странное влечение, которым едва ли не щеголяла. Но именно оно в конце концов и удержало меня. И не только из-за вины перед ней, хотя господу ведомо, как я казнился своей виной, но и из-за страха. Во имя чего, думал я, если не ради мести, она преследует меня повсюду? И что может быть легче, чем обрушиться на меня, когда в спазмах похоти я буду особенно уязвим? Искушение было сильным, но страх сильнее. К тому же мое отвращение к Лидии как бы уменьшало греховность нашей связи: в самом поступке заключалось и наказание за него. С Бет это могло бы стать обычным и не столь отравленным удовольствием, а оно было бы куда более греховно. Если бы Сесилия хоть раз сказала что-нибудь, если бы она обвинила или изругала меня, взмолилась к господу, прося вразумить или покарать, но она благочестиво и безмолвно подчинялась всему, на свой лад столь же покорная, как и Лидия. И если даже я терпел неудачу, если посреди нашего безлюбого спаривания мое сознание отключалось и я засыпал, она мягко убеждала меня, что это не имеет значения: попирать ее – со всей яростью или в полнейшем равнодушии – вот все, что от меня требовалось.
Но время шло, и она делалась все беспокойней, все напористей. Она понемногу свыклась с причудливой загадкой своей власти надо мной, и в ее голосе появилась едкость. Начались попреки. Почему у нас нет сына? Все почтенные люди имеют сыновей. Или это наказание мне за какой-то чудовищный грех, о котором и помыслить страшно? Тут она замолкала и подчеркнуто язвительно глядела на меня, хотя никогда не произносила имени Лидии или Бет.
– Всему свое время, – настаивал я. – Если будет на то воля господня.
– Даже у Эстер есть сын. Кто бы мог подумать, что ее плоское тело способно произвести на свет ребенка? Но вот у нее сын, она ждет второго. И я уверена, что это опять будет мальчик.
– Почему ты винишь меня? – однажды взорвался я. – Если ты так жаждешь сына, то почему не родишь его? Ведь это твое тело должно вынашивать его.
– Даже у рабов есть сыновья! – резко бросила Сесилия. В тот раз она впервые посмела сказать такое и, наверно, сама поняла, что зашла слишком далеко, но, начав говорить, уже не в силах была остановиться. – Даже у Галанта есть сын.
Может быть, именно поэтому она с самого начала невзлюбила этого ребенка, жаловалась на шум, когда он плакал, привязанный к спине Бет, а когда малыш начал ползать, твердила, что он «мешается под ногами».
– Но мне не особенно хочется иметь сына, Сесилия, – говорю я. – Я счастлив дочерьми, которых господь даровал мне. Я люблю их.
– Что-то должно быть не в порядке у мужчины, не желающего иметь сына. – В ее голосе было злорадство. – Вот то-то и оно. Ты не настоящий мужчина. Иначе почему ты слабеешь, стоит тебе взяться делать то, что положено мужчине?
Я едва не ударил ее, но на кухне была мама Роза, которая слышала наш разговор. В бессильной злобе я кинулся вон из дома, а завернув за угол, споткнулся о ребенка Галанта, который ползал, ища мать. Я не смог сдержаться. Но клянусь господом богом, я никогда не желал ему смерти, в любое другое время я бы и пальцем не тронул его.
Что за странная, бешеная, ослепляющая ярость порой вдруг накатывает на меня? Не припомню, чтобы такое случалось со мной в детстве. В этот миг я словно бы раздваиваюсь: словно откуда-то сверху смотрю на себя самого, буйствующего и орущего внизу – настоящее безумие, бессмысленное и глупое. Мне хочется спуститься вниз и взять за руку этого разъяренного человека и его жертву, хочется попросить их обоих не принимать все происходящее чересчур всерьез, сказать им, что все это просто случайность, какая-то ужасная ошибка, – но я ничего не могу поделать, не могу остановиться. Мне хочется выкрикнуть богу: Почему ты так поступаешь со мной? Почему я больше не понимаю тебя? Я всегда старался жить согласно твоим заповедям. Когда я ребенком слушал глубокий рокот отцовского голоса, все казалось мне таким чистым, утешительным, само собой разумеющимся. Откуда же взялось это смущение, это ощущение того, что Слово перестало соответствовать моей нынешней жизни, откуда эта неспособность властвовать над миром, в котором мне было предписано быть хозяином? Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю[18]18
Послание к римлянам, 7:19.
[Закрыть].
Нет, ничто не помогало. Едва я произносил эти слова, как они теряли силу, становились просто очередной уловкой. Если бы я мог поговорить с кем-нибудь. С Галантом. Но нас разделял мертвый ребенок. И более всего меня пугало тревожное предчувствие того, что не эта беда самая страшная, что она, вероятно, лишь предвестие настоящего бедствия.
Онтонг
 Почему ты ни во что не вмешиваешься, спрашивают меня. Почему и пальцем не пошевелишь?
Почему ты ни во что не вмешиваешься, спрашивают меня. Почему и пальцем не пошевелишь?
Не по мне это, вмешиваться. Навидался я таких, которые вмешивались. Знаю, что с ними делают.
О себе рассказывать нечего, это никого не касается. Тело мое в их руках, а мысли мои им не по силам. Аллах их знает, сказал бы я раньше, но аллах уже давно покинул меня, а я его.
Как ты терпишь такое обращение с Лидией, спрашивают. Она же твоя. Живешь с ней. Вот и заступись.
Моя-то моя. И жил с ней, это точно. Жил с ней, но как бы порознь. Ведь коли баас вправе спать с ней, то вправе и делать все остальное, что вздумает. Тело принадлежит всем. Когда мы закрывались в хижине и прятались от мира, я обнимал ее, успокаивал, накладывал мазь на раны – это я мог. А когда вставало солнце и раздавались удары колокола, мы возвращались в мир и шли порознь. Чему быть, того не миновать.
Как долго человек может сопротивляться, пока его не сломают, спрашивал Галант.
Никого, говорю, не ломают понапрасну. Если сломали, значит, сам и виноват. Вот Ахилла сломали, а почему? Потому что смолоду бесился, не понимал, что можно изменить, а чего нельзя. А теперь по воскресеньям или ежели баас уедет куда-нибудь он первым делом напьется и свалится, рыдая, в темном углу или давай приставать к другим с сопливыми рассказами о далекой стране, откуда он родом, о тамошних девках, которых, мол, не довелось ему расчухать да пощупать как следует. И уж выговариваешь ему, утешаешь, а то и стукнешь или дашь пинка под зад, лишь бы расшевелить. Что толку распускать нюни? Человек несет свою ношу и должен нести, должен терпеть и терпит. Выживают терпеливые и неунывающие, говорил я ему. Камень можно поднять и швырнуть прочь, а то и разбить ударом лома. А воду в руке не удержишь – никому не удержать. Вот и живи, как вода.
Слов нет, как он меня злил. Я ведь тоже, ежели захотел бы, припомнил бы имена и названия, от которых по спине пробегает дрожь, сладко звучащие, врачующие любую боль имена. Я мог бы сказать: Джокьякарта, Мадура, Черибон. Я мог бы сказать: Сурабая, Маланг. Звучат они у меня в ушах – и словно бы вижу пальмы, и летящих голубей, и море, и тяжкую поступь буйволов, пускающих пузырьки в воде, и вкус кокосового молока на языке, и голоса детей на рисовых полях, и запах гвоздики и кориандра, шафрана и перца, и сладкую кору корицы. Но я помалкиваю об этом, потому что никого это не касается. Только меня.
И сны. Куда деваться от луноцвета, и птиц, и женщины, стройной как пальма, женщины, ничуть не хуже молодой девушки Лейс, которая стала матерью Галанта; а как проснешься в печали и изнеможении – рядом с тобой только Лидия. Но не упрекать же ее за то, что она не женщина моих снов? Я с благодарностью беру ее и делю с ней то, что дарует нам ночь, зная, что скоро снова день, а дни тут тяжелые. Сны помогали терпеть; я ведь понимал: собирать пожитки и отправляться на поиски той несуществующей женщины бесполезно. Человек должен нести свою ношу и во сне и наяву, иначе не выжить.
– Понял, о чем я? – спрашивал я Галанта.
– Хотел бы понять, – отвечает. – Но это непросто.
– Знаю, что непросто. Но в конце концов тебе легче, чем мне, – ты ничего другого не знаешь. Ты здешний. Здесь все твое. А меня лишили всего, едва мне стукнуло десять лет.
– Не уверен, что легче, – отвечает. – Может, как раз тебе и легче. Когда жить невмоготу, ты видишь во сне свою родину. Где бы ты ни был, ты знаешь, что она есть. А мне идти некуда. Но и здесь я не могу. Так что же мне делать?
– Это ты по молодости, – утешаю я. – Станешь старше – успокоишься.
– Думаешь, мне хочется становиться старым и успокаиваться?
– Хочешь ты или не хочешь, того не миновать.
Конечно, это его ничуть не утешало. А я все думал и тревожился о нем. Может, он и вправду мой сын? Сколько раз по вечерам или во время работы, если он не видел, пытался я высмотреть в нем что-то мое: выражение лица, поворот головы, форму ушей, осанку – признаки сходства. Но как тут можно быть уверенным? Да и разве оно важно? Он здесь, и я здесь, и мы оба в одной упряжке.
Поначалу, когда мы только перебрались в Хауд-ден-Бек, мы с ним по очереди спали с Лидией и делили между собой дневную работу. Мне казалось, что он вроде бы начал обживаться. Он по натуре своей одиночка, таким всегда и останется, собственное общество дороже ему любой компании – свойство, которое он, возможно, унаследовал от меня, – но в этом ведь нет ничего тревожного или дурного. Было ясно, что у них с Николасом все изменилось, да такого и следовало ожидать – они ведь больше не дети. Но они пытались приспособиться, каждый по-своему, один к другому, словно два больших пса, которые кружат и обнюхивают друг друга, прежде чем подружиться. А когда появилась Бет, все пошло еще лучше. В первый раз в жизни Галант вроде бы успокоился по-настоящему. И я поверил, что и дальше все пойдет хорошо.
Но после смерти ребенка я вновь встревожился. Я знал, что он ходил к маме Розе и говорил с ней, и она, должно быть, образумила его, поскольку не случилось немедленной стычки. Но он продолжал о чем-то мрачно размышлять. Ничего, по сути, до конца не уладилось. Он все как будто ожидал чего-то, даже торопил, чуть ли не нарочно нарываясь на неприятности. Когда у кухни мы поджидали, пока Бет вынесет еду, Галант встанет, бывало, на пороге, чтобы его непременно услышали в доме, и затеет с ней перебранку:
– А что, Бет, дадут нам сегодня поесть? Или надо ждать, пока нас накормят вместе с собаками?
– Хочешь заработать порку? – отвечала она, беспокойно оглядываясь на дверь.
А когда еда была готова, он смотрел и ухмылялся:
– Опять та же бурда? Или они думают, что мужчина будет сыт такой похлебкой? Может, они ждут, пока сдохнет какая-нибудь овца, чтобы дать нам кусок мяса?
– Я приготовила то, что велели.
Как-то раз Николас вышел на кухню в самый разгар такой перепалки. Я отошел, от греха подальше, и занялся трубкой – не дай бог, втянут в свои склоки, – но хорошо слышал, о чем они говорили.
– Значит, еда тебе не по вкусу, Галант? – спросил Николас.
Галант что-то буркнул в ответ.
– Ты никогда не жаловался в Лагенфлее.
– У старого бааса не на что было жаловаться. А тут, в Хауд-ден-Беке, похоже, туговато с мясом.
Я почувствовал, что Николас начинает злиться. Он протянул руку к задней стороне двери, где обычно висел бич, но так и не снял его с крюка. Его нужно было распалить куда сильней, чтобы он решился избить Галанта. Мы все это понимали. И именно потому-то, думаю, Галант и продолжал дразнить его: хотел испытать, насколько далеко может зайти. Он знал, конечно, что после смерти ребенка ему дали еще большую волю, чем, прежде, ведь всем было ясно, как тяжко опечален случившимся Николас. Но такому, как Галант, что ни дай, все мало. И он не угомонится, пока не убедится, сколько можно гнуть сук, пока тот не сломается. Он и давай его гнуть, то посильнее, то послабее, да все прислушиваясь – не раздался ли неизбежный треск. А вот это уж вовсе не по мне, и, главное, без толку и никому не нужно. Но переспорить его нечего было и пытаться.








